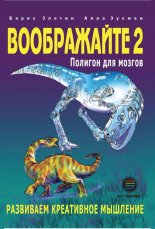Очерки по социологии культуры Дубин Борис

© Б. Дубин, наследники, 2017
© А. Рейтблат, составление, предисловие, библиографич. список, 2017
© Радио Свобода, фото, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
От составителя
Борис Владимирович Дубин (1946–2014) был очень одаренным человеком, причем одаренность эта распространялась на самые различные сферы: от поэзии до социологии.
Вот как он характеризовал себя в curriculum vitae 2013 года:
«Родился 31 декабря 1946 г. в Москве. Закончил филологический факультет МГУ (1970), занимался исследованиями по социологии книги и чтения в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (1970–1984), Институте книги при Всесоюзной книжной палате (1984–1988). С 1988 до 2012 г. – в Аналитическом центре Юрия Левады (Левада-Центр, до 2004 г. – ВЦИОМ, ВЦИОМ-А). Преподавал социологию в Институте европейских культур (РГГУ), Московской высшей школе социальных и экономических наук, Государственном университете – Высшей школе экономики.
Области научных интересов: социальные изменения; общественное мнение и политическая культура; социология религии, литературы, искусства, массовых коммуникаций; переводоведение.
Автор книг “Есть мнение!” (1990, с коллективом авторов), “Советский простой человек» (1993, с коллективом авторов), “Литература как социальный институт” (1994, в соавторстве с Л. Гудковым), “Интеллигенция” (1995, в соавторстве с Л. Гудковым), “Литература и общество” (1998, в соавторстве с Л. Гудковым и В. Страдой), “Слово – письмо – литература” (2001), “Интеллектуальные группы и символические формы” (2004), “На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в XX веке” (2005), “Жить в России на рубеже столетий” (2007), “Проблема «элиты» в сегодняшней России” (2007, в соавторстве с Л. Гудковым и Ю. Левадой), “Общественный разлом и рождение новой социологии: Двадцать лет мониторинга” (2008, с коллективом авторов), “Классика, после и рядом” (2010), “Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь” (2011), многочисленных статей по социологии, ряд которых издан на основных европейских языках.
Переводчик, автор работ по истории мировой литературы и культуры. Лауреат премий журналов “Иностранная литература”, “Знамя», “Знание – сила”, Министерства культуры Венгрии, имени Анатоля Леруа-Болье (Франция – Россия), имени Мориса Ваксмахера (Франция – Россия), Премии Андрея Белого за гуманитарные исследования (2005), Международной премии Ефима Эткинда (2006). Кавалер ордена Франции “За заслуги” (2008)».
Уже по этой краткой справке видно, что Б.В. Дубин оставил богатое литературное наследие[1]. Он много переводил – поэзию испанского Возрождения, лирику испанского и английского романтизма, стихи и эссе О. Паса, С. Вальехо, Х. Лесамы Лимы, Х. Ортеги-и-Гассета, А. Мачадо, Х.Р. Хименеса, Ф. Пессоа, Дж. Агамбена, И. Берлина, У.Х. Одена, Х. Арендт, С. Зонтаг, Э. Ади, К. Бачинского, Ч. Милоша, Г. Аполлинера, А. Арто, С. Беккета, Ф. Понжа, А. Мишо, Р. Шара, М. Бланшо, Э.М. Чорана, М. де Серто, И. Бонфуа, Ф. Жакоте, Ж. Старобинского, Ж. Дюпена, М. Деги и многих других.
Дубин, по сути, «ввел» в русскую культуру Борхеса, дав большое число образцовых переводов, составив и откомментировав ряд сборников, а потом не раз переиздававшееся собрание сочинений. Цикл его статей о Борхесе мог бы составить отдельную книгу.
В журнале «Иностранная литература» он с 1995 года вел рубрику «Портрет в зеркалах», представив русскому читателю панораму наиболее ярких поэтов и прозаиков второй половины XX века. Писал он и стихи (входил в 1970-х в группу СМОГ), но долго не публиковал их (в советскую эпоху это было сложно по цензурным причинам, а позднее играла роль скромность, а также, возможно, нежелание ломать сложившийся образ социолога); лишь за несколько лет до смерти он выпустил сборник своих стихов и части переводов «Порука» (СПб., 2013).
В постсоветские годы, когда он работал во ВЦИОМе и наследовавшем ему Левада-Центре, Дубин написал много научных статей, посвященных острым проблемам российского общества в сферах идеологии, образования, культуры (они печатались как в журнале ВЦИОМа «Мониторинг общественного мнения», так и в общей прессе («Знамя», «Дружба народов», «Знание – сила» и т. д.)), причем в них был всегда ощутим социально-критический посыл, направленный против тех, кто мешает России стать цивилизованной демократической страной, кто насаждает ксенофобию, хочет вести агрессивную политику и до конца ликвидировать свободу слова. Тяжело переживал он действия российского государства по удушению гражданского общества, которое стало нарождаться в России в первые постсоветские годы, – независимых партий, общественных организаций и объединений, частных средств массовой коммуникации (радио, ТВ, газет и журналов), частных издательств и т. п.
Но, возможно, наиболее ценная часть его наследия – теоретические и эмпирические работы по социологии культуры, прежде всего литературы. Филолог по образованию, Дубин благодаря опыту работы в социологических учреждениях и знакомству с обширным массивом социологической литературы стал профессиональным социологом. Филологическая подготовка позволяла ему избежать схематизации и вульгаризации при социологическом анализе литературных явлений, чем нередко грешат социологи, обращающиеся к изучению литературы.
Б.В. Дубин и Л.Д. Гудков, работая в Секторе книги и чтения Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, создали в конце 1970-х – начале 1980-х годов (при содействии коллег по сектору) своеобразную версию социологии литературы, в теоретическом плане исходившую из понимающей социологии М. Вебера, структурного функционализма, интеракционизма и формальной школы, а в практическом учитывавшую опыт отечественной социологии чтения – от работ Н.А. Рубакина до исследований упомянутого сектора.
Интерпретационную рамку для понимания социальных процессов, отражаемых и опосредуемых литературой, дала теория модернизации (усвоенная главным образом через работы Ю.А. Левады и А.Г. Левинсона). Соавторы стремились показать, какие социальные потребности и на какой стадии порождают литературу как социокультурное образование, какие факторы обеспечивают ее структурную дифференциацию (выделение различных социальных ролей: писателя, издателя, критика, библиотекаря, историка литературы, школьного учителя, читателя и т. п.), как воспринимаются литературные произведения в обществе, какова смысловая структура литературных видов и жанров. Проект в теоретическом плане был чрезвычайно амбициозным, поскольку ставил задачу системного описания литературы как социального института (до того не ставившуюся ни в литературоведении, ни в социологии). Исходным мотивом была концептуальная потребность дать строгое описание того, как в литературных текстах (экспрессивно-символических формах) могут быть представлены различные социальные процессы, отношения, конфликты, напряжения, а также – механизмы их мысленного, сублимированного разрешения. Внутренним ценностным (идеологическим) обоснованием такой задачи была необходимость увидеть, как в поздней советской литературе (героях, сюжетах, формах времени и пространства, типовых социальных отношениях, конфликтах, желаниях, образах «своих» и «чужих») представлены процессы медленной эрозии тоталитарного сознания, как возникают – вследствие усложнения условий жизни, мобильности населения, урбанизации, усвоения новых культурных образцов – модели нерепрессивных, немобилизационных человеческих отношений, могущих служить индикаторами самоопределения, автономной субъективности, морали, свободы, интимности и доверия. Решение нельзя было искать в предшествующих опытах литературоведения, занятого «отражением общества в литературе» и использующего так называемый «социологический метод», поскольку социологическое литературоведение хотя и предлагало ряд интересных наблюдений, но не выходило за рамки индивидуальных интуиций и остроумных интерпретаций, к тому же нередко грешило вульгарными обобщениями. Дубин и Гудков стремились теоретически и концептуально «адаптировать» нечеткую литературоведческую терминологию, чтобы ее можно было использовать для анализа того, как нормы и правила социального взаимодействия людей (поведения в группах, саморепрезентации), обобщенные типы людей (социальные роли, институты, социальные группы), рамки конструирования реальности и т. п. представлены в средствах литературы – языке, условностях, литературных формулах, героях. А это в свою очередь потребовало обращения к смежным дисциплинам – рецептивной эстетике, социологии знания и идеологии, феноменологии, истории чтения, библиотек, цензуры и т. п., теории коммуникации и проч. В итоге была намечена проблемная структура дисциплины и выработаны методы анализа: социология литературы рассматривалась как один разделов понимающей социологии культуры.
Обширный массив данных о массовом чтении, полученных в ходе исследований Сектора книги и чтения (таких, например, как «Динамика читательского спроса в массовых библиотеках СССР»), давал уникальную возможность эмпирической проверки и анализа выдвигаемых гипотез. Поэтому первые опыты концептуальной интерпретации были посвящены таким разновидностям литературы, как советский роман-эпопея, исторический роман, научная фантастика, детская литература, на которых можно было прослеживать общие рамки конструирования «советской вселенной» – ее границы, структуры внутренней организации общества, типы вертикальной мобильности, технику социализации и т. п.
Но дело не ограничивалось лишь анализом текстов. Соавторам было важно наметить в теоретическом плане, как выработанные инновационными группами (авторами, задающими новые образцы отношений, моральных оценок, представлений о реальности) идеи или формы ретранслируются в обществе, как от групп «первого прочтения» модели нового понимания и интерпретации передаются другим группам и слоям. В этом рассмотрение проблематики старого и нового в литературе вплотную смыкалось с анализом роли элит в обществе и структуры коммуникаций. Поэтому материалом, на котором Гудков и Дубин рассматривали социодинамику культурных образцов, стали, с одной стороны, литературные и общественные журналы, а с другой – школьные и университетские учебники литературы, которые предлагали стандартные основания для социализации входящего в жизнь поколения – образцы понимания истории страны, модели ролевых отношений, основы идеологии литературы, равно как и способы разграничивания того, что является литературой, а что – нет (включая и подавление интереса школьников к тому, что не входит в конвенциональный набор представлений о высокой литературе). Технически это потребовало разработки индикаторов, позволявших видеть уже в самой форме издания тех или иных текстов (серии, дизайн книги, шрифт, наличие комментариев, отбор произведений в писательских сборниках и собраниях сочинений) характер читательской адресации, а значит – проектируемую структуру социального взаимодействия групп носителей авторитета письменной культуры с культурно неполноценными аудиториями. Дополняли тематику литературной социализации и усилия по описанию библиотек (массовых и специализированных – научных, ведомственных и т. д.) как института, аккумулирующего коллективную «память» групп и сообществ разного уровня. Речь шла не только о собственно дисциплинарной парадигме, но и об исследованиях, имеющих вполне практический, в том числе и общественный, смысл: так, анализ журнальной системы СССР показал, как нарастает консолидация этнонациональных элит в республиках, что через несколько лет стало одним из факторов развала советской империи.
Помимо содержательного анализа массовой литературы советского и постсоветского времени Дубин уделял много внимания разработке концептуального аппарата социологического описания литературной системы. Речь идет, прежде всего, о его работах об изменениях в составе тех текстов, которые образуют основу внутренней структуры литературной системы, того, что задает норму «литературности», систему референции различных действующих лиц литературной системы: критиков, читателей, издателей, школьных учителей, а стало быть – и самих писателей. В его интерпретации именно постоянно меняющаяся «классика» (корпус авторов, которых современники воспринимают как образцовых) задает парадигму литературы как института. Но именно поэтому сфера его интересов как социолога литературы не ограничивалась собственно классикой, а охватывала и явления, пограничные с «высокой» литературой, – боевик, исторический роман (и даже внелитературные сферы и явления, организованные по схожим с литературой принципам, – спорт, моду, массовые коммуникации и т. п.).
Возможности продуктивной работы в Секторе книги и чтения в первой половине 1980-х годов с изменением общей атмосферы в стране и в Библиотеке имени Ленина резко уменьшились. Дубин и ряд других сотрудников сектора перешли в Институт книги при Всесоюзной книжной палате и постарались продолжить там свои теоретические и эмпирические разработки. Результатом стала серия статей по социологии книгоиздания, книготорговли и библиотечного дела, анализу искусственного дефицита книг в советское время как стратегии подавления социокультурной дифференциации и интеллектуальных запросов в обществе. Эта работа была продолжена им во ВЦИОМе и Левада-Центре.
К сожалению, условия работы в исследовательских структурах практической ориентации (Сектор книги и чтения, ВЦИОМ / Левада-Центр) не способствовали подробной проработке различных аспектов социологии литературы; были созданы лишь своеобразная «карта» этой проблемной области[2], пропедевтический очерк[3] и описание основных проблемных «узлов»[4]. Помимо этого были написаны десятки статей, посвященных самым разным сюжетам. Хотя писались они на протяжении значительного времени, их объединяет ряд ключевых тем: литература как социальный институт и динамика основных его элементов (писатель, читатель, библиотека, журнал в конце XX – начале XXI в.); соотношение классики, авангардной и массовой литератур, биография как литературная конструкция, соотношение литературы и других форм социальной коммуникации, и др. В соответствии с этим и был структурирован настоящий сборник[5]. Часть вошедших в него работ хорошо известна читателям, другие публиковались в малотиражных изданиях и не входили в сборники работ Дубина.
Б.В. Дубин: «…Если можно назвать это карьерой, пусть это будет карьерой»
Борис Владимирович, пожалуйста, расскажите о своей родительской семье, в какой школе вы учились, как определились ваши интересы. Если предположить, что жизнь – это литературное произведение, значит, в начале этого произведения должны быть какие-то аллюзии на развитие сюжетной линии.
Опрашивать социологов, которые знают все эти хитрости, нелегко, все-таки я умею убегать от вопросов. Ну ладно, буду убегать умеренно. Во-первых, давайте зададим повествованию хронологические рамки. Я сорок шестого года рождения, школу окончил в шестьдесят пятом году, в шестьдесят пятом же поступил в МГУ на филологический факультет, который в семидесятом году окончил. С тех пор началась работа. Вот такие рамки.
Вы москвич?
Я москвич, но москвич какой-то странный… Как, наверное, большинство советских москвичей. Сначала из деревни в столицу перебралась мама моей матушки и постепенно перетащила сюда остальных. Отец тоже из деревенской семьи. Так что и мама, и отец оказались в Москве. Жили на самой окраине города, в Текстильщиках, тогда это был абсолютный край: за поселком – пруд, а за прудом – Подмосковье.
А кто были ваши родители по профессии?
Раньше это называлось «служащие». Мама у меня детский врач – педиатр, а папа – военный врач.
Учились в обычной школе или языковой?
Школа была обыкновенная, самая что ни на есть средняя, сначала в Текстильщиках, а потом мы переехали в район неподалеку от Университета. Там тоже была обычная средняя школа. Может быть, в ней были чуть лучше преподаватели литературы, неплохие преподаватели иностранного языка, в старших классах был отличный преподаватель математики (школа была связана с мехматом МГУ). О профессии никогда не думал, но понимал: будет что-то гуманитарное. В самых общих чертах: зеленая лампа, круг света, книги, мерная, тихая, спокойная работа…
Вы были отличником?
Конечно. Дети военных, как правило, отличники. Школу я окончил с серебряной медалью, но при поступлении в университет это не помогло, сдавал все экзамены на филфак.
Вы на филологический факультет поступали вполне целенаправленно? Это определилось заранее или решение было спонтанным?
А куда еще было поступать? Родители, конечно, меня не одобряли. В занятиях филологией они не видели профессию и хотели чего-нибудь более «положительного», но, с другой стороны, они не знали, чем бы я мог еще заниматься, кроме книг. Я был довольно спортивным, но во всем остальном – человеком гуманитарно-ученого склада. Спорт вполне совмещался с гуманитарной ученостью. Особенно я увлекался баскетболом, но люди моего – среднего – роста в то время на баскетбольную карьеру рассчитывать не могли. Начинался «ростовой» баскетбол, и нас перестали принимать в спортивные секции. Кто знает, может быть, я и пошел бы по баскетбольной линии, тем более у меня кое-что получалось. До районных, городских соревнований я уже дошел, но дальше ходу не было. Куда ж еще идти? На журналистику меня не тянуло, я достаточно дистанцировался от горячей современности – того реального, что так или иначе происходило вокруг. В доперестроечное время никогда не читал газет, никогда не слушал радио, кроме «Голоса Америки».
Круг вашего чтения, вероятно, определился уже в школьные годы?
Я был очень домашний, одинокий и ни на кого не ориентировавшийся человек. Мама меня приучила к чтению еще до школы. Она привела меня в маленькую районную библиотеку. Там я читал все, что попадало под руку, а где-то во втором классе случился, что называется, прорыв… совершенно случайно, в пионерском лагере. Там оказался паренек (я сейчас и не помню, как его звали), который отличался поразительным разнообразием знаний и интересов. Я-то считал, что я много читаю и, в общем, кое-что знаю. Но этот паренек!.. Бывают такие люди – ходячая энциклопедия. Во всяком случае, раньше они были. Это меня так поразило и так понравилось, что я стал читать и днем, и ночью, и всегда. Родители, особенно отец, несколько ворчали. Понятно, что из этого профессии не сделаешь.
Так вот… Сделать профессией это можно было только на филфаке. Филологу можно читать и даже получать какие-то деньги за удовольствие. Вообще филология мыслилась как достаточно нереальная профессия. Мне было понятно, что мои интересы лежат, скажем так, совершенно не здесь. Меня увлекала в большей степени литература зарубежная, а не отечественная, литература нереалистическая, я реализма не признавал (в этом смысле) довольно долго, в том числе русского реализма. Жизнь была совершенно фантастическая.
Что вы имеете в виду под реализмом? Чернышевского?
Ну, Чернышевского, да и великий русский реалистический роман. Тем более что реализм преподавался в школе, а это уже последнее дело. Поэтому любимыми писателями были писатели зарубежные…
Тогда просвещенные люди Хемингуэя читали.
Да, и я читал, но не в такой степени. Я не был в этом смысле модником. Действительно, я был отдаленным от всего и всех, замкнутым человеком. Ориентировался на какой-то собственный мир. Почему эти книги, а не другие – шут их знает. У родителей была Большая советская энциклопедия. Я листал статьи, которые были посвящены литературе, где про писателей говорилось (бред в каком-то смысле): «…искажал действительность», «…ориентировался на символизм, декаданс и проч.». Я этого писателя тут же замечал и искал его книжки. Чем вреднее, с точки зрения Большой советской энциклопедии, тем для меня было притягательнее. В основном круг чтения задавался периодом от романтиков до символистов. По тем временам книг было достаточно. Они были доступны в том смысле, что много было переведено, так или иначе книги можно было найти. Совсем уж авангарда тогда почти не переводили.
Все-таки это был конец пятидесятых – начало шестидесятых годов. Только-только начал просачиваться Хемингуэй, его двухтомник вышел, появилась трилогия Фолкнера. Собственно русско-советская нереалистическая литература тогда вообще не существовала, Булгакова не было – «Мастера…», Платонова еще не было (первый сборничек его я увидел только в университете), обэриутов не было. На что же было ориентироваться? На ту литературу, которую преподавали в школе? Я ее никогда ни во что не ставил. Любимый поэт – Блок, и все, что вокруг символизма. Блоком я был увлечен все отроческие годы, в двенадцать – пятнадцать лет, до состояния бреда, до потери реальности….Поэтому куда? На филфак.
Извините, один «политический» вопрос. А комсомол и вся эта сфера присутствовали в вашей жизни?
Принудительно. Это очень простая история. Если не считать затерянности в этом, скажем, символистском романтическом мире, складывались типовые ситуации. Да и затерянность эта, я думаю, не была такой уж редкостью, тоже случай типовой. С комсомолом приключилась очень типичная история. Я ни за что не хотел всем этим заниматься, не имел никакого отношения к этому вплоть до одиннадцатого класса.
Мы были последним поколением советских школьников, которые учились одиннадцать лет. И в выпускном классе, где-то зимой, ближе к весне, преподаватели, которые хорошо ко мне относились, спрашивают: «Ты куда хочешь поступать?» – «На филфак». – «Как на филфак? Ты же не комсомолец?» Я говорю: «Ну и что?» – «Ты что, даже и думать нечего, поэтому ты давай». Ну, я как всегда, как та девушка, которая думала, что рассосется… Но ничего не рассасывалось, и ближе к весне за меня взялись все, от директора и до преподавательницы литературы. Я же медалист в перспективе….Ну, что делать? Надо так надо. Созвали собрание, приняли. Этим дело закончилось. Опять-таки не помогло, поскольку происходили постоянные конфликты – теперь уже на филфаке, с руководством. Я был не совсем благонадежный, но это уже филфаковские дела.
Ближе к концу школы меня вынесло через мою будущую жену на московских неподнадзорных поэтов. Тогда они еще не были даже кружком, скорее распространялись как круги, что ли. Шел примерно шестьдесят четвертый год. Вся эта история, поэтическая, продолжалась примерно по шестьдесят шестой, то есть последние два года школы и первый год университета. Тогда мы создали что-то вроде литературного общества. Оно называлось СМОГ. Я не входил в число его наиболее активных деятелей, но в круг активного общения входил.
Общество молодых гениев?
Да, «самое молодое общество гениев». Там были замечательные поэты: Лёня Губанов, Володя Олейников, Володя Батшев, Сережа Морозов. Это те, кого я лучше знал, действительно очень хорошие поэты. Затем кто-то из них бросил писать, Лёня помер, судьбы у всех сложились по-разному. Так вот. Среди них было несколько очень интересных поэтов и интересных людей. Для меня, человека одинокого и ни с кем не общавшегося, это был неожиданный круг, интересный и важный. В то же время я дичился, боясь потерять свое одиночество, а с другой стороны, уже пришло время быть среди сверстников и людей постарше. Меня, вообще говоря, всегда тянуло к людям постарше, в том числе значительно постарше, к поколению старших братьев, дядьев, отцов по возрасту, но не по прямой родственной связи. Притягивала боковая линия, старшее поколение – не отцы, от которых надо отталкиваться, с которыми надо сражаться, терять силы на преодоление зависимости, а дядя, старший брат – те, которые понимают. Вот такое сложилось сообщество. Это было очень интересно. Опять-таки, с одной стороны, как бы не потерять одиночество, а с другой стороны, найти, наконец, свой круг. Эти две страсти разрывали в разные стороны.
Начались события шестидесятых годов. В шестьдесят шестом году – процесс Даниэля – Синявского, перед этим дело Бродского. До поры до времени таких ребят власти терпели, а тут нужно было что-то предпринимать. Володю Батшева быстренько посадили, судили и отправили в Сибирь (потом он описал все это в романе «Записки тунеядца»). Остальные немножко присмирели, попытались как бы побарахтаться, написать какое-то письмо наверх. Но потом, поняв, что настает полная безнадежность, мы стали постепенно закисать, выплывали кто как может, в одиночку.
Вас не выгнали из университета?
Нет. Меня вызывали к руководству. Заведующим учебной частью на факультете был Михаил Зозуля, ничем по филологической части не отличавшийся, видимо, человек прямых надсмотрщицких функций. Ситуация сложилась тяжелая. Потом – к декану (тогда это был А.Г. Соколов). Потом уж совсем дико и смешно – вызвали родителей. Но это было смешно внешне. А начальники понимали такую простую вещь (я теперь так думаю), что отца можно взять в оборот и поставить перед фактом. Когда отец военный – это особая ситуация. Его можно крепко взять в оборот, а что будет делать сын? Сын пойдет вразнос, что называется, не пожалеет отца… Или пожалеет. Тогда можно одним ударом убить двух зайцев. Примерно так и получилось. У меня были непростые отношения с отцом, но подводить его и портить ему жизнь я не хотел – или не решался. Поэтому продолжал заниматься всем тем, чем занимался раньше, писал в стол, пытался искать людей, которые что-то делают. У меня было несколько друзей – хороших поэтов. Один, самый близкий, Сергей Морозов, потом, уже в середине восьмидесятых, покончил с собой, другой, мой университетский товарищ Миша Елизаров, пропал, куда-то его унесла жизнь, не знаю, жив ли он сейчас. Вообще в жизни того поколения немало тяжелого, безнадежного: много смертей, много самоубийств, пьянства – беспробудного, саморазрушительного, много людей пропавших. Особенно из тех, которые пытались найти себя в литературе и искусстве. Это была сфера непрофессиональная или не до конца профессиональная, очень жестко контролируемая, а с середины шестидесятых годов – предельно жестко. Практически никакая иная судьба, кроме судьбы комсомольского поэта, была невозможна. Обычная карьера – выезжать на стройки пятилетки. Это было совершенно не для меня и не для моих друзей. Этот вариант вообще не рассматривался. Выход был примерно такой: попытаться найти себе скромную профессию, с помощью которой жить, а все остальное – мое: заниматься, чем занимаешься. Жизни и судьбы здесь никакой нет.
Если можно, вернемся на филологический факультет. Какая у вас была специализация?
Я поступал на русское отделение. У меня была тяга к зарубежке, но я ясно понимал, что моего языка не хватит, чтобы сдать экзамен на «ромгерм», при всем том, что я занимался английским со второго класса индивидуально с учительницей. Язык был неплохой, но это был не ромгермовский уровень, я бы не сдал экзамен. Кажется, там еще что-то нужно было сдавать, чего мне не хотелось. А русское отделение по типу экзаменов и всему остальному было наиболее приемлемым. Но судьба распорядилась иначе. Всех мужиков, поступивших в том году на русское отделение, загребли и создали из них особое отделение. Это было не в первый раз, а, может быть, во второй. Считалось экспериментом. Создали отделение под названием «Русский язык для иностранцев» или «Русский язык за рубежом», причем всех нас перефранкофонили, поскольку мы были «англичане», один или двое «немцев». Всех нас перегнули во французскую линию – считали, что в ближайшие годы мы будем сильно дружить с франкоязычными странами Северной Африки. Поэтому мы проходили Алжир и Марокко по истории, по географии, по страноведению, по литературе. Я принадлежу к числу немногих людей в этой стране, которые имеют представление об алжирской литературе, причем я имел представление о ней еще тогда, когда ее вообще почти еще не было. Получилась такая странная специальность. Опять-таки были конфликты с начальством, отсюда следовало, что никакого приличного распределения, вроде аспирантуры, не будет и про Африку можно забыть, тем более что ко мне где-то на последнем курсе подошел человек…
Да, тогда я ходил в литературное объединение при гуманитарных факультетах. Люди, которые вели литобъединение, менялись. (Вообще в первой половине шестидесятых в Москве было несколько «открытых» литературных объединений. Среди других эту ниточку тянул Эдик Иодковский. То здесь, то там на территории Москвы он находил теплое место, где на какое-то время создавал питомник, а потом очередное начальство его проваливало, и он шел дальше. Человек он был очень занятный – комсомольский поэт: «Едем мы, друзья, в дальние края…» Но при этом у него было несомненное чутье на стихи и желание помогать людям, которые, с его точки зрения, талантливы. Он занимался этим делом, рискуя престижем, имиджем, положением. Не такое уж блестящее, но какое-то положение у него было. Потом, уже в перестройку, он случайно и нелепо погиб.) Все эти литературные дела тихо-мирно продолжались и на филфаке, потом на одной из встреч свои стихи прочитал зашедший «со стороны» Володя Батшев, филфаковское начальство отреагировало и т. д. Так что где-то на последнем курсе человек, который тогда присматривал за университетским объединением (потом он стал деканом филфака – Иван Федорович Волков), подошел ко мне и спросил: «По-прежнему литераторствуете?» Я сказал, что да, пишу. «То же самое, что раньше?» Я говорю, да, то же самое, что раньше. Он как-то криво усмехнулся и отошел. Вопрос о моем распределении был решен. Куда мне в Африку? Ищи сам. Но я был молодой-зеленый, сунулся в какие-то организации московские – молодежные, международных связей и т. п., на меня, видимо, смотрели как на идиота. Надо было приходить с рекомендацией, либо со знакомством, с лапой и со всем прочим, либо уж с таким послужным списком, что медали должны были проносить в три ряда.
А учителем работать?
Вариант другой – идти работать учителем словесности. Как-то мне это не сильно хотелось, педагогической жилки в себе я совершенно не чувствовал и плохо себе это представлял. К тому же я был очень влюблен в свою будущую жену, и мысль о том, что придется уехать на периферию и расстаться с ней, мне была тяжела. Это сильно осложняло нашу жизнь: и ее, и мою. Мы держались друг за дружку. Деваться было некуда, я пошел в Ленинскую библиотеку, где до того подрабатывал каждое лето, таская книжки, и предложил им свои услуги. Они опять взяли меня в хранение таскать книжки. Я бы таскал их и таскал. Там были десятки ребят, которые на ярусах или в других группах работали, потаскают книжки четыре часа в день, а потом занимаются своими делами. Это был своего рода вариант для поколения дворников и сторожей, впрочем, он существовал задолго до этого поколения. Было ясно, что никакой реальной карьеры, никакой общей жизни, в общем, не будет. Делать обычную карьеру не было ни желания, ни сил, оставалась другая жизнь – не карьерная: зарабатывай небольшие деньги, а дальше живи как хочешь.
Вы с родителями жили?
Нет, в семидесятом году я женился, и в семьдесят первом мы стали жить отдельно от родителей. В семьдесят втором родился первый сын, началась обычная жизнь. На службе, в Ленинской библиотеке, сначала платили девяносто девять рублей, затем сто пять, затем сто двадцать рублей. Восемь часов в день от звонка до звонка. Ленинка была образцовым учреждением советской эпохи. С 8.30 до 17.15, хочешь не хочешь – отдай. Два раза в месяц платят соответствующее жалованье, все остальное – гуляй, Вася, корми сына чем хочешь, живи как хочешь, плати за квартиру чем хочешь. Родители сбросились и купили нам маленькую квартиру. По тем временам это не были такие дикие деньги, как сейчас. Вот такая жизнь. Чего-то я там пописывал. Примерно с семьдесят второго года я начал переводить – потихонечку. Сначала французов, потом, по совету Анатолия Гелескула, замечательного переводчика, который для меня очень много значил, самоучкой до какой-то степени освоил испанский, стал переводить испанцев, латиноамериканцев, самоучкой выучил польский – стал переводить поляков, и примерно с семьдесят пятого года я стал более-менее постоянно работать на издательство «Художественная литература». Переводил я немного, жить на это все равно было нельзя, но там меня уже знал определенный круг людей, были хорошие знакомые. Я полагал, что примерно таким образом просуществую, думал, когда мне бросить Ленинскую библиотеку, чтобы пойти на вольные хлеба, немножко зарабатывать переводами, немножко калымить какими-то внутренними рецензиями, еще чем-то. Я к тому времени уже занимался этими мелколитературными делами в одном журнале, в другом журнале. Больших денег это не давало, но как-то перекантоваться было можно. Немножко писал в Библиотеке Ленина, поскольку к тому времени перешел из отдела хранения в научно-исследовательский отдел, в Сектор книги и чтения, в котором занимался социологией чтения.
У Стельмах?
Да, завсектором была Валерия Дмитриевна Стельмах. Она сама тогда болела, ее часто не было, две женщины, которые ее замещали, и взяли меня на работу. А в семьдесят седьмом году в сектор попал Лева Гудков, которого к тому времени турнули из ИНИОНа. Он и завертел новое дело. Мы начали что-то вместе придумывать, что-то сочинять – на будущее – про какую-то социологию литературы, сумели убедить начальство, что такую работу можно сделать. Подготовить библиографию по социологии литературы, чтения, библиотечного дела, представить в форме библиографии целую дисциплину, а там дальше откроется целый фронт работы, всем хватит. Валерия Дмитриевна, надо сказать, это оценила и очень много для нас сделала и в смысле копейки, и в смысле обеспечения «крыши», не говоря уже о повседневной помощи, разговорах, режиме наибольшего благоприятствования, обеспечения всевозможными письмами – записать нас в спецхран, в ИНИОН, туда-сюда.
Примерно с семьдесят восьмого – семьдесят девятого года мы уже из спецхранов не вылезали и несколько лет потратили на это дело. В восемьдесят втором году опубликовали эту библиографию под титулом ИНИОНа, совместно с Библиотекой Ленина. В восемьдесят третьем году выпустили в ИНИОНе сборник по социологии литературы – обзоры и рефераты зарубежных источников, начали готовить сборник по социологии чтения. Но тут в стране стали происходить события. Один за другим начали выбывать генеральные секретари. Стало ясно: система закончилась и не может восстановиться. Не случайно каждый последующий секретарь жил меньше предыдущего. Все, конец, силы кончились. Что-то будет меняться. Под это дело что-то стало меняться и в Библиотеке Ленина. С какого-то момента…
Тогда Карташов был директором?
Да, Карташов. Он начал нажимать на Стельмах, и с какого-то момента она просто не смогла над нами держать «крышу». Кроме нас были и другие осложняющие обстоятельства. Так или иначе, в восемьдесят четвертом году Гудков ушел. Я еще на год остался, чтобы все-таки дожать начатый сборник. И мы его дожали. Там были три хороших необычных статьи: Алексея Левинсона о «макулатурной» книге[7], Мариэтты Чудаковой о самоопределении писателей пореволюционной эпохи, на архивных материалах, Наташи Зоркой по рецептивной эстетике.
Чудакова тоже работала у Стельмах?
Да, она работала года полтора после принудительного ухода из отдела рукописей. Так вот. Ради этих трех статей я еще посидел в секторе, и мы сумели опубликовать их при огромной поддержке Чудаковой, которая нажала на всякие верхние структуры и просто-таки продавила этот сборник. А в восемьдесят пятом году я тоже ушел. Тогда стало понятно, что я буду так или иначе заниматься социологией: социологией культуры, социологией литературы, социологией искусства…
Вы много публиковались?
Что тогда означало – публиковаться? Если раз в год опубликовал статью, значит, публикуешься. Не в самом шумном издании, в каком-нибудь ротапринтном сборнике Библиотеки Ленина или Института культуры.
А Тыняновские чтения?
Тыняновские чтения возникли в восемьдесят втором году. Летом Мариэтта Омаровна [Чудакова] выхватила нас с Гудковым на чтения, и мы публиковались в тыняновских сборниках вплоть до пятого выпуска. В первом сборнике была наша статья, которая никому не понравилась, хотя мы ее писали даже в некотором упоении[8]. Действительно, статья не нравилась никому, в том числе Чудаковой, но все-таки ее взяли. Во втором сборнике тоже была вроде бы неплохая статья, где мы, можно сказать, впервые попробовали идею о неклассической российской модернизации, точнее даже – контрмодернизации[9]. Эта идея до сих пор нас притягивает. В связи с этим мы обсуждали особую роль интеллигенции, особую роль литературы, особые представления о литературе, особые литературные формы, которые здесь порождаются (толстый журнал, например, или роль национальной классики). К тому же у Левады возобновился тогда семинар, он просуществовал несколько лет, и мы худо-бедно сделали по два доклада каждый. Так стала обозначаться общая проблема российской модернизации.
На Тыняновских чтениях доминировала Тартуская школа. Повлияло ли на вас это направление?
С Тартуской школой не было никаких контактов. Нас знакомили с Юрием Михайловичем Лотманом на Вторых Тыняновских чтениях. Были предположения, что мы у них в форме методических материалов для преподавания опубликуем ротапринтом, крохотным тиражом что-то из своих социологических разработок. Но мы не вписались в этот план, отношения с Лотманом вышли довольно напряженными. Он не принимал того, о чем мы тогда говорили и что делали. Мы были там белыми воронами. В основном там были молодые продвинутые филологи, которые либо учились у Лотмана, либо были близки к его кругу. Для многих из них, что называется, нормальная научная карьера была закрыта. Это была немножко маргинальная по социальным критериям среда, но в культурном смысле жившая напряженной, активной, хотя и несколько кружковой жизнью. По признакам маргинальности мы полностью туда вписывались, но по другим признакам абсолютно не годились. Наш подход был чужд тому, что там делалось, и некоторые присутствовавшие на чтениях, в том числе крупные и уважаемые филологи, просто на дух не принимали все это дело, были сильные споры. Мариэтта Омаровна как бы держала нас за руку и пыталась выправить ситуацию. Она видела свою задачу в том, чтобы наладить взаимодействие между какими-то живыми частями тогдашней гуманитарии. Было ясно, что есть поколение отцов-основателей, их судьба так или иначе решена и научная жизнь уже построена, а есть следующее поколение, поколение явно промежуточное, состоящее из людей вполне серьезного возраста (от тридцати до сорока), но не занимающих никаких постов, в большинстве случаев не имеющих ни ученого звания, ни других регалий. И этим людям надо каким-то образом реализоваться. Чудакова придумывала формы реализации, насколько это было возможно при советской жизни, причем они должны были быть открытыми, в этом был ее принцип. Понятно, что проходило все под вполне официальными «шапками». Мы приезжали в Резекне, туда, где учился Тынянов. Это маленький городок, естественно, со своими властями. Чтобы приехало сорок человек из разных городов и начальство оказалось ни при чем – это было совершенно невозможно. Наоборот, все проходило под патронажем руководства. Нас встречали синие от холода (поезд приходил рано утром) пионеры с цветами, везли к горкому, горком делал доклад о показателях за текущий год. Все шло путем. Мы соблюдали ритуал, а потом занимались нашей тыняновской и околотыняновской деятельностью. В конце чтений опять-таки торжественный прием, мэры, горкомовские секретари и т. д. Все время двойная игра. С одной стороны, власти видят: продвинутые структурные филологи, среди них есть даже известные фигуры. С другой стороны, смотрят: средней молодости люди, как они одеты, как себя ведут, какие странные слова произносят, как они друг к другу странно обращаются. Тем не менее эти миры сосуществовали. Система была уже настолько разболтана, расхлябана, сама не понимала, как ей жить, чего можно, а чего нельзя. В общем, можно было сосуществовать, не вступая в конфронтацию. Сохранились фотографии, где первый секретарь горкома Резекне стоит (этого, понятно, не подозревая) рядом с отъявленным диссидентом, по тем временам одним из штучных диссидентов, за которыми КГБ должно было ходить по пятам. А они фотографируются вместе под вывеской райкома. Картинка тогдашней эпохи. Там были люди, отсидевшие по всякого рода диссидентским делам, они приезжали полутайным образом, но тем не менее выступали с докладами. Когда все это выплыло, спохватиться уже сил не было. Система время свое проела.
Борхесовское направление в вашей работе сложилось параллельно?
Направления-то не было. В первый раз я попробовал переводить Борхеса в семьдесят пятом году. Сейчас уже не помню, как обнаружил его стихи, но это были как раз поздние стихи, то есть метрические, строгие. Поразительно, что сегодняшний поэт мог именно таким образом писать – не верлибры километрами. Я попробовал это переводить и даже читал свои переводы в Союзе писателей. Проводилось что-то вроде конференции молодых переводчиков (тоже характерная тогдашняя «забота» о молодежи). Я туда попал в первый и последний раз в жизни, поскольку дальше по возрасту мне это не полагалось. Мне уже оставалось несколько месяцев до тридцати, а молодым в СССР считался литератор до тридцати лет. После этого что-то начало даже официально намечаться: не опубликовать ли подборку в «Иностранной литературе»? Почти получилось, но в конце концов не опубликовали. Стало известно, что Борхес поехал на ужин к чилийскому диктатору, и все полетело. Борхес почти на десять лет стал в Союзе полностью запретным. Затем удалось под нажимом влиятельных зарубежных «друзей нашей страны» выговорить ему особый статус – такой особый статус был не только у Борхеса: можно было немножко публиковать переводы в антологиях, но авторские сборники не допускались ни при какой погоде. Поэтому получалось следующим образом: делают антологию латиноамериканской поэзии или аргентинского рассказа XX века – приходится брать Борхеса. Спасибо, что Пабло Неруда в свое время сказал: да, конечно, этот Борхес не наш человек, но он делает новую литературу Латинской Америки, надо с этим считаться. Приезжали партийные деятели, аргентинские, лечиться. Они говорили: да, конечно, мы бы его собственными руками задушили, но мировой классик, ничего не поделаешь, надо немножко публиковать. И немножко публиковали.
Система действительно была гнилой. Скажем, когда я работал на «Худлит», там одно время более или менее регулярно печатался Юлий Даниэль, с которым мы потом познакомились, а один год, 1983/84-й, даже и часто встречались, делали антологию французской поэзии. На него была дана сверху специальная разнарядка: под своей фамилией он публиковаться не может, значит, ему надо взять псевдоним – он был Ю. Петров. Это делалось для того, чтобы давать ему какое-то количество работы. Должно было хватать на жизнь, потому что иначе он начнет жаловаться на Западе, что ему жить не на что. В общем, надо Даниэля обеспечить, чтобы можно было откозырять Западу. Так вот. Люди сверху и из органов приходили к директору или главному редактору «Худлита» и говорили: «Ну-ка, подними справки по гонорарам. Все хорошо, жить можно. Вы его и в будущем году не забывайте, смотрите, чтобы там…» Вот так и жили. Поэтому можно немножко и Борхеса. Первый рассказ шел трудно. Потом люди, которые были внутри издательства и это дело делали, говорили мне, что оно стоило большой крови. Тем не менее сначала рассказ, потом подборка стихов, потом еще что-то. А в восемьдесят четвертом году уже все плыло – можно было сразу две книжки в год выпустить. Потом совсем лафа началась: как же, есть две книжки, причем одна в серии «Мастера современной прозы». «Иностранная литература» опубликовала подборку одну, другую – началась совсем другая жизнь. В перестроечные времена возникли новые издательства и сразу сказали: «Давайте делать собрание сочинений». Вышел трехтомник в рижском «Полярисе», теперь «Амфора» выпустила четырехтомник с большим количеством новых вещей из молодого и старого Борхеса. Я думаю, моя работа с Борхесом закончена, пускай другие делают. Я помалкивать буду.
После Ленинки вы работали в Книжной палате?
Была идея создать Институт книги в Книжной палате. Директором тогда был Юрий Торсуев, Институтом книги занимался С.Н. Плотников. Институт в конечном счете создали, но ничего путного из этого не вышло. Однако мы там худо-бедно просуществовали два или три года. Сумели провести исследование по динамике журнальных тиражей и подписки, а потом, когда начались перестроечные времена, часть из него опубликовали отдельной статьей в «Дружбе народов» (начальство опять было недовольно, но статью прочла Татьяна Ивановна Заславская, пригласила нас в апреле 1988-го на конференцию в Новосибирск, одну из первых перестроечных).
Как видите, социология у меня любительская. Я никогда не учился социологии профессионально, среди моих сверстников дипломированных социологов тоже нет. И никаких знаков профессионального социологического достоинства не имею. Ни диплома о каком-нибудь окончании, ни степени, ничего. Эта социология сделана собственными руками, под свои задачи с огромной помощью людей, которые в этом что-то понимали и для меня много значили. Ю.А. Левада и Л.Д. Гудков мне в этом смысле ставили глаз, ставили руку, а с какого-то момента мы эти вещи делали вместе. Если это можно назвать профессиональной карьерой – пусть это будет профессиональной карьерой.
В восемьдесят восьмом году нас позвали во ВЦИОМ. Весной Левада бросил клич: «Кто хочет, давайте!», а с лета мы начали там работать в штате.
Не тошно было заниматься рутинной работой на фабрике опросов?
Нет, абсолютно. Это совсем другое чувство. Большинство тех, кто пришел во ВЦИОМ, многому учились в процессе работы. Я кое-что об анкетах, опросах, таблицах знал по Ленинке. В семьдесят втором и семьдесят третьем годах мне приходилось опрашивать крестьян в Белоруссии и в деревне под Свердловском по поводу того, что они читали. Сектор Стельмах закончил тогда исследование «Книга и чтение в жизни небольших городов». Я туда попал как раз в тот период, когда собиралась книжка по небольшим городам, и работал с эмпирическими данными.
А в семьдесят третьем году началось исследование «Книга и чтение в жизни советского села». Я вел тему, в которой был заинтересован В.Э. Шляпентох, – «Образы будущего». Шляпентох тогда писал книжку о будущем. И с ним должны были вместе писать статью в итоговый сборник. Но мы не сумели сговориться и писали по отдельности. Так что минимум эмпирической работы я попробовал, другое дело, что сам анкет практически не сочинял, не вел проект от начала до конца. Поэтому, когда мы провели первый опрос во ВЦИОМе, и пошли данные, и Алексей Иванович Гражданкин, тогда еще самый молодой сотрудник отдела, считал все это на арифмометре и выводил первые цифры, и мы начали получать первые частотные распределения, чувство радости было бесконечным – в жизни такого не испытывал, пожалуй, только когда сын родился.
Ты думал, все это игрушки. И вдруг у тебя на глазах появляется реальность. Получилось!.. Впервые в жизни, кроме перевода и кроме библиографий, ты что-то такое сделал – и вышло. Во всяком случае, у людей моего поколения, следовавших по примерно такому же пути, возникло чувство, что наконец можно что-то сделать. Когда получалось, мы радовались ужасно. Так происходит до сих пор. Не веришь, что получится, но иногда все-таки получается.
Вам приходится заниматься общественным мнением, следовательно, всякими политическими делами. Кажется, вы должны сторониться этих сюжетов?
Я бы не сказал. Во-первых, к тому времени, когда я стал заниматься общественным мнением, у меня сложилась устойчивая «социологическая» среда общения. Эта среда состояла из нескольких людей, образующих круг Левады, я был из предпоследнего призыва. Потом, у меня уже были какие-то работы, некоторый социологический багаж. Во всяком случае, изоляционизма и отстранения от того, что происходило за окном, уже не было. Тем более что за окном стали происходить вещи, которых мы до этого не видели. Это было страшно интересно. У кого-то из моих коллег, друзей – и переводчиков, и социологов – было другое отношение к происходившему, более сдержанное, более настороженное, недоверчивое. Мой же запас недоверия и скептицизма закончился. Я включился в проблематику общественного мнения и примерно с конца восемьдесят девятого года начал интенсивно публиковаться в газетах. В течение довольно длительного времени мне приходилось писать по два-три газетных материала каждую неделю – каждую неделю!.. Это совершенно другой ритм жизни, совершенно другое ощущение. Скуки не было абсолютно, было чувство подъема и расширяющихся возможностей. Сформулировал вопрос – прошло полевое обследование, получил ответы – написал аналитический материал в газете. Материал прочитали, на кого-то подействовало… Когда в 1991 году был путч и данные наших опросов в Белом доме читали по радио тогдашние «взглядовцы», читало только что созданное «Эхо Москвы», – чего уж говорить! – такие моменты дорогого стоят. Нет, скуки и отчуждения нет. Вначале, когда начинался ВЦИОМ, мы долго искали форму опубликования результатов. Наш отдел все время перетряхивали, набирались новые люди, одни уходили, другие приходили. Форма никак не налаживалась… Пытались выпускать бюллетенчик, он менялся по формату, объему, содержанию, типу представления материала. Наконец, определилась форма журнала. Эту штуку придумала и сумела пробить Татьяна Ивановна Заславская. Постепенно разогнались. До этого никто же из нас журналов не издавал, не печатался в газетах, не выступал с трибуны, по радио и телевидению, на каких-то круглых столах. Все это были новые формы деятельности, к которым мы пришли очень поздно. Все придумывалось и делалось на ходу.
А когда у вас с Гудковым вышла книжка по социологии литературы?
В девяносто четвертом году. К этому времени возник журнал «Новое литературное обозрение». Я в «НЛО» печатался с первых номеров. Там начал складываться новый круг, в котором можно было существовать. Мы с Гудковым еще не впряглись в полную силу во вциомовские социологические дела, в «фабрику» и в собственный журнал (наш «Мониторинг» начал выходить тогда же), в проект «Советский человек» и не бросали идею социологии литературы. В круг «НЛО» входили какие-то продвинутые литературоведы, поздняя Тартуская и послетартуская школа. Образовалось единственное для нас общее поле, где обсуждались теория культуры и теория литературы. Они обдумывали идею издательского дома. Предложили нам с Гудковым выпустить книжку. Видимо, на тот момент ничего более горячего и более готового не было. Мы собрали то, что у нас было, и сделали «Литературу как социальный институт». Здесь же, во ВЦИОМе, набрали текст, подготовили макет. Это была первая книга в научной серии «НЛО».
Известно, что вы преподаете в университете.
Примерно с девяносто пятого года мы с Гудковым стали немножко преподавать в РГГУ – курс по социологии литературы. Сначала была Школа современного искусства. Искались свободные формы преподавания – что-то вроде творческих мастерских. С нами рядом, в одном наборе, вели мастерские Лев Рубинштейн, Д.А. Пригов, Екатерина Деготь, Юрий Арабов. А у нас – социология литературы и искусства. Мы попробовали преподавать год, попробовали два, а потом нас позвали в Институт европейских культур при РГГУ. Институт европейских культур создан при участии Германии и Франции. Ректор РГГУ Ю.Н. Афанасьев много сделал для организации гуманитарного университета – с конвертируемым дипломом, стажировками студентов за границей, приглашениями зарубежных преподавателей. Часть замыслов реализовалась, часть нет. Состоялось уже три выпуска студентов, защищено несколько кандидатских. Там есть вполне обнадеживающий народ, который, кстати, теперь активно публикуется в «НЛО».
Не возникало ли желания перейти на университетскую работу?
Я не думаю, что способен стать университетским преподавателем, все-таки нужна серьезная академическая школа. У меня такой нет. Но, как ни странно, в последние годы я почувствовал некоторое удовольствие от того, что рассказываю ребятам про социологию и вроде нахожу какой-то отклик. Интересно смотреть, как начинают думать они сами. Однако мы работаем в неклассической форме и в неклассическом учебном заведении. Там и отношения складываются особые, и предметы преподаются особые. Мы читаем лекции вдвоем с Гудковым. Конечно, бывают случаи, когда Лев Дмитриевич занят или я занят. Когда вместе не можем, кто-то один отдувается. Но мы уже привыкли преподавать вдвоем. Видимо, мы непривычны к академической рутине, нам надо постоянно друг дружку поддерживать, иначе мы начинаем засыпать, а главное, начинают засыпать наши студенты. Когда мы друг друга выручаем, что-то начинает раскручиваться, получаться. Может быть, в конце концов, после «Советского человека – 2», сядем за книжку по социологии культуры, в голове она почти готова.
Повлияло ли на вас какое-либо направление в социальной теории?
Одно время я был вовлечен в структурный функционализм. Года полтора-два довольно много читал Парсонса и другие работы, связанные с этим направлением (Леви, Шилз, Беллах, Айзенштадт, французские функционалисты, переводчики и интерпретаторы Парсонса). Здесь сказалось сильное влияние Левады, который в своем секторе, еще в ИКСИ, очень много сделал для перевода Парсонса на русский язык. Переводили Галя Беляева, Леонид Седов и другие сотрудники левадовского сектора, вышли два ротапринтных сборника, многое осталось в машинописных томах (часть этого недавно издана в томе «О структуре социального действия», в других книгах). Но мое отношение к структурному функционализму было скорее отстраненное. Чем больше читал, тем больше меня это охлаждало. Самую общую рамку, идею социального института, идею выраженности функции в структурных формах, я примерно уяснил, и это нашло явное выражение в нашей с Гудковым работе по социологии литературы. Во всяком случае, литература рассматривалась нами именно как социальный институт. Приходилось кое-что читать и по феноменологической социологии, прежде всего Альфреда Шютца, это иногда было очень остроумно, но в целом меня совсем не привлекало. Очень много я читал по социальной и культурной антропологии – от Малиновского и Редфилда до Виктора Тернера и Клиффорда Гирца, по «антропологии современной жизни» – французских постструктуралистов Оже, Маффезоли, «Систему вещей» Бодрийяра. У Гирца в культурной антропологии имеется постановка чрезвычайно интересной проблемы – бытование пластов традиционных верований в модерной ситуации (а проблема модерности, как и контрмодернизации, меня всегда интересовала и с годами интересует все больше). Индонезийский таксист работает в огромном современном городе, но каждое утро ставит под капот машины блюдечко с рисом, потому что надо принести жертву богу. В известном смысле все мы живем в таком мире. Мне казалось, в культурной антропологии открывается необычная, но важная для социологии культуры проблематика и оттуда можно кое-что «потянуть». Оказывается, не так уж много. Поскольку я никогда систематически не учился социологии, то брал отовсюду – в одном месте, в другом, как многие мои сверстники и коллеги. У некоторых из нас есть последовательная, твердая школа. Вот Гудков: он собственными силами, да еще в глухие годы, от начала до конца прошел неокантианскую социологию. У меня же более эклектическая, более любительская картинка…
Не возникало ли желания бросить это все и уехать подальше?
Нет. Хотя иногда складывались какие-то странные ситуации, связанные с работой за границей. Жизнь вообще протекала странно, на нескольких этажах одновременно. Как-то раз, в середине 70-х, был фантастический план у моих старших друзей и коллег вырастить из меня переводчика-унгариста, то есть заслать меня на несколько лет в Венгрию – учиться венгерскому языку и культуре, чтобы потом я приехал в Советский Союз и на хорошем, качественном уровне переводил бы венгерскую словесность. Но, поскольку все системы были бюрократизированы, надо было решать этот вопрос через Союз писателей, а Союз писателей меня не знал и знать не хотел. Это с одной стороны, а с другой стороны, он имел своих молодых функционеров, которые туда и поехали за милую душу. Что они там делали, не переводя ни строчки с венгерского, как говорится, не нашего ума дело, но поехать поехали. В общем, могла быть и такая – заграничная – карьера…
Был и другой эпизод. На последнем курсе университета пришли «купцы» – люди из радиокомитета. Смотрели, не подойдем ли мы в качестве дикторов для передач на зарубежные страны. Я попробовался по югославской линии и подошел, они были готовы заслать меня в Югославию поучиться года два, чтобы потом вещать отсюда, из Союза, на Югославию. Опять-таки на каком-то бюрократическом уровне это оборвалось. Так что в принципе более или менее длительные выезды на границу могли быть. Но желания, что называется, бросить и уехать никогда не было. Жена сильно уговаривала меня – не уговорила. А потом одно время радовалась: «Хорошо, что не уехали». А теперь опять: «Эх, не уехали, я тебе говорила».
Куда? Зачем? Дети большие. Младший – здесь, кажется, за рубеж не собирается. Старший сейчас работает во Франции, но и он натурализоваться там вроде не думает, а уж нам как будто и совсем ни к чему.
Литература как социальный институт
Динамика печати и трансформация общества
За несколько последних бурных для нашей страны лет прошли – не очень замеченными – два события, для прошлого, настоящего и будущего нашей культуры немаловажных. Это – конец книжного дефицита и спад журнального бума. Фактически оба этих исторических финала сошлись на пространстве одного 1990 г. Таким образом, в пределах активной жизни одного поколения – последних пятнадцати – двадцати лет – мы стали свидетелями трех революций.
Пик первой – середина 70-х; назовем ее революцией дефицитаризации: это оформление достаточно широкого и одновременного интереса к сравнительно небольшому (если брать фоном ресурсы мировой литературы) количеству книг и авторов, повлекшее за собой оттеснение и закат «воспитующе-уравнительной» модели книгоиздания и понемногу надстроившее над ней – или, точнее, за нею – модель перераспределительную, дефицитарную. Героем этой революции стала книга – в определенной форме издания, серии или библиотеки. Напомним тогдашнюю «Библиотеку всемирной литературы» для «чистой» публики, макулатурную серию – для новых собирателей, только приобщающихся к книжной культуре, и библиотечную серию – для малоимущих, завязанных на систему бесплатного гособеспечения через массовые библиотеки.
Вторая – уместилась в три года: 1987–1989. Опять-таки миллионы людей устремились «мимо» склеротизирующейся сети черного книжного рынка – знакомств, перепродаж, обменов – к полутора десяткам центральных журналов, начавших день за днем учиться говорить свободно и приходить в себя от глубокой лоботомии. Героями эпохи стали ежемесячные и некоторые еженедельные («Огонек», «Московские новости») издания, вынесшие запас накопленных за годы молчания и двуличия идей на сравнительно широкую аудиторию регулярно читающих. Произошла революция мобилизации.
И, наконец, с 1990 г., особенно после принятия Закона о печати и подъема альтернативной периодики, с одной стороны, и при усилившемся идеологическом и административном давлении на массовую прессу и телевидение – с другой, обозначился спад единодушного интереса к большинству прежних флагманов перестройки, все более эксплуатирующих уже наработанный уровень идей и набор имен, отстающих от убыстряющегося хода времени и динамики возникновения новых инициатив и инициативных групп. Наступивший – хотя мы лишь в его начале – период можно назвать революцией дифференциации. Его героями стали новообразованные еженедельники («Столица», «Мегаполис-Экспресс», «Демократическая Россия» и др.) и выходящие более часто – от трех до пяти раз в неделю – газеты с тиражами в несколько сот тысяч экземпляров (скажем, «Независимая газета», «Куранты», «Час пик»). Общий фон при этом образуют сохранившие массовый тираж «Комсомольская правда», «Труд», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец».
Грамотный человек никогда не спутает журнал, газету и книгу: разницу их функций он чувствует, так сказать, автоматически. Исследователю же этого безоговорочного знания мало: это знание нужно сначала осознать как проблему, чтобы потом зафиксировать в понятиях. Обойдемся минимумом, приняв два простых постулата.
Представим общество как сложное целое, включающее по меньшей мере три уровня: саму большую целостность (этот уровень обычно называют социетальным) в совокупности соответствующих действующих лиц, действий, символов; ансамбль относительно дифференцированных по ценностям, интересам и сферам действия институтов и групп – от политики и науки до семьи, дружеского кружка или образующейся партии; самоуправляющегося полноценного индивида в совокупности его мотивов и ценностей.
Договоримся, что взаимодействие этих уровней – их независимость и связь – обеспечивают особые культурные устройства, коммуникативные посредники, причем в соответствии с уровнем и характером взаимодействия посредники эти разнятся. Исторически сложилось так (по крайней мере на Западе), что уровень социального целого обслуживают оперативные средства массовой коммуникации (радио, телевидение, из печатных средств – ежедневная газета); журнал консолидирует институты и группы, вместе с тем вынося их идеи и ценности на общий суд и обеспечивая этим межгрупповое и межинституциональное взаимодействие; построение наиболее сложного целого – самостоятельного и ответственного индивида – прерогатива книги, приобщающей к самым глубоким или, иначе говоря, долговременным значениям, образцам и традициям.
Чем шире охват тем или иным коммуникативным средством, тем жестче набор передаваемых им смыслов, но тем они настоятельней, императивней; уже, соответственно, и репертуар каналов вещания данным способом. Чем индивидуальней, напротив, пользование данным источником, тем богаче набор передаваемых по нему сообщений и тем насыщеннее соответственный уровень культурной памяти, тем она развитей и сложнее, тем, наконец, обобщенней и отвлеченней (идеальней) передаваемая информация. Полюс широты – газеты, полюс разнообразия – книги; ритм воспроизводства и обновления газетного образа мира – дни (недели), журнала – месяцы, книги – годы (поколения). Для полного цикла признания книги (автора) у нас и требуется срок активной жизни одного поколения – пятнадцать – двадцать лет. Радио- и телеинформация по широте охвата сопоставима с газетной, выигрывая, пожалуй, лишь по двум значимым характеристикам – оперативности (одновременности с событием) и наглядности (настоятельности и общепонятности, непосредственности содержания).
Итак, через динамику взаимоотношений между коммуникативными средствами (установление доминанты), с одной стороны, и их аудиториями (признание социальной эффективности), с другой, можно увидеть процессы формирования, ускорения и распада общественных групп, социальных институтов, культурных систем, прослеживая темпы и траектории распространения и усвоения тех или иных смысловых образцов, селекции и обобщения традиций. Это, собственно, целый проект социологии, понятой как социология культуры. Попытаемся увязать лишь несколько линий развития нашего общества и одновременно его книжной (печатной) культуры в некую достаточно наглядную и схватываемую мыслью картину.
В принципе можно установить некое идеальное соотношение количества газетных, журнальных и книжных названий, которым характеризуется нормальная развитая издательская система – обеспечивается динамика общественных инициатив и глубина культурных традиций, структура и объем памяти. Наименьшим разнообразием (и наибольшим тиражом) отличаются газеты, в несколько раз шире – журналы, на порядок выше число издаваемых книг. Так, до революции у нас в стране ежегодно выходило в среднем около 800 газет, 1500 журналов и 26 000 книг (соотношение 1: 2: 33). В середине 80-х это соотношение приняло вид 1: 6: 55. Иначе говоря, втрое увеличилось разнообразие предлагаемых книг, осталось на месте предложение журналов и более чем вдесятеро выросло число книг. (На Западе, скажем в ФРГ, пропорции близки к нашим дореволюционным; видимо, такое соотношение индивидуального, группового и массового оптимально для сбалансированного и динамично развивающегося общества.) Если к этому прибавить, что опережающим в книгоиздатеьстве было отнюдь не увеличение количества названий, а рост объемов книги и ее тиражей, то вывод напрашивается однозначный: работа огосударствленной системы книгоиздания, сосредоточенной на приобщении к сложившемуся набору образцов, по смыслу своему – консервативна. Групповое разнообразие общества последовательно подавляется, вытесняясь ведомственным дроблением. Газеты же задают общее единство мнений как через одновременные тиражи, так и с помощью единообразной и всеобщей программы, диктуемой десяткам и сотням изданий – краевым, областным, районным и так далее – из центра и спечатываемой с исходной матрицы (скажем, «Правды», тассовского пакета).
Иного трудно было бы ждать. Внешнее содержание социального процесса, определившего жизнь трех последних поколений нашего общества, ограничивалось форсированным и неотменимым приобщением всех к исполнению централизованного проекта, сулившего повальное изобилие и незакатное счастье. Этот проект служил единственным источником легитимации складывающейся системы властей и привилегий, с одной стороны, и повседневных лишений и немого приспособления – с другой. Регулирование этого процесса, управление его потоками, фиксирование темпов и порядка действий, обеспечение воспроизводства необходимых ресурсов контингента, его мотивационных запасов велись усилиями разрастающейся административной системы, опиравшейся на директивное планирование и централизованное распределение, с одной стороны, и массированную индоктринацию – с другой. Само существование любого из звеньев всей системы («позволение жить») гарантировалось только ее властным центром; поэтому лояльность индивида по отношению к малому коллективу выступала механизмом контроля за индивидом, обеспечивая этим и сохранность самого коллектива: он был и узлом в системе производства и накопления ресурсов всего целого, и звеном в цепи обработки «человеческого материала».
Эта «классическая» для 1930–1950-х гг. модель советского общества предусматривала жесткую сегрегацию «своего» и «чужого»: областью санкций охватывались отношения с «врагами» (эту квалификацию могли получить в принципе любые самостоятельные инициативы индивида или группы), резервом же системы выступала сфера, выражаясь армейским языком, личного времени, семейный быт. В городах он гнездился во дворах и на кухнях слободских бараков и поселковых коммуналок, где коммуникативными посредниками служили уже устные формы типа слухов (сплетни, байки, анекдоты…). Вокруг простирались разнообразные локусы и топосы большого общества производства и воспитания: глазом и ухом его смотрелась газета на уличном щите, тарелка громкоговорителя в доме. Пунктами соединения масс с собою и центром были клуб, школа, массовая библиотека. Отметим, что никогда позже ни один из этих институтов не имел прежней, до- и послевоенной авторитетности, как никогда потом так не сплачивали страну в одно символы ее разыгранных побед – спортсмены и киноактеры (поздней это делали первые космонавты).
Групповой уровень общественной жизни фактически отсутствовал. Тиражи журналов (за исключением, скажем, «Огонька», «Вокруг света» и «Роман-газеты») в 30–50-е гг. исчисляются тысячами, много – десятками тысяч, количество же их мизерно, а динамика – незначительна. Даже в сравнении с 20-ми гг. ситуация с журналами заметно ухудшилась: из изданий, начавших выходить в советское время, стали издаваться в 1922–1935 гг. более двух пятых, за следующее пятнадцатилетие – почти втрое меньше (соответственно 49 и 17 журналов). А в наиболее динамичный начальный период всего лишь за три года – 1922–1925 – появился 21 крупный новый журнал.
Главной формой приобщения к печатному слову становится массовая библиотека. Характерно, что до Первой мировой войны к такого рода единообразным по составу литературы и воспитательным функциям относилось лишь 18 % всех библиотек, тогда как к 80-м годам – 85 % библиотек и две трети библиотечных фондов.
Вместе с тем установившийся «витринный» порядок, глашатаи которого неустанно подчеркивали привлекательность будущего и момент движения к цели, исключал реальную возможность развития, поскольку парализовывал любую несанкционированную инициативу. Но это и подрывало его изнутри. Самое важное здесь – постепенный переход власти к более низким уровням структуры, исполнительным. Тотальный контроль за распределением сосредоточивал полномочия в руках ведомств, а далее – их чиновников, а потом и любого за что бы то ни было ответственного. По сути, даже репрессивная кадровая политика не смогла остановить этого ползучего «бунта подчиненных» (нашего вывернутого и смещенного варианта «революции менеджеров»). Тем активнее он пошел, когда угроза повсеместного террора ослабела: за стенами насильственного единообразия и бутафорией уравнительной идеологии складывалось статусное общество с системой барьеров и уровней.
Однако сама эта структура отношений была бы полностью бессодержательна и абсурдна, не будь у нее своего культурного наполнения – запаса идей, символов и образцов, вокруг манипулирования которыми структура и кристаллизовалась, на присвоении и удержании которых воспроизводилась и сохранялась. «Приобретатели» могли беспрепятственно процветать в брежневские двадцать лет, поскольку за хрущевское десятилетие были отчасти реабилитированы «изобретатели». «Культурные люди» задали образец для «людей с положением», а те стали ориентирами для достаточно широких масс, становящихся в эти годы горожанами, получавших образование, обзаводившихся обстановкой и соответствующими жизненными стандартами «людей с возможностями». На переходе от «дедов» к «отцам» были включены три движущих момента, далее – при всех перипетиях – не выключавшихся уже никогда. Это давление мирового уровня научно-технического прогресса, массовая мобильность населения (прежде всего – миграция в города) и повышение образовательно-квалификационного уровня. Усложнение ролевой структуры общества повлекло за собой и усложнение системы коммуникативных посредников, а стало быть, потребовало известной информационной открытости, относительной доступности инокультурных образцов, пусть и ограниченной свободы инициативных групп.
Подчеркнем: все это могло быть допущено лишь в определенных рамках. В самом общем виде они задавались склеротизацией унаследованной системы централизованного распределения и контроля сверху и растущей статусной сегрегацией неоконсервативных слоев общества снизу. Разрастание «вторых», «теневых», «черных» и тому подобных структур перераспределения ресурсов, влияния и власти блокировало возможности открытой социальной мобильности и, ограничивая все более показушные функции властного центра, вместе с тем не подрывало его роли, а даже создавало дополнительные источники стабильности, продлевало эту полужизнь. В таких условиях образцы культуры (достаточно отмеченные как «высокие», «особые», «праздничные»…) компенсировали социальную стагнацию доступом к ценимым культурным позициям. Обобщенные посредники при этом все больше теряли свою значимость и эффективность (например, деньги), тогда как возрастала символическая нагрузка обмена натуральными благами. Книга – как самое дешевое и всеобщее благо – вошла в круг советского дефицита позже других. Но за десять лет – с 1975-го по 1985-й – бурно обросла разветвленной системой сложно-опосредованного распределения.
Важно, что значимость книги при этом фактически дошла до самых «низов» более или менее дееспособного населения. Ценность ее усвоена, можно сказать, всеми, и в этом смысле общая дефицитаризация книжного потребления – знак конца культурной революции, последний ее этап. Общество так или иначе к печатной культуре приобщено. Нет книг дома сегодня примерно у 32 % взрослого населения. Однако большие (свыше 500 книг) библиотеки есть лишь у 8 %. Причем подавляющее большинство домашних библиотек сформировано именно в годы книжного дефицита: лишь 18 % опрошенных горожан собирают книги более пятнадцати лет, начав это делать в додефицитную эпоху. А это значит, что по своему составу домашние библиотеки новоприобщенных кругов достаточно однотипны: в них входят книги отобранные, ценимые, специально отмеченные сверхавторитетностью. Иначе говоря, культурный процесс развивается как накопление уже созданного, усвоение нормативного набора.
Ядро этих библиотек составляют книги, приобретенные особым образом – на талон за сданную макулатуру[10]; так приобретено в 1989 г. 18 % реально интересных для читателя книг. Еще столько же – оставлены по знакомству (стало быть, пользуются сверхспросом), 12 % – получены в подарок, каждая девятая – куплена с рук с переплатой. И лишь 17 % обращающейся среди читателей литературы приобретены в государственных магазинах по обозначенной цене. Это, как правило, русская и советская классика, близкая к школьной программе, но в подарочных изданиях. Особым же путем получают литературу жанровую, формульную (детектив, приключения, фантастику) и книги для дома и семьи. В целом все эти книги можно назвать пособиями по обретению навыков цивилизации (включая умение обращаться с символами – науки, религии, искусства), причем наиболее признанные среди них относятся к ключевым моментам самого созидания современной западной цивилизации – середине XIX в. и рубежу XIX – XX вв. Второй слой активно собираемой литературы – мифологизированная «русская история» от разработок Пикуля до эпопей Маркова, Иванова и Проскурина. Их труды можно назвать победой социалистического реализма, которому в официальной идеологической сфере соответствуют укоренившиеся в эти годы мифологемы «новой исторической общности», «общенародного государства» и т. п. (как и «самого читающего народа в мире»)[11].
Новое – и вновь частичное – возвращение прав инициативным группам немедленно повлекло за собой массовизацию спроса на журналы как печатные органы группового самоопределения и межгрупповой коммуникации. Именно этот уровень – источник и проводник общественной динамики – и был наиболее крепко заблокирован в годы стагнации. Характерно, что на исходе этого периода рост тиражей наблюдался фактически лишь у трех типов изданий, которые по своим функциям были связаны прежде всего с тиражированием типового набора культурных образцов, популяризацией и приобщением к наследию новых возрастных слоев: речь идет о массовых «тонких» журналах типа «Работницы», «Крестьянки», «Здоровья» и т. п. (тиражи первой выросли за 1981–1987 гг. на треть, а второй – на две трети), молодежных изданиях типа «Ровесника» (рост на 15 %) или «Смены» (на треть) и научно-популярной периодике – например, «Семье и школе» (на 26 %), «За рулем» (на 38 %) и так далее.
Напротив, ведомственные издания (особенно касающиеся науки и культуры), академические журналы (прежде всего по общественным и гуманитарным дисциплинам) и литературно-художественная периодика «программного» типа переживали в эти годы – за единичными исключениями, скажем, «Нового мира» или «Вестника древней истории» – жесточайший упадок. Такая же ситуация была в большинстве своем (за исключением изданий на национальных языках в Грузии, Армении, отчасти Латвии, Киргизии) характерна и для союзных республик.
Снятие цензурной «колючки» изменило сами журналы, особенно – литературно-художественные (центральные и республиканские, ряд областных), молодежные, ряд академических. В целом начал снижаться темп роста тиражей массовой прессы (а у ряда журналов – скажем, «Наука и жизнь» или «Техника – молодежи» – тираж стал даже падать). Стали быстро терять подписчиков партийно-пропагандистские издания, не поддерживаемые жестким силовым давлением. Лидером одновременного роста тиража стала «Дружба народов», за год увеличившая аудиторию в шесть раз (а подписку в Москве и Ленинграде – в семнадцать), а абсолютным лидером тиража среди «толстых» журналов – «Новый мир», получивший в 1989 г. тираж в 1 млн. 600 тыс. экземпляров, а в следующем году добавивший к этому еще миллион с лишком.
Однако этот процесс не продолжался и трех лет. Уже в 1989 г., когда подписка длилась фактически весь год без всяких ограничений, стали падать тиражи ряда популярных изданий («Дружба народов», «Октябрь», «Нева» и др.), почувствовалось снижение общественного напора, передаваемого прессой, снизилась положительная оценка читателями таких журналов, как «Дружба народов», «Юность» и ряд других. В 1990-м же этот спад, усугубленный резким ведомственным подорожанием периодики, стал очевидным и охватил уже просто все издания, хотя и в разной мере. В принципе процесс этот был предвидим, но связан не столько с публикой, сколько с состоянием и динамикой инициативных, культуротворческих групп («элит»), во-первых, и с продолжающей еще во многом сохраняться базовой структурой издательского дела, его материальной основой, привычными приоритетами, во-вторых.
Прежде всего и повальная републикация в журналах созданного много раньше, и единовременный спрос на эти новинки широкой читающей публики воспроизводили фактически прежние особенности и издательской системы (тиражирование готового), и читательского поведения (массовая мобилизация). Зачатки новых форм жизни по-прежнему уходят корнями в прежний уклад, несут на себе его следы. Принципиальная структура производимой тем самым книжной культуры сохранялась, в том числе в главном своем звене: скудости репертуара изданий и наращивании их тиражей. Сравним данные 1985 и 1989 гг. Количество изданных книг и брошюр упало на 9 %, газет выросло на 1 %, журналов – на 5 %, но тираж увеличился соответственно на 5, 21 и 47 % (!).
Разумеется, приобщение к запрещенному и вычеркнутому из социальной жизни сыграло свою серьезнейшую роль: если для периода застоя можно было в лучшем случае говорить, как А. Амальрик, о тысячах копий неподцензурной книги[12] (для Солженицына, по нашим с Л. Гудковым подсчетам, суммарная аудитория достигла за пятнадцать лет восьмидесяти – ста тысяч), то теперь Солженицын издается сразу миллионными и даже более тиражами, а число прочитавших за годы перестройки запрещенную прежде литературу (данные ВЦИОМа за март 1991 г.) достигло 44 %, тогда как в застойные годы таких было меньше процента (еще 15,5 % читали «кое-что»). Соответственно, теперь уже газетам, принадлежащим КПСС, доверяет меньше четверти населения, тогда как не доверяет свыше двух пятых. Спокойнее становится отношение к сверхсимволам: скажем, если в 1989 г. Ленина считали крупнейшей фигурой мировой истории больше двух третей населения, то к весне 1991-го его причисляют к самым выдающимся деятелям за всю историю СССР меньше двух пятых. Почти четверть населения уже положительно относится к понятию «капитализм», 40 % – к рынку, 57 % – к частной собственности.
Однако контрпропагандистская роль газет и журналов оказалась быстро исчерпана (вероятно, устойчивость сложившихся стереотипов изрядно переоценивалась). Подписные тиражи периодики в 1991 г. сократились в сравнении с 1989-м на 36 %. И если в конце 1989 г. 33 % опрошенных называли «АиФ» лучшей газетой года, то в конце 1990-го так считали уже 24 %, у «Известий» эти цифры выглядят как 6 % и 4 %, у «Литературки» – как 4 % и 1 %, у «Огонька» – как 21 % и 12 %, у «Нового мира» – как 4 % и 2 %.
Вместе с тем за этим централизованным фасадом и усредненными данными по валу и в расчете на Союз идут процессы иного масштаба, содержания и направленности (подчеркну только, что они опять-таки не отменяют прежних, а пристраиваются к ним как частичные).
Пришло время осознать, что и усредненные статистические данные по стране, и материалы общесоюзных социологических опросов ориентированы на получение средних сведений по массе. Говоря социологическим языком, они схватывают лишь воспроизводство нормы в распределении тех или иных характеристик, свойств, процессов и т. д. Между тем собственно культуротворческие группы и даже слои их первичной поддержки исчисляются в лучшем случае десятками и сотнями тысяч людей – долями процента от всего населения.
Так, в десятках тысяч названий издаваемых за год книг, конечно же, тонут несколько сотен авторов и названий, вокруг которых в предыдущее десятилетие концентрировался читательский спрос и которые за последние год-два стали в крупных городах общедоступны физически (остается, правда, барьер цены, но, быть может, это не чрезмерно высокая плата за отсутствие очереди?). Детективы, фантастика, приключения, детская беллетристика, полезные книги для дома и семьи, популярная история день за днем тиражируются как новыми – кооперативными, смешанными и т. п. – издательствами, так и вполне успешно паразитирующими на вчерашнем идеологическом криминале и вытеснявшейся «массовухе» государственными гигантами. Вышел к читателю «серебряный век» русской словесности и философии, идет перекачка в книжную форму журнальных публикаций последних лет (от сам- до тамиздата). Если судить по сигнальной информации «Книжного обозрения», в беллетристике лидирует зарубежный детектив, в разделе философии – книги по проблемам веры (включая нетрадиционные и посттрадиционные верования), в рубрике «история» – перипетии отечественной монархии, и особенно – жизнь и смерть последнего императора. Различные издания по эротике и сексу органами информации фиксируются плохо и заслуживают отдельного разговора. Но все эти книжные новинки, что и характерно, – пожалуй, вне центра новых событий: в опросе по итогам 1990 года мы не смогли получить списка лидеров чтения, поскольку они – кроме Солженицына – не собирают и процента почитателей, а массовая культура – жанрова, но безымянна.
Но процессы группообразования и формирования новых движений выявляются на уровне периодики. Отметим здесь прежде всего взрыв так называемой «неформальной прессы». В 1988 г. мы писали о нескольких десятках такого рода изданий. В 1989-м скрупулезный летописец этих явлений А. Суетнов включил в свою библиографию уже 1500 источников[13]. Даже неполные (за исключением четырех республик) сведения Госкомпечати на начало 1991 г. говорят о 2500 впервые учрежденных периодических изданиях. Всего лишь 15 газет и 14 журналов, впервые включенные в каталог «Союзпечати», уже собрали около 2,8 млн. подписчиков (тиражи порядка 100 тыс.). На фоне общегосударственной тенденции к замедлению роста и даже сокращению количества названий издаваемой периодики рост общественной активности бросается в глаза.
Еще заметнее это при снижении точки обзора до уровня республик: ведь осевым процессом истекшего года стал именно переход социально-политических инициатив на республиканский уровень, рост доверия к республиканским парламентам при спаде его к союзным органам. Тут, если брать книги на национальных языках, процесс накопления и расширения культурного капитала (рост числа названий и совокупного тиража) шел в 1985–1989 гг. в республиках Средней Азии, Белоруссии и на Украине. Активное группообразование и укрепление авторитетности вновь возникающих инициативных групп (рост числа и тиражей журналов на национальных языках) наблюдались в Латвии (названия – на 81 %, тиражи – на четверть), Эстонии (66 % и 33 %), Таджикистане (55 % и 32 %), а массовое приобщение к групповым культурным образцам – среди русских (рост тиражей на 58 %) и азербайджанцев (на 30 %). Возникновение же новых общественных движений и партий, равно как и расширение их влияния (рост числа и тиражей газет на национальных языках), наблюдалось в эти годы в Эстонии (рост числа газет на 114 %, тиражей – на 28 %), Литве (83 % и 40 %), Латвии (22 % и 17 %), Азербайджане (рост числа газет на 16 %); в России несколько массовизируется поддержка новых движений – растут газетные тиражи (плюс 18 %). Иначе говоря, фаза инициатив характерна для Прибалтики, Таджикистана, отчасти Азербайджана, фаза подхвата – прежде всего для России (а также перечисленных республик). Пассивность печати характерна для Киргизии, но особенно для Грузии, где все перечисленные показатели падают: общественные процессы минуют печатную форму и литературно образованную интеллигенцию.
Подытожим сказанное. Процесс активизации общественной жизни в его первоначальной, массовой форме дошел до «дна». Если в 1960-е гг. выбор позиций приняли на себя тысячи диссидентов и сотни тысяч их так или иначе поддерживающих, то в момент пика перестройки, в 1987–1988 гг., на этот путь встали уже миллионы, а сегодня (если взять тиражи наиболее отчетливых по своей программе массовых газет – «Комсомолки», «Аргументов…») – десятки миллионов. Сам процесс, думается, все больше будет принимать форму непосредственных коллективных действий – петиций, митингов, демонстраций, забастовок и т. п. В связи с этим не может не измениться и роль интеллигентов-идеологов, думается, что основные задачи по экстренному призыву, так или иначе, позади. С другой стороны, дезинтегрируется и то общественное целое (Союз, страна, держава), идею которого – пусть даже в самой мягкой форме единства культуры – интеллигенция несла. Это вновь ставит интеллектуальные круги перед требованием дифференциации идей и представлений.
Придется пройти через дальнейшее снижение сверхмассовых тиражей «толстых», а может быть, и «тонких» (типа «Огонька») журналов. Насколько можно судить по итогам подписки на 1991 г., минимально снизили тираж те издания, которые, с одной стороны, базировались на идее привития цивилизованности (неавторитарной социализации), – детские и молодежные познавательно-развлекательные издания, да отчасти и следующие в этом за ними взрослые издания, ориентированные на любительские занятия, свободное проявление семейных и групповых интересов (типа «Приусадебное хозяйство»), а с другой – создали за последние несколько лет свою квалифицированную аудиторию, объединенную широким интересом к культуре, истории, философии, религиоведению (скажем, «Искусство кино», «Наука и религия»).
Это предполагает несколько важных в социальном смысле следствий. Во-первых, умножение инициативных групп, дифференцирующихся по идеям, ценностям, представлениям, – групп с частичной культурой. Транслирующая их взгляды периодика рассчитана на подготовленную аудиторию, что, как показывает опыт двух последних лет, для отечественной публицистики вовсе не просто. Во-вторых, от решения оперативных задач мобилизации и перемагничивания массового сознания необходим переход к долгосрочной работе напыления и уплотнения самой социальной материи повседневного существования: в нынешнем ее виде она крайне рыхла и жидка, плохо проводя идеи, трудно их усваивая и не обеспечивая опоры (устойчивости под давлением, сохранности во времени); опять-таки, действие на перспективу требует особой собранности и ответственности. Третье обстоятельство – постоянная, но ненасильственная конкуренция и диалог, в условиях которых придется жить; привычная монополия на истину и склока как способ развития отношений – черты совсем иного уклада. И последнее – в перспективе более чем возможна известная делитературизация культурной и общественной жизни: снятие сверхнагрузок как со словесности, замечающей любые формы действия, так и с писателя, наделяемого атрибутами пророка. Массово-демократическую (в отличие от прежней массово-тоталитарной) интеграцию общества в оперативном режиме будут, видимо, осуществлять прежде всего аудиовизуальные каналы – разные формы телевидения, естественно, открытого зарубежному вещанию и ориентированного на единые критерии, временные ритмы, образцы и фигуры (ему, впрочем, предстоит на этом фоне и дифференциация – кабельные формы, кассетная «избирательная память» и т. д.).
Ясно, что все перечисленное предполагает цивилизованность, некатастрофичность экономического, политического и культурного развития страны и составляющих ее пока что частей в ближайшие годы, равно как и последовательную демонополизацию и децентрализацию системы коммуникаций в обществе, включая печатные способы. Но хотелось бы заметить, что намеченные перспективы не просто требуют всех этих гарантий, но сами являются ключевыми моментами их подготовки и реализации, – они способны двинуть дальше начатый демонтаж исчерпавшего себя порядка, обеспечивая разумные и грамотные формы опосредования скопившихся в обществе противоречий и сил.
Апрель – май 1991 г.
Журнальная культура постсоветской эпохи
Система журналов в разнообразии тематического состава, адресации к различным группам и уровням публики, тиражей и их динамики отражает степень дифференцированности общества, плотность коммуникативных связей между разными группами, слоями социокультурной структуры. Так называемые толстые журналы («литературно-художественные и общественно-политические», по принятому определению) находят свое функциональное место в рамках этой системы. Если описывать ее предельно схематически и лишь для интересующих нас здесь целей, можно выделить несколько основных типов журнальных изданий.
1. Журналы с тиражами порядка тысяч экземпляров – таковы издания специализированных групп и институтов; они осуществляют коммуникацию между коллегами данной специальности, области знаний – скажем, «Этнографическое обозрение», «Социологические исследования» и другие журналы Академии наук.
2. Журналы с тиражами порядка десятков тысяч экземпляров. Их задача – связь между различными группами интеллектуалов как носителей ценностей универсальной культуры, реализуются ли они в рамках науки, искусства, религии и др. (а соответственно, и связь между самими этими ценностями); таковы, например, «Вопросы философии» или «Вопросы литературы» своих лучших лет, «Искусство кино» в последние годы.
3. Журналы с тиражами в сотни тысяч экземпляров. Таковы в большинстве толстые журналы. Их функция в социальном плане – связь между различными культуротворческими группами, с одной стороны, самыми широкими слоями «образованной публики», с другой, и системой власти, «руководством страны» как основным партнером (или соперником) «творческой интеллигенции» в просвещении масс, с третьей. В собственно культурном, смысловом плане эти издания развивают и поддерживают определенную идеологию культуры (а соответственно – для России и СССР едва ли не прежде всего – идеологию литературы) как проект реализации целей, поставленных властью перед социальным целым, и приобщения к ним широких категорий письменно-образованного населения. Используя терминологию, принятую для описания слоя интеллектуалов (Э. Шилз, Ш.Н. Айзенштадт), здесь можно говорить о связи между «первичной», или «продуктивной», и «вторичной», или «рецептивной», интеллигенцией; немаловажно, что и номенклатура высших этажей власти, и кадры массового управления и социализации (бюрократия, редакционно-издательские работники, преподавательский состав и т. д.) формируются внутри этой идеологии, проходя по одним и тем же каналам индоктринации.
4. Журналы с тиражами в миллионы экземпляров. Это так называемые «тонкие», «массовые» издания – «Работница» и «Крестьянка», «Здоровье» и «За рулем» и др. Их партнер – «все общество», организованное по осям аскриптивных, «натуральных» связей (половых, возрастных), функциональная же нагрузка – интеграция всего грамотного населения вокруг первичного набора ценностей и навыков «цивилизованного общежития», «общественного существования». Здесь можно было бы говорить о процессе модернизации сознания и поведения на уровне повседневности – в семье, половозрастных слоях, группах сверстников; идеологическая ангажированность этих изданий – если не брать официозы типа «Советского Союза» или «Советской женщины» – в целом невелика, тогда как интересы читателей (бытовые, досуговые) в определенных рамках признаются и учитываются.
Если взять опорными точками существования всей журнальной системы пик «застоя» (1981), начало официальной «гласности» (1987), пик массовой читательской поддержки (1990) и текущий (1993) год, то изменения для журналов разного типа будут выглядеть так:
Динамика журнальных тиражей 1981–1993 гг.
Период «гласности» стал временем ускоренной по темпам и массовой по масштабам мобилизации с помощью печати (в не меньшей степени телевидения) самых широких кругов вокруг требований установить или «восстановить» социальную справедливость в продвижении и вознаграждении людей, доступе их к значимым позициям и статусам, соблюдении властью интересов основных групп общества. Критика сначала упущений, а затем и самой легенды власти привела к разрушению ее легитимности, падению рутинной поддержки всей сложившейся системы управления, эрозии, а потом и распаду ее структуры, разложению институтов. Общими временными рамками происходивших процессов были границы избирательных кампаний 1989–1990 гг. на союзном, а позднее на российском уровне. Но они определяли не только социальные ритмы существования различных групп и слоев в эти годы, но и формы межгруппового взаимодействия, влияя вместе с тем и на его смысловое наполнение, характер активизируемых символов и значений. Тут важны два наиболее общих момента.
В содержательном плане центральной проблемой общественной жизни, существования практически всех групп и слоев населения оставалась в этот период проблема власти. Вокруг нее и группировались наиболее ходовые символы (изобразительные и словесные формулы), к ней обращались те или иные ходы мысли публицистов тех лет, чей круг включал ученых, выступавших в СМК и вошедших – наряду с новыми политиками – в число наиболее популярных фигур; совмещение этих ролей – характерная черта периода (ученый как публицист, а журналист как политик). Существенно здесь то, что само общество в его собственном составе, интеллектуальные, эмоциональные, организационные и др. ресурсы его групп практически без обсуждения, но и без оговорки рассматривались и на митингах, манифестациях, и в печати лишь в качестве поддержки инициатив реформаторского крыла в высшем руководстве, как его «неприкосновенный запас», реализуемый сегодня «в трудную минуту». И так понимали дело все участвующие стороны: наиболее массовую поддержку в тогдашних опросах ВЦИОМа собирала позиция «помочь государству», но не «требовать от него большего» или «добиться того, чтобы оно служило нашим интересам». Сверху (в идеологии) сохранялась патерналистская опора на массы, снизу – патерналистская же по своим истокам поддержка. Даже мягкие слова А.Д. Сахарова о том, что для него эта поддержка президента-реформатора «условна», обществом в ту пору ни услышаны, ни осознаны не были.
Второй существенный момент связан с характером разработки этого комплекса проблем, их обсуждения в печати: патернализм отношений между властью и массой полностью сказывается и здесь. Говоря социологически, уровень реализации идей, ценностей, образцов, которыми располагали круги «первичной интеллигенции», снизился, они «популяризировались». Это значит, что они пускались в дело как готовый нормативный набор в расчете на ускоренное массовое приобщение, усвоение. Для интеллектуалов это было регрессией к предшествующему опыту – запасу обсужденного или прочитанного в неформальных компаниях или в сам- и тамиздате полутора-двумя десятилетиями раньше. Тиражирование вчерашних диагнозов и рецептов соответствовало переходу с позиций аналитика в ранг публициста. Активизация то тех, то других идей из накопленного багажа (и появление на общественной сцене то тех, то других людей, эти идеи воскрешающих) определила общее содержание и событийное наполнение 1988–1989 гг., и прежде всего – для самой интеллигенции, среди многого другого еще и реабилитировавшей себя в собственных глазах и глазах авторитетных партнеров за годы молчания и бездействия. Ее отождествление с реформаторским руководством в противодействии прежней системе повлекло за собой и быстрое исчерпание накопленного потенциала; их общий кодекс сделал свое дело, помогая отстранить от власти наиболее одиозные фигуры, способствуя освобождению людей от страха перед властями, ограничивая и подрывая роль так называемой «партии» и ее «органов» во всех областях жизни общества. Но, составляя идейную базу мобилизационного единения, политический и экономический патернализм «обновленной» власти сначала на союзном, а потом и на российском уровне не мог и не может решить проблем общества, которое отчасти живет еще надеждами на это: власть пестует патерналистские надежды подопечных, но не в силах им соответствовать, чем и подрывает собственный фундамент. Поддержка ее основных институтов и фигур упала, угас и интерес к ангажированной прессе. Если взять официальную статистику тиражей печати в целом, то за год от 1990 к 1991 г. годовой тираж газет по России в целом и на русском языке в частности сократился до 28 % и сблизился с показателем «застойных» лет (уступив уровню 1980 г. на 7 %). Положение с журналами еще тяжелей. При сохранении того же порядка по количеству изданий (сокращение за год на 7–9 %) годовой тираж их сократился на 63 % и уступает 1980 г. на четверть. (Данные по итогам 1992 г. выглядели бы еще резче.) Причем скорость падения тиражей ангажированной прессы намного выше средней. Быстрее всего разочарование в политике, падение интереса к ней ощутимы у молодежи. Падающий рейтинг лидеров и уменьшающееся доверие ко всем ветвям и институтам власти выражают кризис и распад системы патерналистской власти, демонстрирующей неспособность справиться с повседневными проблемами людей, обеспечить «нормальный» порядок и сколько-нибудь приемлемый образ жизни. Поскольку же власть перестала быть главной скрепой общества и источником страха, ни мобилизация на ее поддержку со стороны либерально-демократической интеллигенции, ни демонизация ее усилиями национал-коммунистической прессы, ни, наконец, перенесение критики и всей системы ориентаций на прошлое теперь уже широкой повседневной поддержки не имеют и вряд ли могут рассчитывать на нее в будущем. Общество – и особенно его более активные группы и слои, мужская часть населения, городская молодежь – начинает заниматься своими проблемами само.
А этот процесс не может не влиять на агрегатное состояние социума, пусть сначала в отдельных его сегментах, затем – в отношениях между ними и тем самым в более широких масштабах. Общество «уходит», «ускользает» из-под власти, оставляя ее с привычными для той склоками и утехами. Но в силу этого меняются место и судьбы всего слоя интеллигенции, основывавшего свое самопонимание на посредничестве между «массой» («народом») и «властью» («верхами») и, соответственно, вовлекавшего в эти отношения «Запад» (и миф о Западе). В условиях политического дезангажемента большинства общественных групп, с одной стороны, и при усложнении состава общества, самой системы ориентаций и критериев поведения в повседневной жизни, с другой, и интеллигенция как слой, и тиражируемая ею идеология культуры, тип мировоззрения в целом уходят с социальной авансцены. И относительная дифференциация уровней и стилей жизни, и устанавливающийся модус негероичности, повседневности существования расходятся с харизматическим самоощущением интеллигента, его миссионерским сознанием и просвещенческим, педагогическим отношением к другим. Интеллигенция перестает быть синонимом общества, «подлинного общества», как теряет и лидерство в культуре, поскольку та все менее организуется сегодня вокруг лидерской модели, будь то романтического или разночинно-демократического типа. Характерна сегодня концентрация предпочтений широких слоев населения, с одной стороны, и ориентиры инициативных, культуротворческих кружков и группировок, с другой. Среди итогов прошедшего 1992 г., связанных с деятельностью массовых коммуникаций, выделяются три события, три «сюрприза».
Первый – выход на первые места по зрительской популярности мелодраматических сериалов (прежде всего – мексиканского фильма «Богатые тоже плачут» и успех Вероники Кастро, исполнявшей в нем главную роль). Фильм, признанный «самым интересным» (25 % российских респондентов, опрошенных в феврале 1993 г.) и оставивший далеко позади любую другую телепродукцию, стал шестым по значимости событием прошедшего года, а Вероника Кастро – героиней года, оставив позади Аллу Пугачеву и Маргарет Тэтчер. Нечего и говорить, что показ фильма на год определил распорядок дня и круг разговоров десятков миллионов людей.
Второй сюрприз – выход в абсолютные лидеры среди лучших телепередач года еженедельной шоу-лотереи «Поле чудес» (так считали 28 % опрошенных; следующее за нею по популярности ток-шоу «Тема» собрало почти вдвое меньше голосов – 16 %). Распространенность всевозможных лотерей в сегодняшней России (как на экранах телевизоров, так и в обиходе уличной жизни крупных городов) – заметное явление последних двух лет.
Третье событие – беспрецедентный взлет тиражей и уровня подписки у выходящей с конца 1991 г. ежемесячной «научно-популярной» газеты по проблемам эротики «СПИД-Инфо». Сегодня она – вторая по тиражу после «Аргументов и фактов» газета в России, ее тираж 5 млн. 100 тыс. экземпляров (у «Аргументов и фактов» – 12 млн., у «Труда» – 2 млн. 60 тыс., у «Комсомольской правды» – 1 млн. 840 тыс. экземпляров). Практически ни одно из этих событий детально обсуждено профессионалами в открытой прессе или эфире не было. Между тем и их непосредственный социальный эффект (объем захваченных этими процессами масс населения, не сопоставимый ни с каким культурным процессом двух последних лет после пика «гласности»), и стоящие за ним социокультурные сдвиги значительны и требуют пристального внимания.
Фоном для ухода с авансцены толстых идеологически ангажированных журналов (и функционально близких к ним газет) становится процесс «возвращения к повседневности», составная черта которого – реабилитация позитивного отношения к жизни, к себе, к настоящему времени. Разумеется, в наибольшей мере этот процесс характерен сегодня для более молодой и активной части населения, особенно – добившейся за последние годы реального успеха и считающей, что происходящее сегодня – это «ее время» (такую оценку дали 17 % россиян, опрошенных в феврале 1993 г., среди молодежи эта доля существенно выше). Но авторитетность стоящего за этими оценками подхода к жизни – не возрастной феномен (хотя воспринимается и опознается большинством именно так). В целом это гораздо более широкая установка, рассеянная сегодня по разным слоям общества и сама становящаяся фокусом кристаллизации новых социальных образований, новых групп.
В предварительном порядке можно выделить несколько черт этого подхода к жизни, понимания себя и других, символического воплощения которых, насколько можно судить, ищут широкие группы населения в печати, кино, на телевидении, по радио. Прежде всего это осознание ценности жизни, поиски удовлетворения от нее, удовольствия, противоположные как «этике отказа» старших поколений, ставивших на выживание, так и шокирующей «чернухе» интеллигентской прессы, «нового кино» и т. п. В плане социологии культуры за этим можно видеть поиск позитивных санкций повседневных поступков в условиях, когда универсалистских ценностей и этики нет. Полнота самоощущения здесь как бы выступает подтверждением верности действия, аналогом или синонимом его небессмысленности, в конечном счете – социальной признанности, взаимности (особенно в мелодраме). Игра случая – один из стержней мелодраматического повествования о героях, действующих в условиях, когда жесткие социальные рамки предписанного поведения и нормативные коды оценок потеряли силу, а универсальные ценности и регулятивы самоответственности отсутствуют, не сложились. Тем более велика значимость подобных позитивных санкций для групп и слоев, либо начавших новое, свое дело, либо собирающихся ступить на этот путь. Отсюда – тяга к игре со случаем, судьбой, предназначением и т. п. (лотерея, астрологический прогноз, отчасти – нетрадиционные верования, в интересе к которым лидирует опять-таки молодежь, но возрастом и в данном случае процесс не ограничивается).
Второй важный момент новых, складывающихся кодексов жизни и ее оценки – стремление к равноправным и доверительным отношениям, особая значимость нерепрессивности и неподневольности их, свободы выбора, ролевой пластичности. Областью символизации такого рода установок и оценок выступает сфера телесного, эротического, тяга к которой противостоит ханжеству и двоемыслию прежней официальной морали и интеллигентского «морализма». Склонен думать, что и сама публичность выражения всех этих «новых» (а на самом деле – многие годы скрывавшихся, поскольку они не признавались обществом) устремлений противостоит – и порой демонстративно, подчеркнуто противостоит – практиковавшемуся двойному счету в поведении и оценках. Подобный «конец двоемыслия», крах готовности мириться (пусть молчаливо) с двоемирием, которое, надо сказать, сколько-нибудь высоко ценимым и привлекательным никогда и не было (адаптация неспособна создать лидеров и удержать авторитеты), – процесс для общества и культуры важнейший. Это еще не дифференциация общества, не само многообразие реально работающих на нее смысловых моделей, но это тот социальный климат, в котором установка на «самость» и «разноту» только и может завязываться.
Сам игровой характер этих типов действия – знак освоения новых особо значимых и потому особо отмеченных поведенческих кодов, этики достижения и вместе с тем нерепрессивности, удачи и одновременно партнерства. В конечном счете речь идет о навыках развитой социальности (и социабельности), культурно санкционированной и структурированной исключительно культурными, символическими средствами. Драматизм подобных поисков в обществе, во многом сохраняющем приоритет властных отношений и репрессивную мораль, выражается сегодня и во внутрисемейных межпоколенческих конфликтах, и в истероидности старших возрастных групп (особенно женщин), и в социальной стигматизации, криминализации молодежного поведения со стороны старших или систем власти. Но это особый и сложный комплекс проблем, связанных, вероятно, со становлением более динамичного общества и массовой по многообразию культуры. В поле зрения толстых журналов и стоящей за ними интеллигенции они либо вовсе не попадают, либо деформируются групповой идеологической оценкой как со стороны правоконсервативной (почвенной, религиозной, коммунистической), так и со стороны леволиберальной (дистанцирование от массового как «низкого» и «пошлого», достойного лишь пародии).
Другой полюс современной культуры, дифференцирующейся от интеллигентской публицистики в ангажированных журналах и газетах, – группировки и кружки, выступающие сегодня организаторами малотиражных журнальных изданий (альманахи и сборники – иная культурная форма, требующая и отдельного разговора). Их тиражи сегодня – от 500 экземпляров (московский «Апокриф») до 10 тысяч (московские же «Твердый знак» или журнал по проблемам кино «Сеанс»), в среднем – две-три тысячи; иначе говоря, он сопоставим с традиционным тиражом и объемом аудитории специализированной журнальной прессы. География этих изданий вовсе не ограничивается двумя столицами: они выходят во Владикавказе («Дарьял») и Казани («Черный журнал»), Саратове («Утес») и Симферополе («Берега Тавриды»), Твери («Русская провинция») и Киеве («Новый круг»). Наиболее объемная и динамичная их часть – журналы, отведенные научной фантастике, любимому литературному жанру городской молодежи, обживающей для себя ситуацию социального и культурного перехода, вырабатывающей навыки рационального, технического оперирования со временем и его условностью, да и с условностью как таковой; их возникло несколько десятков. Другой значимый пласт – философия, включая философию культуры и гуманитарную эссеистику, отечественную и переводную: московские «Здесь и теперь» и «Логос», «Начала» и «Путь», «Ступени» и «Эпоха», уже упоминавшиеся «Апокриф», «Новый круг» и «Твердый знак». Возникли специализированные, высокопрофессиональные издания по литературной критике и библиографии: «Новое литературное обозрение», «De visu» (оба – Москва); истории («Источник», «Исторический архив»), включая исторический журнал для детей «Троя»; социологии («Мир России», «Вопросы социологии»). Понятно, что постоянно возникают и собственно литературные журналы – от московского журнала поэтов «Воум» и элитарных «Петербургских чтений» до органа литературного авангарда г. Первоуральска «Пастор Шлаг» и «журнала графоманов» «Золотой век».
Эти журналы свидетельствуют, что началось разложение прежнего единства журнальной периодики и мира печати в целом, контролировавшихся одним по условиям формирования, базовым ориентирам и ключевым символам слоем интеллигенции (иначе говоря, она сама в данном ее воплощении все отчетливей выявляется как феномен исторический, продукт определенного совпадения и осмысления исторических воль и обстоятельств). После спада энергии мобилизационного призыва 1988–1990 гг., так сказать, «отлива» людской массы обнажились существовавшие на правах кружков частных лиц социальные образования иного масштаба и другой природы. В самом схематическом обобщении это группы любителей, объединенных неким культурным интересом (что-то вроде клуба, например, приверженцев зарубежной фантастики), и более малочисленные круги профессионалов, связанных универсальными ценностями познания, критериями рациональности, доказательности, аргументированности и т. д.
Если говорить о фазе, на которой мы застаем их сегодня, то я бы назвал ее фазой «кишения» (или «роения»): это стадия выявления инициатив, заявок на существование, узкогрупповых манифестов. Показателем этого может быть отсутствие сколько-нибудь общего поля сопоставления образцов, критериев их оценки, часто даже общего языка. Можно говорить здесь о границах значимости универсальных принципов и связанной с ними этики, техники работы. Характерно, что в этих журналах, как правило, нет рецензионных отделов и рецензий друг на друга (хотя прежние толстые журналы – «Вопросы философии», «Новый мир» и др. – их иногда рецензируют, а специализированные «Новое литературное обозрение» и «De visu» делают это систематически). Стоящие за этими изданиями группы и их воображаемые партнеры, «своя публика», как бы не видят друг друга, не принимают в расчет как соратника, оппонента и т. д. Это нормально для начальной фазы группообразования – фазы манифестов. Наряду с собственно новыми и молодыми есть и те, которые не вписывались ни в старые «советские» рамки, ни в перестроечный кодекс. Это именно культурные группы, настаивающие на иных, автономных основаниях собственной идентичности; это может быть и индивидуальный синтез универсалистских ценностей («Мировое древо»), и столь же индивидуальный по масштабам культурный консерватизм, отделяющий себя и от державности, и от почвенничества (таковы сегодня некоторые направления религиозных поисков под влиянием протестантской диалектической теологии или неоортодоксального католичества).
Но отчасти за новой периодикой могут стоять «осколки» прежних групп с той же устойчивой разметкой мира в рамках российской «идеологии модернизации», скажем, по оси «Восток – Запад» (журнал «Параллели»). От них надо отличать случаи, когда сама редакция подчеркивает свою преемственность по отношению к тем или иным группам и их определениям в прошлом (отсылающие к журналам начала века «Путь» или «Логос» или к органу народничества рубежа веков «Русское богатство») либо, напротив, дистанцируется от групп «прародителей», что обозначается предикатом «новый» («Новое литературное обозрение» или «Новая Юность»). Иначе говоря, следует вслед за К. Манхеймом различать процессы «крошения», парцелляции прежних групп и кристаллизации новых; для этого необходим анализ символики и семантики их групповых определений реальности, трактовок времени, фигур мысленных партнеров и т. д., то есть работа по социологии печати в рамках социологии идеологии, социологии культуры, с одной стороны, и исследования процессов группообразования и распада групп, с другой.
Оба эти кратко намеченных здесь процесса – на уровне массовом и узкогрупповом – образуют сегодня границы существования групп, связанных с изданием, распространением и оценкой толстых журналов, границы культуры, фиксирующей и закрепляющей их ориентиры и приоритеты, конфликты самопонимания и напряженность отношений с другими. Это, конечно же, новые условия существования для всех. И сам факт, что прежние журналы и создающие их люди уже существуют в этих новых условиях и практически живут и ведут себя по-новому, представляется наиболее фундаментальным и куда более важным, чем их сожаления о прошлом лидерстве и страхи перед будущим исчезновением. (Это же можно сказать и о других группах, демонстративно отождествляющих себя с прошлым или соотносящихся с ним, не обращая внимания на то, что не только условия их существования, но и их восприятие этих условий и самих себя, весь код поведения и оценок уже изменились и они уже – субъекты этих изменений.) В этом смысле ни закрывание глаз на изменившихся себя, ни попытки заклясть понимание этого обстоятельства призывами к «сохранению» себя прежних либо «лучших сторон» или «вековых традиций» (и всегда без уточнения, в чем эти традиции заключены и чего эти стороны касаются) не кажутся продуктивной позицией для тех, чья задача – понимать происходящее и находить способы воплотить и донести до других это понимание. Воля к самоосуществлению и воля к реальности здесь равнозначны и в конечном счете означают волю к культуре, то есть – к многообразию и форме (но не к идеологии культуры, чья задача – навязывание единообразия диффузной «массе»).
Попытки как-то зафиксировать изменения вокруг и в себе в отдельных толстых журналах в последние месяцы время от времени предпринимаются как внутри редакций (структурные преобразования, кадровые перемены), так и на их страницах (открытие новых рубрик, имен и др.). Характерно, однако, что последние не вызывают откликов, полемики, продолжения развития и т. д. – всего, что характерно для развитой журнальной системы, – и в совокупности с первыми пока мало что меняют. Из перемен, которые внятны для внешнего, неангажированного читателя, наиболее явны в сегодняшней журнальной жизни, кроме утраты тиражей, пожалуй, следующие. Во-первых, это утрата регулярности («Звезда», «Юность», «Дружба народов» и др.) – важнейшей характеристики именно журнала, группа инициаторов которого сама членит и наделяет смыслом текущее время, поддерживая неотрывное к нему внимание. Можно назвать это потерей чувства времени – своего и общего. Во-вторых, это резкое снижение рецензионной работы и сокращение отделов рецензий и библиографирования. Здесь скрывается, конечно, и распад временных рамок идентификации (о чем говорилось), но и сужение общего поля действия и внимания, возможности сопоставления и анализа в каких-то твердых и понятных категориях. Можно назвать это потерей общего пространства (экономические аспекты происходящего здесь заслуживают отдельного разговора, но ситуацию не исчерпывают: она – более глубокая, смысловая). В-третьих, утрачивается структура журнала как целого, как воплощения единого замысла, программы, образа мира. Можно назвать это утратой формы и чувства формы. Все перечисленное вместе говорит, что журнал теряет собственно журнальные черты, сближаясь с альманахом, сборником, то есть книгой, и с книгами же на их, книжном, рынке для читателей и сопоставляясь, конкурируя (по насыщенности информацией, занимательности, цене и проч.). Выбор, как видим, чаще всего не в пользу журнала. Ссылка на трудности издания сегодня книг (и потому необходимости журналов для новых авторов, с одной стороны, армии писателей, которым грозит безработица, с другой, и публикации наследия «высокой», некоммерческой литературы, исторических материалов, с третьей), по сути дела, отношения к судьбе журналов не имеет, поскольку журнал при этом понимается лишь как технический способ донесения некоего печатного содержания, а не как культурная форма, именно этим и значимая; иначе говоря, смысл журнала утрачивается здесь даже его защитниками. Идет же защита собственного статуса, привычного существования и т. п.
Резюмируя, можно назвать наполнение нынешних «толстых» журналов – и в смысле идей, и в плане стилистики – эклектическим. Соединение привычного мировоззренческого и эстетического кода, прошедшего через несколько поколений журнальных авторов 1960–1980-х гг. от «оттепели» до «московской школы» и от деревенского очерка и новомировской критики до начатков полупризнанной тогда культурологии, с републикуемым авангардом и тамиздатом этих же лет и новыми постмодернистскими образцами производит, скорее всего без намерения авторов и издателей, впечатление пародии, а в социологическом смысле – сдвига к культурной периферии как области соединения уже «готовых» (в словоупотреблении Тынянова), отработанных значений и моделей. Собственно говоря, об этом же свидетельствуют и социологические исследования аудитории толстых журналов в последние два года: эти издания уходят в более пожилые и менее образованные группы, к служащим с гуманитарным образованием, или местному руководству среднего и низшего звена, отчасти – к инженерно-техническим работникам. Именно для этого слоя проблематизировано сегодня само существование образцов культуры как образцов, равно как и внятна известная традиционализация ориентиров и оценок во многих толстых журналах, об одиозно-почвенных и оголтело-державных уж и не говорю.
Как представляется, сохранять компоненты прежнего, патерналистско-просветительского миссионерства – в нынешнем самопонимании и адресации к другим группам – издателям и авторам сегодняшних толстых журналов можно лишь в глазах все более рутинной по вкусам аудитории и в достаточно узких масштабах. Не исключено, что сегодняшние тиражи – при сохранении редакционной политики в изданиях этого типа – по итогам первого полугодия и подписке на второе еще сократятся. Но в любом случае существовать им придется дальше на иных правах и в других условиях, чем раньше – и в годы перестройки, и до нее. От трезвого осознания этого обстоятельства для самих журналов будет зависеть все.
1993
Литературные журналы в отсутствие литературного процесса
Сказанное ниже – нечто вроде постскриптума к статье «Журнальная культура постсоветской эпохи». Причем речь пойдет не о прибавлении эмпирического материала, хотя он – и достаточно объемный, но трудный для изложения и схватывания на слух – есть, а о более, по-моему, существенных сегодня уточнениях диагностического и отчасти – концептуального свойства.
1. Говоря об отсутствии литературного процесса, я смотрю на ситуацию глазами социолога и имею в виду самые привычные до недавнего времени представления о границах и структуре, преемственности и движении литературы, как они выражались в обыденной работе интерпретатора – журнального критика, обозревателя и рецензента, с одной стороны, историка словесности (включая ее преподавателя), с другой. Обычно в формах журнальной деятельности, обращенной к публике (а не чисто внутриредакционной), шло межгрупповое признание литературных новинок и их взаимная первичная сортировка (разметка по качеству). Далее они соотносились с идеологически представленным целым «текущего момента» и актуальной словесности, получая соответствующий знак надгрупповой авторитетности, а затем – сопоставлялись с ее историческими ресурсами и традициями, вводясь в ранг образцов. Период, за который литературная ситуация принципиально изменилась, по-моему, уместился в три, много – четыре года, примерно с конца 1987-го по конец 1990 – начало 1991-го.
2. На уровне представлений о литературе здесь, на мой взгляд, важны три факта: публикационный бум, легализация авангарда и снятие ограничений на тиражирование «массовой» (в подавляющем большинстве – переводной) словесности. И то, и другое, и третье связано с упразднением наиболее жестких форм цензуры и самоцензуры – принципиального барьера, десятилетиями регулировавшего отношения между авторским сообществом, литературно образованной публикой (включая учащихся) и структурами монопольной власти. Усилия многих, даже весьма отличавшихся друг от друга культурных групп соединились в этот период на одном направлении. Это дало непривычное ощущение стремительности, наполненности и осмысленности времени (а отчасти и ложной его «понятности», за которой до времени скрывались принципиальные расхождения и тактические недоговорки), приведя за очень короткий промежуток к ощутимым, хотя и не во всем предвиденным переменам.
Практически для всех – как пишущих, так и читающих – стерлись, казалось, неистребимые разграничительные черты между:
– официозной и «второй» (непубличной) литературой (культурой), по меньшей мере последних двух с половиной десятилетий;
– литературой здешней, подцензурной, и «вольной», тамошней или тамиздатовской, появившейся за три поколения писателей и читателей за «железным занавесом», в том числе – в эмиграции;
– «высокой» (актуально-проблемной и дидактико-классической) и «массовой» («рыночной» и т. п.) словесностью.
Стало ясно, что наша «литература» была не просто совокупностью произведений (они так или иначе есть всегда и везде!), а системой демаркационных линий, разделяемых ими зон и ролей соответствующих гейткиперов. Вопрос об иных, новых условиях и контекстах ее существования, формах внутренней организации и воспроизводства, что характерно, практически не возникал. Вместе с тем, и это было, пожалуй, главным, непредвиденным и обижающим, хотя, опять-таки, всерьез не обсуждаемым фактом, оказалось, что литература теперь – в таком ее нынешнем состоянии и окружении – перестала быть «событием» («духовным центром нации», по выражению Виктора Кривулина, 1994). И даже не только «главным» событием исторической жизни, но и вообще областью потенциальных, хоть кем-то в стране ожидаемых событий. Одновременно исчезли или сгладились и события в литературе, что, конечно же, характеристика не «самой» словесности, а взаимоотношений в среде людей, ею занимающихся. Эти люди, по моим ощущениям, все меньше интересны друг другу всерьез и все меньше значат за пределами своего круга.
3. Определение современной ситуации, равно как и ее проекции и контрпроекции в прошлое («история») из общепринятых и аксиоматичных превратились в проблему. Ставить, анализировать и решать ее в субъективно-значимой форме и самостоятельно выработанными средствами – то есть выдвигая спектр своих, новых определений современности и ее исторических рамок, определений литературы и культуры – образованные слои и их ведущие группировки оказались неготовыми. У прежней миссионерской «интеллигенции» это вызвало подавленность и раздражение, у новых, противостоящих ей генераций, во многом идущих с культурной периферии или из маргинальных слоев, – характерное смещение критериев.
Думаю, что фельетонная легкость газетного переноса ими чужих категорий «постмодерна» на общество, не прошедшее (а в некоторых аспектах и по ряду критериев даже не вошедшее в фазу) собственно «модерности», – из того же наследия прошлой эпохи, в чем, кажется, мало кто сегодня способен признаться.
Это еще одно свидетельство той же неготовности наших кандидатов в элиту к роли действительной элиты, травматический синдром их загнанной в подсознание зависимости, страха перед собственной несостоятельностью, непродуктивностью, их внутренней растерянности перед свободой, безотчетной привычки к интеллектуальной «халяве» при уходе от труда самоответственной рефлексии, выбора позиции, от современности как таковой.
4. Понятно, что эти процессы, напоминающие известный сюжет с учеником чародея, прежде всего и наиболее остро поставили под вопрос две главные формы социального существования гуманитарно образованного слоя: толстый журнал с идейной платформой и литературоцентристскую школу, а говоря шире – весь спектр ролей от ангажированного (хотя бы и в форме противостояния официозу) критика и публициста до редакционных и библиотечных работников и педагогов высшей и средней школы. То есть обнаружила свою ограниченность, а может быть, и исчерпанность основополагающая, чисто репродуктивная (классикализирующая) функция массовой интеллигенции в социальной системе советского типа.
Эта функция – и даже миссия – долгие годы определяла статус и существование, весь образ жизни, систему самопонимания и отношения к другим и с другими у гуманитарно образованного салариата в нашем закрытом обществе с его зачаточной, рудиментарной и жестко контролируемой сетью коммуникаций, распространения и воспроизводства образцов между группами и уровнями (в свою очередь, крайне примитивно выраженными и грубо оформленными, откуда и завышенная роль позиции гейткиперов, а то и конкретных их фигур), в обществе со слабо разработанной внутренне и социально неполноправной, полунепризнанной и подавленной извне символической системой, системой предельных ориентиров, границ и переходов между уровнями значений – формами собственно культуры. В зрелых обществах смысловой мир индивидов и групп структурируют не закрепленные социальные статусы, не гиперболизированные (или даже демонизированные) персонажи социальной сцены (и прежде всего – фигуры власти), а именно универсальные ценности и символы, во всей их «невещественности», то есть – обобщенности и условности, обусловленности.
5. Что произошло и происходит сегодня с литературными журналами? Для начала отмечу, что – благодаря целевой поддержке массовых библиотек и, в частности, осуществляемой для них фондом Дж. Сороса подписки на периодику – практически ни один из толстых журналов, при всех криках о «катастрофе» и «конце» культуры, не закрылся, не обанкротился (та же ситуация, насколько могу судить, и с профессиональными театрами в обеих столицах). Но большинство их, так же как и прежде, не существуют на подписку (то есть по-прежнему не зависят исключительно от читателя). Они ищут сегодня не столько читателя, сколько спонсора, часто – в лице государства, фактически живя как бы на правах «малых» журналов, но без их новаторской роли. Задача самоопределения, как и проблема обобщенного адресата, значимого «другого» (а стало быть, отношений партнерства и диалога, а не дидактического доминирования или игры в поддавки), сколько-нибудь серьезно не встает, вытесняется или откладывается. Текущая работа рецензента и обозревателя (то есть межгрупповое взаимодействие, тем более – продумывание и обсуждение его правил, введение новых кодов и т. п.) замещена газетным информированием о новинках (нередко – их рекламой) либо чисто игровой демонстрацией дистанцирования от «других», в том числе – от любых партнеров. Я имею в виду так называемый стеб как фактически единственный вид или последний реликт сколько-нибудь внятной социальной артикуляции (жестикуляции) группы[14].
6. Те, кто читателя ищет, в том числе – поднимая вопросы о необходимости его социологически или психологически «изучить» – «Новый мир», «Знамя» и др., – это, как правило, журналы «старые», с давним именем и обновленной репутацией последних лет (вообще дифференциация изданий, скажем, по поколениям стоящих за ними культурных групп в нынешней литературе – как и в обществе в целом – явление заметное и требующее анализа). Их поиски, скорее всего, успехом не увенчаются. Но это не значит, будто перестанут существовать сами эти журналы, они ведь, если честно, на читателя, как уже говорилось, не опираются – он скорей фигура в их идеологии или риторике.
Как хотелось бы сделать хотя бы тезисно понятным, с бывшей «страной читателей» происходят сегодня все перечисленные процессы и многие другие – социальные, экономические, мировоззренческие, здесь не названные, но по силе, вероятно, не менее мощные. А потому любой «готовый» читатель сегодня – это читатель, все более рутинный по привычкам и консервативный по своему месту в обществе. Удержание (а тем более расширение) публики за счет подобных слоев возможно лишь ценой жертвы качества, потери уровня, направленности работы, роли в культуре и в принципе мало чем отличается от прежней чиновной ориентации на «читателя-дурака».
7. Попытки сохранить при этом и лицо, и тираж, механически соединив что-то вроде эзотерического «Искусства Ленинграда», профетического «Нового мира» и детективной «Смены», дает, например, сегодняшнюю «Звезду» – издание не только вынужденно, но и принципиально эклектическое, что, впрочем, можно отнести сегодня ко многим толстым журналам (а может быть, и к самому этому типу печати).
Введение разных уровней проблематичности и сложности материала внутрь журнала и даже каждого его номера (скажем, «Гид» в нынешней «Иностранной литературе»), по-моему, работает скорей на консервацию принятой функциональной формы и набранной – пусть даже неплохой – высоты, вместе с тем тормозя реальную дифференциацию публики и, вероятно, разных групп внутри редакции. Характерно, что подобный журнал, и с опозданием присоединяющийся к общепризнанному, и вводящий новые имена, и наново интерпретирующий классику, и дающий материал для чтения (романы с продолжением), числом у нас по-прежнему один.
8. С проспективной точки зрения интереснее поговорить как раз о тех литературных журналах, которые читателя «не ищут». Среди них я бы ограничился в принципе двумя типами. Один вполне реализован в сегодняшней эмпирии. Другой же – это скорее некое функциональное место, роль, неоткристаллизовавшаяся функция, частично присутствующая в деятельности некоторых изданий «в связанном виде», но чаще как бы рассеянная в литературной атмосфере и ощутимая именно как нехватка, в качестве значимого отсутствия.
Первый – малотиражный орган литературного кружка: здесь читателя не ищут, поскольку уже имеют, ограничиваясь «своими». Такие издания сегодня множатся, пребывая – как и породившая их социальная среда – в фазе «роения».
Кружок как вид социальной связи и по своим функциям, и по структуре адаптивен. Это устройство для выживания или приживления. Форма его самопредъявления – не столько журнал, сколько альманах, каковыми большинство нынешних новых малотиражных литературных изданий и являются. В отличие от группы, у кружка не подразумевается согласованной и выраженной картины мира, своей символической формулы реальности, своего гласного, публичного определения литературы, поскольку нет «своего другого» – значимого партнера (кроме фигур негативной идентификации) – и места в общем времени как в поле диалога, полемики с другими. Потому принять на себя задачу литературного обновления, сдвига, переворота кружок не может: он – форма переходного периода, орган перехода культуры от группы к группе, временная связь при подвижке или перестановке персонажей литературного поля. А такой перебор или, точней говоря, калейдоскопическое «пересыпание» фигур – отличительная черта литературной и художественной жизни последних года-полутора. Ее публичная форма – многолюдная «тусовка», часто с призами, демонстрацией по телевидению и т. п. (так сказать, кулуары, миллионными тиражами вынесенные теперь на экран, но по-прежнему в отсутствие какой бы то ни было принципиальной полемики).
Итак, с одной стороны, привычный (в том числе – по прежней жизни) кружок «своих», с другой – представительская по функции и окказиональная, театрализованная по характеру, хеппенинговая по структуре «тусовка всех». Соотношение их так или иначе дозируется в форме клубов разного типа (разной степени открытости/закрытости). Обе эти формы – временные и адаптивные, ни креативной функции, ни отбора, рафинирования и воспроизводства они – по самому определению, по смыслу – не несут и нести не могут.
9. Идея, образ – продукты индивидуальные, они рождаются из личных проблем, из субъективной заинтересованности, сосредоточенности на происходящем с тобой и важными для тебя людьми и предметами здесь и сейчас. Но реализуется, фокусируется, «отстаивается» субъективность – в группе. Форму семантическому богатству ее образов и идей (богатству в принципе неисчерпаемому, а потому – в принципе неопределенному) дает группа, а это уже совсем другое, отличное от кружка устройство. Главных отличий, кроме упомянутого, три:
– во-первых, ролевая дифференциация, функциональная взаимодополнительность – кристаллизующаяся по отношению к задаче, к «делу» и в ходе этого общего жизненного дела социальная структура с ее подбором и распределением «человеческого материала»;
– далее, наличие функционального оппонента, форм критической дискуссии, постоянного коллективного испытания на прочность;
– и, наконец, заинтересованность в более широких кругах, группах подхвата выдвинутых идей (кружку как бы достаточно его самого).
В целом эта, групповая, форма самоосуществления, соревнования, проверки и первичного отбора элит исключает или, по крайней мере, значительно ограничивает более привычные для традиционной интеллигенции «веяния». Она противостоит такой форме коллективного сосуществования и представительства, как «течение» с его проблематикой вождизма, верности, измены, разборок с апостатами и прочих способов компенсировать упрощенность структуры и подхлестнуть быстро иссякающий, истерический активизм.
Так вот, второй тип журнала, о котором я хочу упомянуть, и есть орган группы. Группа выбирает свои ориентиры и соизмеряет время сама, потому что сама задает его направленность и темп, сама наполняет их содержанием. В наиболее простой формулировке ее дело – порождать и совершенствовать слова или даже «говоры» (а то и целые языки), утверждать язык как презумпцию осмысленности и общезначимости индивидуального существования. Если говорить короче – «to purify the dialect of the tribe» («очищать наречие племени»), по Элиоту. Нынешняя неопределенность журнальной системы (не говоря о «кризисе толстых журналов») связана с недоразвитостью или аморфностью самостоятельно-групповых структур коллективной жизни в наших условиях, дефицитом или непониманием смысла самого этого уровня социальной системы, уровня, который, собственно, и есть общество (в отличие от государства, державы, нации, режима и т. п. форм «больших» общностей).
10. Завершая разговор о журнальной ситуации, напомню, что лучшие из (по крайней мере из мне известных) литературных журналов XX в. – такие «малые» обозрения, как аргентинский «Сур», кубинский «Орихенес» или мексиканская «Вуэльта», французские «Минотавр», «Коммерс» и «Кайе дю Сюд» или, наконец, прообраз их всех, английский «Критерион» (где в эссе 1920-х гг. только что процитированный Элиот, кстати, сформулировал свое представление об идее и функциях литературного журнала), – во-первых, не были изданиями чисто литературными. Автономность литературы не в том, что она занимает все поле культуры и рядом с ней никого нет, а в развитой системе постоянно взаимодействующих с ней (в том числе – здесь же, на страницах журнала, в сознании и диалоге его авторов) интеллектуальных партнеров – философии, антропологии, культурологии, социологии, психологии, истории, религиоведения, искусствознания и т. д. А это упирается, конечно, в соответствующие формы образования и профессиональной подготовки кандидатов в «интеллектуальную элиту», уровень их квалификации, тесноту рабочих связей между различными специализированными фракциями, которые закладываются и далее поколение за поколением воспроизводятся уже в структуре университетского обучения и сообщества, а позднее – в форме обществ, союзов и т. п.
Во-вторых, эти издания никогда не были чисто национальными ни по составу участников, ни по занимающим их проблемам. По самой своей функции, по самосознанию их инициаторов – от Элиота, Валери и Борхеса до французских сюрреалистов, Октавио Паса и Хосе Лесамы Лимы – изоляционизм здесь попросту исключался. И дело не просто в этикетных, пусть даже сверхоперативных переводах, что называется, «вершин европейской мысли и мировой литературы», как это делается у нас сейчас на страницах тех же изданий, а зачастую и руками тех же самых людей, кто этих мыслителей и писателей несколько лет назад заушал и гнобил. Дело в живом и повседневном сознании многообразия истории и культуры как внутренне единых и твоих собственных, без невротических идиосинкразий и наших (по-прежнему советских!) уродских и провинциальных именований их «зарубежными» или «иностранными».
1994
Книга и дом
(к социологии книгособирательства)[15]
Когда проблемы книги, чтения, личной библиотеки обсуждаются в межличностных коммуникациях, журнальных статьях и текущих исследованиях, предметом обычно служат содержательные характеристики печатных текстов: речь идет о тех или иных параметрах имеющихся в них сообщений – научно-информационных, справочно-нормативных, жанрово-тематических, дидактических и т. п. Но чаще всего в стороне остается сам факт собирания печатных источников в доме, способ их существования среди домашней обстановки, форма организации библиотеки в соотнесении с пространством жилья. Столь избирательное внимание не случайно, как показательно и то, что когда к этим игнорируемым моментам все же обращаются, их обсуждение настойчиво блокируется негативной оценкой. Допустив в круг внимания «неподобающие» аспекты или способы бытования книги, участники тут же демонстрируют социальную дистанцию, расподобляясь с «формальными», «показными», «вещистскими», «мещанскими» сторонами жизни книг. Мы попытаемся, во-первых, разобрать смысловую структуру подобных оценок, во-вторых, уяснить их социальный контекст и генезис и, в-третьих, наметить траекторию сдвига этих устойчивых представлений и их рамок, относящегося к самому последнему времени. Важно предупредить, что весь этот комплекс задач рассматривается здесь как теоретический: обусловленный проблематичностью наличной книжной ситуации, напряжениями в различных ее аспектах, он сосредоточен преимущественно на выработке языка описания и истолкования проблем.
Как и в предыдущих работах, опирающихся на традиции социологии идеологии и социологии знания, меня здесь будет интересовать заключенный в представлениях о книге и библиотеке образ человека и общества, соотносительное понимание себя и других. Значимыми в этом плане характеристиками (осями для фиксации в группировки материала исследуемых оценок) изберем следующие:
– замкнутость/открытость (целостность/дробность) домашнего книжного собрания;
– способы его временной организации (в соотнесенности времени создания, издания и собирания текстов);
– печатные и изобразительные компоненты образа книги.