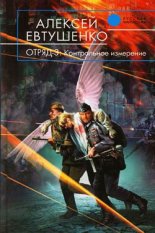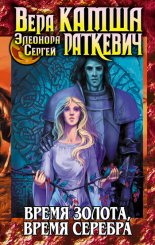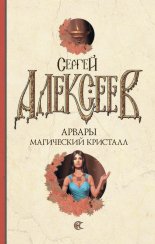Святослав Скляренко Семен

Это были необычайно напряженные минуты. Внизу кто-то вцепился сильными руками в лестницу, она натянулась, как струна, ветер силился откинуть ее от стен — в пропасть, в море, однако неизвестный упорно и смело подымался все выше и выше. В темноте послышалось тяжелое дыхание, вот уже появились руки, туловище.
Стоявшие на крыше подхватили качавшегося над бездной мужчину.
— Руку! Руку! — испуганно шептали они.
— Наконец-то! — сказал неизвестный. — Проклятый ветер! Думал, что попаду на ужин акулам Пропонтиды. Все ли собрались?
— Все собрались и ждут тебя. Пойдем!
Крадучись, тронулись друг за другом по крыше Буколеонского дворца и спустились во двор.
Порывистый, холодный ветер мчался через Золотой Рог, завывал на форумах, в улицах и уносился в черную бездну Пропонтиды. На краю крыши Буколеонского дворца извивалась забытая веревочная лестница, и уже не было силы, которая могла бы ее наклонить к земле, к стенам, к разбушевавшимся волнам холодного, грозного моря. Да и кому она была теперь нужна? Сооружая из камня и железа свой дворец над морем, Никифор Фока не мог предвидеть, что с его неприступных стен можно спустить к морю тоненькую веревочную лестницу…
Император Никифор заснул очень поздно, и не на царском ложе, а просто на полу, на шкуре барса. Чтобы не замерзнуть, император накрылся теплой мантией своего дядьки, монаха Михаила Мелаина. Эта мантия, казалось, защищала его.
Проснулся император от того, что кто-то сорвал с него мантию и сильно ударил в грудь. Испуганный, он приподнялся, хотел вскочить на ноги, но не смог — страх сковал его тело, отнял язык…
То, что он увидел в опочивальне, было страшнее, чем могло представить болезненное воображение. Опочивальню наполнили воины с мечами в руках. На пороге, также с мечом, стоял Иоанн Цимисхий.
— Господи! Что это?! — крикнул Никифор, не понимая, как эти люди очутились в такую глухую пору ночи здесь, в его опочивальне.
И тотчас, словно все только того и ждали, один из воинов (император узнал его — это был начальник этериотов Лев Валент) выступил вперед, взмахнул мечом и ударил его. Удар пришелся по голове, император почувствовал нестерпимую боль, глаза залило кровью…
Но император не потерял сознания. Он понял, что эти люди пришли его убить. И, хотя знал, что теперь ему спасения нет, закричал:
— Богородице! Спаси! Спаси!
Тогда несколько человек схватили его за руки, потащили по полу, бросили на мрамор.
— Чего кричишь? — услыхал Никифор.
Сидя на полу, он молчал. Прямо перед ним, на его царском ложе, сидел Иоанн Цимисхий.
— Чего кричишь? — еще раз спросил Иоанн.
— Иоанн! Брат! — не сказал, а скорее прошептал Никифор.
— К кому ты обращаешься? — спросил Иоанн и засмеялся. — Брат? Кто кому брат? Как смеешь называть меня братом, ты, севший при моей помощи на престол, но от зависти и безумия забывший мои благодеяния, ты, который оторвал меня от войска и хотел выслать, как преступника, в Армению?
— Иоанн! Прости! — завопил Никифор.
— Молчи! — перебил его Иоанн. — Никто и ничто теперь не вырвет тебя из моих рук. Говори! Я слушаю, — может, ты скажешь, что не виноват?
— Богородице! Умоляю! Спаси! — снова взмолился Никифор.
— Безумный, глупый император! — крикнул Иоанн.
Он выхватил меч и кинулся к Никифору. Со всех сторон к Никифору подступили и воины. Иоанн схватил его за бороду и рвал ее. На императора сыпались удары, его били голоменями мечей.
Наконец Иоанн ударом меча отсек голову императору Восточно-Римской империи Никифору Фоке. Еще одного римского императора постигла насильственная смерть. Подле дверей его опочивальни в луже крови лежал великий папия Михаил.
И только тогда проснулся, зашумел Буколеон. Ворота дворца были заперты изнутри, и стражи, стоявшие по ту сторону, хотя и слышали шум и крики во дворце, но помочь не могли. Когда во дворце зажглись повсюду огни и зазвучали победоносные крики, стражи принялись бить в ворота.
Этериоты подошли к воротам.
— Чего вы стучите? — спросили они стражу.
— Мы — стражи императора Никифора.
— Императора Никифора нет…
— Не верим… Мы требуем императора!
Кто-то из этериотов, держа в руках светильник, подошел к воротам, поднял одной рукой светильник, а другой — кровавую, страшную голову Никифора.
— Многая лета императору Иоанну! — гремели крики в Буколеоне.
Стражи за воротами, подняв мечи, тоже закричали:
— Многая лета императору Иоанну!
Ворота Буколеона распахнулись. Над Галатой затеплился рассвет. Снег перестал идти, но за ночь он покрыл крыши, берег моря за Буколеоном, где, неподалеку от бронзовых фигур быка и льва, лежал обезглавленный труп бывшего императора.
По улицам Константинополя ходили этериоты и бессмертные,[211] они останавливались среди форумов и на улицах и кричали: «Многая лета императору Иоанну!»
Перепуганные сенаторы и патрикии спешили к Большому дворцу, собирались на Ипподроме, толпились у двери Левзиака, которую ежедневно ровно в семь часов утра вместе с этериархом отпирал великий папия.
В это утро двери Левзиака отворились также в семь, но на их пороге появился не великий папия, а окруженный этерией паракимомен Василий.
— Многая лета Иоанну Цимисхию! — крикнул он.
А Иоанн Цимисхий, едва рассвело, поспешил в Софию. Он шел из Буколеона к собору путем, каким обычно ходил и Никифор, — через галерею Маркиана, Дафны, Илиак, Святой кладезь.
Но шел Иоанн не так, как императоры, не со свитой, под пение и славословия димотов и димархов,[212] — впереди шагал отряд с мечами наголо, другой отряд окружал Иоанна, а еще один следовал за ними. В галереях и покоях Большого дворца, через которые шел Иоанн, отдавалось эхо тяжелых шагов этериотов, бряцало оружие.
У ворот Софии Иоанн остановился. Там его уже поджидал извещенный обо всем, что произошло ночью, патриарх Полиевкт. Патриарх в течение многих лет оставался лютым врагом императора Никифора.
— Я жду благословения святейшего патриарха, — сказал Иоанн, остановившись перед Полиевктом и низко склонив голову.
— Я не могу позволить тебе переступить порог святого храма, пока ты не огласишь и не покараешь убийцу императора Никифора.
Иоанн обернулся к этериотам.
— Убил Никифора, — тихо произнес он, — начальник этерии Лев Валент… Сегодня же он будет мертв.
Но патриарх не кончил:
— Именем святого престола я требую покарать и выслать из Константинополя Феофано.
Иоанн ответил но сразу, и патриарх понял, что Иоанну не так легко удовлетворить это требование. Но прошла минута, и Цимисхий ответил:
— Корабль с Феофано сегодня же покинет Константинополь.
Патриарх Полиевкт продолжал:
— Ты обязан отменить грамоту, направленную против церкви, подписанную безумным Никифором.
— Отменяю, — не задумываясь, ответил Иоанн.
Тогда патриарх сделал знак, и служители распахнули врата святой Софии.
Сенаторы и патрикии хоть и поздно, но все же дождались: к вечеру новый великий папия Роман вместе с новым этериархом отворили серебряные врата Левзиака — император Византии Иоанн Цимисхий принял их в Золотой палате.
Как раз в то время, уже в сумерки, когда рабы подняли обезглавленный труп Никифора, лежавший на снегу у бронзовых фигур быка и льва, положили в деревянный ящик и понесли по оврагу в храм Апостолов, чтобы тайно похоронить в склепе, где покоилось тело великого Константина, как раз в то время безбородые надевали дивитиссий и багряную хламиду[213] на императора Цимисхия, возлагали на его главу венец, обували в красные сандалии.
Иоанн был маленького роста, как и его предки-армяне, за что, вероятно, и назывались Цимисхиями.[214] Но когда логофет, отворив западные ворота Золотой палаты, впустил патрикиев и статоров и они пали перед императором над, всем показалось, что он высок и грозен.
Иоанн Цимисхий опустился в западном приделе на золотой трон под выложенным мозаикой образом Христа — величественный, увенчанный золотой короной, в багряной хламиде.
— Многая лета! — пели за завесами два хора — из Софии и храма Апостолов.
И было забыто, что здесь, в Константинополе, в этом же Большом дворце, есть еще два императора — сыновья отравленного Романа и Феофано — Василий и Константин. Эти императоры были сейчас не нужны, многих лет желали только Иоанну.
Он повелевает выбросить на рынки Константинополя как можно больше хлеба и вина, устанавливает на них низкие цены, вызывает одного за другим сенаторов и полководцев и каждому из них дает награду и назначение… Император Иоанн знает, кто его друг, а кто враг: Варду Склиру он надевает на грудь золотую цепь и назначает его начальником всего войска, Иоанну Куркуасу вручает золотую печать и велит быть начальником метательных машин, однако назначает нового друнгария[215] флота, нового начальника этерии, нового великого папию.
Особые почести воздает император Иоанн паракимомену Василию, который неизменно был при императорах Константине, Романе и Никифоре и теперь останется при нем, но называет его не паракимоменом, а проэдром.[216]
Новый император жестоко карает всех тех, кто был связан с императором Никифором, всех, кто может быть ему помехой. С обрыва бросают в море Льва Валента, привязав камень к его ногам; в ближайшую же ночь высылают на остров Лесбос брата убитого императора Никифора Льва Фоку, а сына его Варда и трех двоюродных братьев — в далекую Каппадокию, в Амазию.
3
Поздней ночью император Иоанн и проэдр Василий остались в покоях Буколеонского дворца одни. Отныне им всегда придется быть вместе. Проэдр Василий будет первым в синклите, он вместе с императором станет решать государственные дела, вместе жить в Большом дворце, на выходах станет сразу же за императором, выше всех магистров[217] и препозитов, а ночью, когда император заснет, проэдр должен будет оберегать его покой и жизнь.
И хотя Василий был паракимоменом уже четвертого императора, а трем его предшественникам уготовил могилы, сейчас все это забылось. Они — император и его проэдр — в позднюю пору сидели в покое, окна и дверь которого выходили на море, упивались царящей во дворце тишиной и радовались своей победе.
В золотых кандилах горели свечи, освещая выложенные на стенах мозаичные изображения императоров, — все они вместе с женами и детьми, с молитвенниками в руках, подняв очи горе, суровые и молчаливые, шли вокруг всего покоя.
А внизу, на мягких ложах перед столом, на котором в кувшинах стояло вино, возлежали император Иоанн и проэдр Василий.
— Устал я очень, — произнес Иоанн. — Впрочем, кажется, со всем покончено.
— Мой василевс, — вкрадчиво ответил проэдр, — мы хорошо подготовились, предвидели все мелочи, потому я был уверен, что все закончится успешно…
— Последняя ночь была ужасной, — вспомнил Иоанн. — Но, слава Богу, она миновала, теперь мы можем отдохнуть.
Они вышли на просторный балкон, остановились возле увитой виноградом колонны и стали смотреть на море.
Буря, бесновавшаяся прошлой ночью, утихла. С Босфора веял теплый легкий ветерок. Море было спокойно, небо чисто, над самым горизонтом повис тонкий серебристый серп молодого месяца.
В его призрачном сиянии и при свете фара они увидели большой корабль, который выходил из-за мыса в море. Паруса на корабле были подняты, но ветер с Босфора едва веял, корабль шел очень медленно и, казалось, все не мог оторваться от берега.
Когда корабль проплывал мимо Буколеона, проэдр Василий сказал:
— Это твой дромон, василевс… Он направляется к Проту.
— И она на нем? — спросил император.
— Да, василевс, она там.
И хотя император и проэдр ничего не могли увидеть на корабле, но им обоим показалось, что они видят Феофано, будто она стоит на палубе дромона и смотрит на дворец, в котором еще только вчера была василиссою.
— Надо сделать так, чтобы она сюда никогда больше не вернулась, — сказал Иоанн.
— О василевс, она никогда больше сюда не вернется, — ответил Василий и даже улыбнулся.
А корабль с поднятыми парусами то появлялся в лучах фара, то исчезал в ночном мраке, уплывая все дальше и дальше — мимо Буколеона, мимо стен Константинополя, в темную даль, в неизвестность…
Так корабль и исчез, словно растаял в синей дымке Пропонтиды.
— Нет больше Феофано, — облегченно промолвил Цимисхий, — но есть другой враг…
Он повернулся к городу и Галате, где над Золотым Рогом то там, то тут поблескивали огоньки, а вдали сливались с небом черные горы.
— Разве враг только один? — спросил проэдр Василий.
— Ты прав, — согласился Иоанн, и лицо его стало хищным и злым, — у нас с тобой немало врагов в Константинополе и даже в святой Софии. Беззубый, глухой Полиевкт, я скоро рассчитаюсь с тобой за то, что ты сделал сегодня. До каких пор императоры ромеев должны терпеть над собою власть патриархов?… Однако самый страшный наш враг ныне — Русь…
От Галаты дохнуло холодом.
— Только от отчаяния, — сказал Иоанн, — Никифор мог сделать то, за что мы сейчас должны расплачиваться. Зачем он послал Калокира к русам? Зачем дал им золото, чтобы шли на болгар? Не будь того, Святослав сидел бы сейчас в Киеве, а мы — здесь… Со временем же, собрав силы, мы постепенно покорили бы болгар и пошли на Русь.
— Это правда, — согласился проэдр Василий. — Это был неудачный шаг императора Никифора.
— Ты говоришь — неудачный? Безумный, глупый шаг, и только дурак Никифор мог это сделать! Подумай. — Иоанн вздрогнул. — Святослав захватил уже всю Дунайскую низменность, взял Дунаю и Плиску, идет к Преславе. Так он может дойти и до Константинополя.
— А все же покойный император сделал другой, удачный шаг.
— О чем ты говоришь?
— Несколько месяцев назад Никифор, узнав о том, что лодии Святослава стали на Дунае, послал к печенегам наших василиков во главе с епископом Феофилом.
— Но ведь его еще нет?
— Он скоро вернется. Император Никифор дал ему с собой много золота, печенеги его любят, и я уверен, что они скоро обратят свои копья против русов…
— Там же, на Дунае?
— Нет, император, печенеги должны взять Киев. Император Иоанн сначала не сообразил, почему печенеги должны взять Киев и что это даст империи, но, поняв, рассмеялся.
— О, — сказал он, — наконец-то я вижу один разумный шаг императора Никифора! Спасибо тебе, — глумливо бросил он, глядя на мозаику стен, — безголовый василевс! С печенегами ты действительно задумал неглупо. Сейчас Святослав уже не перейдет через горы, а мы соберем силы. Мы победим. Не так ли, проэдр?
— Мой василевс, — ответил проэдр, — империя лежит перед тобой. Но не пора ли тебе лечь, император? После всего, что пережито сегодня, можно и нужно отдохнуть. Спи спокойно, император! Твой проэдр бодрствует!
Спит Буколеон. Усталый после напряженных дней, опьяневший от вина, спит и новый император Византии.
Не спит только и не уснет до самого утра паракимомен, отныне проэдр императора Иоанна, Василий.
Он стоит у двери царской опочивальни и слушает, не проснется ли император Иоанн, слышит, как с уст спящего владыки империи срываются слова: «Воины!.. Феофано!» И на лбу проэдра собираются морщинки, губы складываются в улыбку — он понимает, как пылает у нового императора сердце, как горит возбужденный мозг. Ничего, император скоро успокоится, корона охладит его мозг, царские бармы утихомирят сердце. Проэдр поможет, чтобы это случилось поскорее.
А сейчас, опираясь на кипарисовый, украшенный серебряной головой льва посох, проэдр Василий идет осматривать Буколеон… В коридорах душно, всюду горят светильники, вдоль стен застыли закованные в броню молчаливые ночные стражи. Проэдр идет, они встречают и провожают его блестящими глазами, но не шевелятся, стоят неподвижные, немые.
Коридор за коридором, палата за палатой… Проэдр Василий заходит в опочивальню, где прошлой ночью был убит император Никифор, в гинекей, где все еще напоминает Феофано, в палату, куда прошлой ночью спустился с крыши Иоанн Цимисхий и где до того прятались вооруженные этериоты…
Сейчас здесь необычайно тихо, только время от времени потрескивают фитили в светильниках. Проэдр Василий садится в кресло, опирается руками на посох и склоняет голову.
И в эту ночную пору проэдр чувствует, что здесь, в Буколеоне, среди всех людей, он самый усталый, самый изнемогший. Каждый из них имеет право отдохнуть, и сейчас все отдыхают. На каждом шагу в Буколеоне и всюду вокруг стоят стражи. Но и стражи меняются. Первую ночную смену скоро заступит другая.
Только он один — паракимомен вчера, сегодня проэдр, постельничий императора, — не имеет права заснуть до утра и будет всю ночь блуждать по Буколеону. Утром разбудит императора вместе с палией Романом, откроет серебряные врата Левзиака. Весь день, подобно тени, будет сопровождать императора, может быть, на какое-то время, когда император закончит свои дела и ляжет вторично на покой, проэдр Василий забудется, чтобы проснуться вечером и сделать ночь своим днем.
«…Четвертый император, — думает проэдр Василий, — и ты будешь царствовать недолго. Когда же придет мой черед, когда исполнится моя мечта?»
Глава шестая
1
Среди белого дня над Подольскими воротами внезапно прозвучали удары в била. Сразу же отозвались била и над Перевесищем. Киев всполошился. Стоял ясный, солнечный день, над предградьем курились дымки, на Подоле шел торг, по Днепру и Почайне сновали лодии, — город жил, как обычно, в такую пору стражи никогда не звонили.
Но вскоре не только с Горы, но и с низкой Оболони стало видно, как на юге, где-то за Витачевом, высоко поднялись в голубое небо черные дымы. Немного погодя по Соляному шляхту вдоль Днепра промчались всадники.
— От Родни идут печенеги! — кричали они.
А на стенах все стонали и стонали била, поднимали людей, сеяли тревогу.
И тогда, как бывало и раньше, со всех сторон через ворота на Гору начал вливаться бесконечный людской поток: шли от берегов Почайны и Днепра, вытащив на берег лодии; с торга со своими пожитками; на волах и конях из предградья, захватив молоты, секиры, с детьми на плечах. С тревогой в глазах шли пожилые люди, испуганно озирались женщины, плакали дети. А те, кто помоложе и поздоровее, принялись копать, углублять рвы вокруг Горы, вбивать на нижнем и верхнем валах острые колья, запасать на Горе воду и харчи…
Только к вечеру оборвался тянувшийся к Горе людской поток. Холодно, безлюдно и тихо стало в предградье и над Почайной. В этой тиши громко заскрипели жеравцы[218] на воротах, натянулись цепи, тяжело поднялись и словно прилипли к стенам города мосты. Окруженная глубоким рвом, Гора была теперь отрезана от всего света. Сумерки быстро сгущались.
Ночь случилась темная. Двор на Горе и все улицы были забиты людьми. Матери с детьми спали под открытым небом, на земле, мужи таскали на стены камни, укрепляли городницы, ставили туда большие луки-самострелы.
Неспокойно было в боярских и воеводских хоромах. И там никто не спал. Во дворах слышались шаги, хлопали двери, время от времени от хором к княжьим теремам медленно пробирались, постукивая посохами и обходя лежащих на земле людей, бояре, тиуны, мужи нарочитые.
Бояре собрались в Золотой палате. В одном из углов, у завешенных окон, горело несколько свечей, их слабый свет поблескивал на княжеских доспехах и едва освещал мужей города. Никто из них теперь не сидел на скамьях, все толпились у стен и среди палаты, переступая с ноги на ногу. Окна и двери палаты были закрыты, от острого смрада кожи и дегтя трудно было дышать.
Княгиня явилась позднее. Покинув еще засветло свой терем в Новом городе, она перебралась с внуками на Гору и теперь вышла к мужам, глухо постукивая посохом об пол. Бояре и воеводы приветствовали ее тихими голосами. Но княгиня, казалось, не слышала их приветствий, — пройдя через палату, она остановилась у княжеских доспехов, где горели свечи. Их сияние озарило ее лицо, бледное, утомленное, неспокойное. Темные глаза княгини смотрели на бояр и мужей,
— Дружина моя! — начала она. — Все слышали — печенеги в поле. Дымы встали над Родней, гонцы сказали, что идет Залозным шляхом большая орда. Дымы встали и к Переяславу — печенеги рвутся сюда напрямик с поля и хотят зайти с Понизья…
— Заходят уже, — послышалось среди мужей, — думают, верно, взять город в кольцо…
Раздались и другие голоса:
— Нужно послать к Святославу, скажем: «Чужая земля ищеши, свою ся лишив…»
— Худо сделал князь, в такую пору покинул… И еще:
— К древлянам надо обратиться…
— Не надейтесь на древлян — в их лесах Киев не горит…
— К северянам!
— К Новгороду!
Золотая палата гудела, люди громко перебрасывались словами. К княгине тянулись длинные руки, глухо стучали посохи.
Ольга, сжав губы, долго глядела на мужей киевских.
— Мужи мои, — сказала она, — разве мы впервые видим врага под стенами города? Все князья, — княгиня посмотрела на доспехи на стене, — и весь люд уже не раз рубились на стенах и валах киевских, станем и теперь…
— Мала сила наша, княгиня, — робко промолвил кто то из бояр.
— А ведомо ли тебе, — обратилась к нему Ольга, — с большими ли силами идут печенеги? Нас много, бояре и мужи мои, у нас дружина, станут гридни, потреба будет — станут наши дети, все дворяне, и я стану с вами, мужи!
Гневная и суровая, княгиня Ольга продолжала:
— И не возводите напраслину на князя Святослава! Не чужой земли он ищет, а стоит за честь своей, не сам пошел — мы его послали. Кто сказал, будто наш князь оставил свою землю?
Никто не ответил на вопрос княгини, и, помолчав, она продолжала:
— И про древлян неправда. Уж кто-кто, а я знаю древлян и ведаю: аще кликнем — придут, помогут. И Чернигов поможет, и Остер — там уже видели дымы на Понизье. А мы еще пошлем ходцов — пусть летят кличут.
В палате стояла тишина. От духоты свечи заплывали воском. Наступило время, когда на стенах сменялась стража и звучали била. Но сейчас била безмолвствовали.
— Так и станем! — закончила княгиня. — Ты, Добрыня, — обернулась она к нему, — будешь с воями на стене. Вы, бояре, договоритесь, кто станет у Подольских, а кто у Перевесишанких ворот. И еще, бояре мои и мужи, отпирайте свои клети. Не одни алчем, надо кормить все воинство… Пойдем, мужи, — печенеги, верно, уже близко. А Святославу, — добавила она, — мы тоже пошлем весть: «Спеши к нам, княже, тяжко тебе на Дунае, но горе и вотчине твоей…»
И кто-то в палате досказал:
— «Аще желеешь мать, стару суще, и детей своих…»
Выйдя из палаты и направляясь переходами к покоям, где она когда-то жила и куда теперь вернулась опять, княгиня Ольга почувствовала, до чего она больна, до чего устала. Отяжелевшие ноги не слушались, сердце колотилось в груди, в глазах плыли красные и зеленые круги. Напрягая силы, опираясь на Добрынину руку, она миновала свои покои, вышла в сени и остановилась возле опочивальни княжичей.
— Ступай на стены, — сказала она Добрыне, — печенеги, что тати, зло творят ночью.
Добрыня поклонился и исчез, княгиня же Ольга вошла в опочивальню княжичей. Ей хотелось закрыть глаза, отдохнуть, подумать над тем, что произошло.
Она села… Когда-то здесь жил и рос сын Святослав, сейчас тут находились внуки — Владимир, Ярополк, Олег. Окно опочивальни было завешено. В углу, прямо на полу, стоял светильник. Около него сидела ключница Пракседа. Княгиня сделала знак рукой, чтобы Пракседа шла спать, и та удалилась.
Княжичи стали на трех стоявших вдоль стен ложах. Ярополк и Олег — в глубине, в тени, а Владимир — ближе, так что свет каганца блуждал по его лицу.
Лицо Владимира казалось спокойным, задумчивым, он ровно и глубоко дышал. Княгиня взглянула на него и подумала: «Как он похож на свою мать — Малушу!» — и задумалась княгиня Ольга. О, как много нужно было решить княгине Ольге после тяжелого дня, в эту ночную пору…
Княгиню Ольгу удивляло, почему именно сейчас у Киева появились печенеги. Обычно они кочевали улусами в низовьях Днепра, около порогов, редко осмеливаясь даже там, в безлюдном краю, нападать на русских воев. Почему же сейчас они зашли так далеко?
Гонцы, примчавшиеся днем Соляным шляхом, рассказывали, что печенеги несколько дней назад перебрались ночью через Рось, обошли стороной Родню и целым улусом направляются к Киеву. Гонцы из Переяслава сказывали, будто там тоже идет улус. Это волновало и беспокоило княгиню — на Киев двигался не один улус, печенеги собрали всю орду.
Княгиня полагала, что появление под Киевом орды печенегов, видимо, связано с тем, что нет князя Святослава. Но вряд ли печенеги осмелились бы напасть на Русь даже в отсутствие князя. Кочуя в поле у Русского моря, они дорожат миром с Киевом и боятся Руси.
Потом мысли Ольги перенеслись в далекую Болгарию, где князь Святослав со своими воями борется с ромеями. Он — далеко от родной земли, ему и его воям и днем и ночью угрожает смерть. А теперь смерть нависла и над отчизной, над Киевом.
Она вспомнила, что произошло только что в палате, голос одного из бояр: «Чужой земли ищеши, а свою ся лишив», — и кровь снова ударила ей в лицо. Нет, не понимают они, чего добивается Святослав со своими воями в Болгарии.
Даже она, его мать, долго не понимала сына и лишь потом убедилась: есть только два пути — либо быть рабами василевсов, либо жить, как надлежит людям. Поняла и благословила как княгиня и мать, перекрестила его, язычника.
Ну а если?… Кровь сразу отхлынула от ее лица, когда она подумала, что будет, если Святослав не победит на брани ромеев. Видимо, — она об этом боялась даже думать, но эта мысль все всплывала и всплывала, — видимо, печенеги именно потому и появились под Киевом, что со Святославом на Дунае стряслась беда? Ведь будь он в Киеве, печенеги никогда не осмелились бы двинуться в Полянские земли.
И что теперь делать? За стенами и валами Горы — княгиня была уверена в этом — они продержатся день, два, неделю. А что дальше? Дружина их невелика, харчей немного, воды мало…
Но тут княгине Ольге пришлось прервать ход своих мыслей. В постели заворочался и что-то пробормотал спросонья княжич Владимир. Потом он медленно раскрыл глаза, протер их кулаком и поднял голову.
Сначала, казалось, княжич не понимал, где он очутился, почему на полу горит светильник, потом взгляд его упал на княгиню.
— Ты почему не спишь? — спросил он.
Вопрос был до того простым и обыденным, что она улыбнулась.
— Сидела и думала, — ответила княгиня. — А сейчас лягу. Спи, Владимир, спи спокойно…
Она склонилась к внуку и поцеловала его в голову. Владимир тотчас уснул… В ночной тиши на стене города ударили в била.
Поднявшись на южную башню стены и перегнувшись через забороло, Добрыня долго вглядывался в темноту.
Перед ним лежала глубокая черная пропасть, небо затягивало тучами, не видно было ни одной звезды. Но глаза Добрыни уже привыкли к темноте: среди полного мрака он увидел за стеной глубокий ров, вал с частоколом, а дальше — деревья на самом склоне горы, черное предградье на серых кручах, Днепр. Все как обычно, врага, казалось, не было нигде.
Однако у Добрыни было не только острое зрение, но и тонкий слух. И хотя за городом, в темноте, было тихо, он уловил множество звуков, которые обеспокоили его: на далеком левом берегу ржали лошади, слышались всплески на Днепре, топот коней и людские голоса на берегах Почайны и Лыбеди. Потом голоса послышались в предградье и даже за частоколом вала…
Теперь Добрыня знал, что враг подкрался, стоит у самых стен города и может напасть каждую минуту. Он обошел все городницы, поговорил с мужами, гриднями, ремесленниками предградья и Подола, которые стояли у заборол, хотел уже спуститься со стены, чтобы рассказать обо всем княгине.
Но он не успел этого сделать — в предградье и на Подоле вспыхнули огни: печенеги поджигали дома, чтобы при зареве пожара лезть на стены города.
— Печенеги! — послышались голоса. — Враг на валу!
И тогда сразу ударили била. Била стонали, будили, призывали: все на Горе должны были знать, что враг под стенами; пусть не думают печенеги, что подкрались, как тати, — город Киев и люди его готовы встретить их грудью.
Добрыня быстро обошел южную стену. Пожар в предградье и на Подоле ширился, багряные зарева освещали стены, и Добрыня видел подле заборол воев с луками. Некоторые из них готовили камни, чтобы бросать на врагов, кое-где на сродницах раздували огонь под казанами со смолой, готовили воду и песок. Немало воев стояло с копьями и топорами, чтобы колоть и рубить тех, кто будет взбираться на стены.
Наконец била умолкли. Внизу и на городницах наступила тишина. Тихо было вокруг, за стенами, на кручах, на Почайне, на Днепре. В предградье и на Подоле бушевал такой пожар, что тучи над Горой стали кроваво-красными, на городницах стало светло, как днем, на валах за стеной отчетливо виднелся острый частокол.
И тогда на стенах увидели, как в переменчивом отсвете пожара из темноты за валами появились печенеги и принялись валить частокол. Их было много, они кишели у частокола, как черви.
В тот же миг в воздухе послышался тонкий, пронзительный свист стрел. Ударяясь о заборола, они падали на городницах, летели дальше, на Гору.
Княжьи вой на заборолах тоже натянули свои луки, и их стрелы роями полетели в темноту — за городницы, за валы, за частокол…
На валах поднялся крик; видно было, как печенеги, падая, корчатся среди острых кольев. И все-таки некоторые из них повалили частокол, спустились в ров, рыли и насыпали землю, другие тащили и ставили лестницы, чтобы лезть на городницы, третьи пытались поджечь ворота.
Со стен сыпались камни. Не боясь стрел, которые летели с валов, многие вой повисали у края заборол, над рвом, и сверху кидали в печенегов копья, стреляли из своих луков.
Крики, вопли, лязг на городницах, под стенами во рву и на валах сливались в один сплошной, непрерывный гул — угрожающий, страшный, беспощадный шум битвы. Озверелые, обезумевшие печенеги, еще до боя пьяные от вина, а теперь от крови, сбились во рву, присыпая землю к стенам. Когда землю покрывали трупы, на них сыпали новую. Лестницы печенегов уже доходили до заборол. Цепляясь за них, печенеги взбирались на стены.
Вот бой завязался на самой стене, на южной ее стороне. Несколько десятков печенегов, карабкаясь по лестнице, становясь друг другу на плечи, обливаясь кровью, выскочили на заборола. Они стояли, размахивая кривыми саблями, вытаскивали длинные ножи. А за ними по лестницам лезли, карабкались, выдирались новые враги.
Это был страшный бой. У заборол стояли печенеги, против них, во главе с Добрыней, лавой сгрудились вой, С мечами в руках, обливаясь кровью, они рубили печенегов, которых все больше и больше, взбиралось на заборола.
И вдруг, заглушая окружающий шум, огромный кусок заборола затрещал, покачнулся, оторвался и рухнул вместе с цепляющимися за него печенегами вниз, в бездну. Он летел среди ночи с треском — ломая лестницы, калеча людей. Бой на южной стороне стены утих…
Но тут поднялся страшный шум и крик на стене у Подольских ворот. Добрыня похолодел — ведь большинство воев находилось с ним, на стене, выходившей к Днепру. Он увидел, что стало светлее, и уж не от зарева пожара: за Днепром заалело небо, скоро взойдет солнце.
В зареве нового дня он бежал по городницам впереди других воев к Подольским воротам, откуда доносились шум и крики, где снова шел лютый бой, где печенеги уже карабкались на стены.
Но Добрыня не успел добежать до ворот, как прозвучал победный крик: вой, сбросив взобравшихся на стену печенегов, заливали водой начавшие гореть ворота.
И там, на городницах близ Подольских ворот, Добрыня увидел княгиню Ольгу. Опираясь на посох, она стояла у заборола и, глядя на Днепр, говорила:
— Теперь они не скоро полезут. Киев стоит!
2
Точно пущенные из тугого лука стрелы, летели на юг от Киева три гридня — три брата: Горяй, Баян и Орель…
Горяй — старший — был белокур, как и мать, да и лицом походил на нее: голубые глаза, тонкий нос, небольшой рот. Правда, мать была невысокой, тоненькой, а Горяй — дюжий великан. Такому только и сидеть на коне.
Баян, напротив, пошел в отца, кожемяку Супруна: невысокий, но жилистый, с загорелым, смуглым лицом, руки — только шкуры мять, ногой топнет — земля гудит!
Орель был не похож ни на одного из братьев: волосы русые, глаза карие, сам статный, а голос — запоет на городской стене, за Днепром слышно.
Получив приказ княгини, они сразу же вышли из Киева. Затемно спустились со стены, над Лыбедью ползком пробрались через стан печенегов, видели, как вспыхнул пожар, слыхали, как печенеги ринулись на Гору… Но как ни болели у них сердца, они не вернулись, да и не могли вернуться в Киев, а побежали в зареве пожара лесом к Берестовому, оседлали на княжьем дворе коней и поскакали в темную, непроглядную ночь на юг…
Рано утром они были уже далеко от Киева, вечером очутились на краю Полянской земли, над Росью, ночью, немного отдохнув, миновали селение, где жили черные клобуки, а к рассвету углубились в дикое поле.
Здесь, в диком поле, братьям следовало остерегаться.
Сколько видел глаз — тянулось оно, ровное, кое-где изрезанное оврагами, в которых текли речки. Радостно было здесь весной и летом, когда буйно рос, зеленел, волнами переливался под ветром ковыль, когда зацветали голубые колокольчики, желтый шалфей, синие васильки, белые ромашки.
Но сейчас поле было мрачным, выгоревшим за долгое лето под лучами яркого солнца, почерневшим, травы и цветы завяли, засох на корню ковыль. Только сухие будяки, точно сединой, окутывали поле. Казалось, здесь бушевал пожар, даже пахло гарью.
Среди темного поля, по сухой земле, всадники мчались и мчались вперед, время от времени останавливаясь в овраге, чтобы дать отдых лошадям, напоить и покормить их, передохнуть самим. Потом осторожно выбирались из оврагов и внимательно оглядывали поле.
Братья оглядывались не напрасно. Перед самым закатом солнца, передохнув у речки и поднявшись на берег, чтобы двинуться в поле, Горяй, задержавшийся на пригорке, долго смотрел, приложив правую руку к челу, на далекий небосвод и вдруг сказал: