Дипломатия Киссинджер Генри
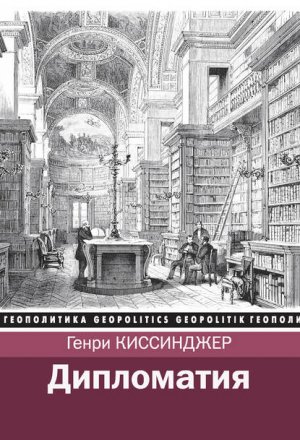
Горбачев сделал ставку на два основополагающих момента: будто бы либерализация модернизирует Советский Союз и будто бы Советский Союз тогда сможет в международном плане выступать как великая держава. Ни одно из этих ожиданий не воплотилось в действительность, и внутренняя социальная база Горбачева рухнула столь же позорно, как провалилась орбита сателлитов.
Греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Революции пожирают своих детей, поскольку революционеры редко осознают, что после определенного момента социального разрушения более не остается конкретных архимедовых точек опоры. Горбачев начинал с убеждения, что реформированная Коммунистическая партия сможет перенести советское общество в современный мир. Но он не смог дойти до понимания того, что коммунизм является проблемой, а не решением. На протяжении жизни двух поколений Коммунистическая партия давила независимую мысль и рушила личную инициативу. К 1990 году централизованное планирование превратилось в нечто окаменелое, а различные организации, созданные, чтобы держать под контролем все стороны жизни, вместо этого заключали пакты о ненападении с теми самыми группами, которые они предположительно обязаны были бы подавлять. Дисциплина превратилась в рутину, и горбачевская попытка высвободить инициативу породила хаос.
Горбачевские трудности проявились на простейшем уровне попыток поднятия производительности труда и введения отдельных элементов рыночной, экономики. Почти сразу же стало ясно, что в системе плановой экономики отсутствует саморегулирование, и потому нет в наличии самой существенной предпосылки существования эффективной экономики. Сталинистская теория утверждала господство принимаемого в центре плана, но на практике все было не так. То, что называлось «планом», на самом деле являлось широкомасштабным сговором бюрократической верхушки и представляло собой гигантское мошенничество, дезинформировавшее центральные власти. Директора, отвечающие за производство, министерства, которым было поручено распределение, и плановые органы, предположительно издающие директивы, играли вслепую, поскольку понятия не имели, каким будет спрос, и не обладали возможностью внесения корректив в раз установленные производственные программы. В результате каждая из ячеек системы ставила перед собой лишь минимальные цели в качестве плановых заданий, покрывая нехватки за счет частных сделок с другими подразделениями за спиной у центральных властей. Все побудительные факторы срабатывали против инноваций, и это положение дел не могло быть исправлено, поскольку соответствующие руководители считали практически невозможным раскрыть истинное положение дел в своем обществе. Советский Союз отбросил себя на ранние исторические этапы существования Российского государства: он превратил себя в гигантскую «потемкинскую деревню».
Попытки реформирования сломались под натиском активно оборонявшегося статус-кво, как уже случилось с Хрущевым и позднее с Косыгиным. Поскольку по меньшей мере 25% национального бюджета уходило на субсидирование цен, не существовало объективного критерия эффективности или оценки экономического спроса. Когда товары скорее распределялись, чем покупались, коррупция стала единственным проявлением рыночных отношений.
Горбачев осознал наличие всеохватывающей стагнации, но не обладал аналитическим умением прорваться через окостенелые структуры. А различные надзорные органы системы со временем сами превращались в часть проблемы. Коммунистическая партия, возникшая как инструмент революции, не обладала иными функциями в развитой коммунистической системе, кроме как надзирать за тем, в чем она не разбиралась, — и эту проблему она разрешала, вступая в сговор с теми, кого она будто бы контролировала. Коммунистическая элита стала мандаринским привилегированным классом; теоретически отвечая за национальную ортодоксию, она концентрировала свое внимание на том, чтобы сохранять свои привилегии.
Горбачев сделал фундаментом своей программы реформ два элемента: перестройку, чтобы добиться поддержки новых технократов, и гласность, с тем чтобы завербовать себе в сторонники долго терзаемую интеллигенцию. Но поскольку не существовало институтов свободного самовыражения и обеспечения подлинных общественных дебатов, гласность замкнулась сама на себя. А поскольку отсутствовали свободные ресурсы, за исключением зарезервированных на военные цели, условия жизни не улучшались. Таким образом, Горбачев постепенно отказался от опоры на управленческие структуры, но не обеспечил себе более широкой общественной поддержки. Гласность все более вступала в конфликт с перестройкой. Даже атаки на предыдущих лидеров имели побочный эффект. В 1989 году молодой сотрудник аппарата Горбачева, которому было поручено сопровождать меня по пути в Кремль, заметил: «Все это означает, что каждый советский гражданин старше двадцати пяти лет прожил свою жизнь напрасно».
Единственными группами, понимающими необходимость реформ — не будучи, однако, готовыми смириться со средствами их проведения, — являлись службы безопасности. КГБ знал от своего разведывательного аппарата, насколько Советский Союз отставал в технологическом соревновании с Западом. Вооруженные силы были профессионально обязаны определить возможности своего главного противника. Понимание проблемы, увы, не порождало ее решения. Службы безопасности в значительной степени страдали той же двойственностью, что и сам Горбачев. КГБ готов был оказывать поддержку «гласности* — политической либерализации — лишь постольку, поскольку она не подрывала гражданской дисциплины; военный истэблишмент легко мирился с «перестройкой» — экономической реструктуризацией — лишь постольку, поскольку Горбачев не предпринимал попыток выжать новые ресурсы для программы модернизации за счет сокращения вооруженных сил.
Первое инстинктивное начинание Горбачева — превратить Коммунистическую партию в инструмент реформ — пошло ко дну, налетев на риф шкурных интересов. Следующий его шаг — ослабить, но все же сохранить коммунистическую структуру — разрушил фундаментальный инструмент советского правления. С этим были связаны два конкретных хода: вывести центр тяжести власти Горбачева из партии в параллельную структуру управления и содействовать региональной и местной автономии.
Горбачев просчитался по обоим пунктам. Со времен Ленина Коммунистическая партия являлась единственным органом, вырабатывающим политические решения. Правительство было исполнительным органом, осуществляющим, но не продумывающим политику. Ключевым советским постом была всегда должность Генерального секретаря Коммунистической партии; от Ленина вплоть до Брежнева коммунистический лидер редко занимал правительственный пост. Результатом этого было тяготение амбициозных и предприимчивых лиц к занятию мест в коммунистической иерархии, в то время как правительственные структуры привлекали к себе администраторов, лишенных политической жилки, а то и просто интереса к формированию политической линии. Смещая фундамент собственной власти, перенося точку опоры с Коммунистической партии на правительственную часть правительственной системы, Горбачев вверил свою революцию армии клерков.
Поощрение Горбачевым региональной автономии завело в такой же тупик. Он счел для себя невозможным совместить желание создать пользующуюся поддержкой народа альтернативу коммунизму со свойственным ленинцу недоверием к народной воле. Потому он разработал систему местных по сути выборов, куда запрещался допуск национальных партий, отличных от Коммунистической. Но когда впервые за всю российскую историю появилась возможность народных выборов местных и региональных органов управления, грехи российской истории проявились сполна. В течение трехсот лет Россия включала в свой состав национальности Европы, Азии и Среднего Востока, но не сумела примирить их с правящим центром. Неудивительно, что многие из только что избранных нерусских правительств, представлявших почти половину населения Советского Союза, начали бросать вызов своим историческим хозяевам.
Горбачеву не хватало надежной законной опоры. Он вызвал к себе антагонизм со стороны характерных для государства ленинского типа многочисленных носителей шкурных интересов, но не сумел привлечь на свою сторону новых сторонников, поскольку не смог выработать и предложить от своего имени надежную концепцию, отличную от коммунизма и от концепции централизованного государства. Горбачев правильно определил проблемы своего общества, но сделал это через шоры своей антигуманной системы, что не позволяло найти нужного решения. Подобно человеку, запертому в комнате с предельно прозрачными, но небьющимися стеклами, Горбачев мог с достаточной ясностью видеть через такие окна окружающий мир, но был принужден в своем заточении оставлять вне пределов понимания истинную суть виденного.
Чем дольше длились перестройка и гласность, тем более изолированным и менее уверенным в себе становился Горбачев. В первый раз, когда я с ним встретился в начале 1987 года, он был веселым и излучал уверенность в том, что предпринимаемый им текущий ремонт позволит стране обрести форму и возобновить свой марш исторического лидера. Через год уверенности у него поубавилось. «В любом случае, — заявил он, — Советский Союз уже не будет прежним» — странно двусмысленное заявление по поводу столь геркулесовых усилий. Когда же мы встретились в начале 1989 года, он сообщил мне, как они с Шеварднадзе где-то в 70-е годы пришли к выводу, что коммунистическую систему следует изменить с головы до ног. Я спросил, каким же образом он, коммунист, пришел к такому выводу. «Понять, что неправильно, было легко, — заметил Горбачев. — Самое трудное — понять, что правильно».
Горбачев так и не нашел ответа. В течение последнего года пребывания у власти он был человеком, очутившимся в цепях кошмара, видящим надвигающуюся на него катастрофу, но неспособным изменить ее направление или уклониться от встречи. Обычно целью уступок является предоставление возможности спустить пар, чтобы сберечь то, что считается существенно важным. Горбачев добился противоположного. Каждая необходимая новая реформа сводилась к полумерам и потому ускоряла упадок советской системы. Каждая уступка создавала отправной пункт для следующей. В 1990 году отпали от Союза балтийские государства, и Советский Союз начал разваливаться. И по иронии судьбы главный соперник Горбачева воспользовался тем самым процессом, благодаря которому начался распад создававшейся свыше трех столетий Российской империи, чтобы свалить самого Горбачева. Действуя в качестве Президента России, Ельцин заявил о независимости России (и тем самым, по аналогии, — о независимости прочих советских республик), чем на деле упразднил Советский Союз, а вместе с ним и пост Горбачева как президента Советского Союза. Горбачев знал, в чем заключаются его проблемы, но действовал в одно и то же время чересчур быстро и чересчур медленно: чересчур быстро с точки зрения терпимости собственной системы и чересчур медленно, чтобы приостановить набирающий темп развал.
В 80-е годы обеим сверхдержавам требовалось время, чтобы оправиться. Политика Рейгана высвободила энергию американского общества; политика Горбачева вывела на поверхность дисфункцию общества советского. Проблемы Америки поддавались разрешению путем перемены политики; в Советском Союзе реформа привела к ускорению кризиса системы.
К 1991 году демократические страны выиграли «холодную войну». Но стоило им добиться, казалось бы, невероятного, как вновь возникли дебаты на тему основополагающих предпосылок «холодной войны». Был ли Советский Союз вообще угрозой? Не растаял ли бы он под лучами солнца даже без тягот «холодной войны»? Не была ли «холодная война» просто выдумкой переработавшихся политиков, разорвавших изначальную гармонию мирового порядка?
В январе 1990 года журнал «Тайм» объявил Горбачева «Человеком десятилетия», воспользовавшись этой возможностью, чтобы опубликовать статью, раскрывающую суть этого определения. «„Голуби" во время „Великих дебатов" на протяжении последних сорока лет были с самого начала правы», — утверждает автор[1048]. Советская империя никогда не была настоящей угрозой. Американская политика либо не соответствовала ситуации, либо задерживала коренные перемены в Советском Союзе. Политика демократических стран в продолжение четырех десятилетий не заслуживает сколько-нибудь заметной похвалы, даже в благодарность за перемены в советской внешней политике. А раз на деле целенаправленные действия оказались безрезультатными и события происходили сами по себе, то из краха Советской империи нельзя извлечь никаких уроков — в частности, таких, какие бы оправдывали вовлеченность Америки в создание нового мирового порядка, обусловленного концом «холодной войны». Американские дебаты сделали полный круг. Прозвучала старая сладкоголосая песнь американского изоляционизма; не Америка на деле выиграла «холодную войну», а Советский Союз ее проиграл, и четыре десятилетия напряженных усилий оказались потрачены зря, поскольку все сработало бы так же хорошо — а может быть, даже лучше, — если бы Америка оставила Советский Союз в покое.
Еще одна версия подобных же рассуждений сводится к тому, что действительно имела место «холодная война» и что действительно она была выиграна, но победа принадлежит идее демократии, которая бы все равно взяла верх независимо от геостратегических мер, сопутствовавших конфликту Востока и Запада. Это также является версией эскапизма. Политическая демократия и идея свободы, безусловно, представляли собой платформу для сплочения тех, кто не был затронут идеологией коммунистической системы, особенно в Восточной Европе. Репрессии сторонников этой платформы становились все более и более затруднительными по мере падения морального уровня правящих группировок. Но подобная деморализация была в первую очередь вызвана стагнацией системы и ростом осознания коммунистической элитой — чем выше ее ранг, тем большая вероятность знакомства тех, кто к ней принадлежит, с истинным положением дел — того, что система, по существу, проигрывает борьбу, которую она объявила своей конечной целью и которая велась жестоко и беспрерывно. В лучшем случае это было повторение спора о курице и яйце. Демократическая идея сплачивала вокруг себя оппозицию коммунизма, но не могла сама по себе до такой степени ускорить ход событий, если бы не свершился крах коммунистической внешней политики, а в конце концов и коммунистического общества.
Таким наверняка был взгляд на происходящее со стороны марксистских толкователей международных событий, которые привыкли анализировать «соотношение сил» и которым было гораздо легче раскрыть причины советского краха, чем американским наблюдателям. В 1989 году Фред Холлидей, профессор-марксист Лондонской экономической школы, сделал вывод, что соотношение сил сдвинулось в пользу Соединенных Штатов[1049]. Холлидей рассматривал это как трагедию, но, в отличие от мысленно самоистязающих себя американцев, отказывающихся отдать должное своей стране и ее руководителям, признал, что основной сдвиг в международной политике произошел в годы президентства Рейгана. Америка до такой степени преуспела в том, чтобы превратить советскую вовлеченность в дела «третьего мира» в непосильное бремя для Советского Союза, что в главе, броско озаглавленной «Социализм в обороне», Холлидей рассматривает горбачевское «новое мышление» как попытку ослабить давление со стороны Америки.
Самое надежное свидетельство в этом плане поступило из советских источников. Начиная с 1988 года советские ученые стали признавать ответственность Советского Союза за прекращение разрядки. Выказывая гораздо большее понимание сущности разрядки, чем американские критики, советские комментаторы подчеркивают, что разрядка являлась способом, при помощи которого Вашингтон стремился удержать Москву от вызова существовавшему тогда военно-политическому статус-кво. Нарушив молчаливое взаимопонимание и устремившись к односторонним выгодам, брежневское руководство вызвало соответствующее противодействие, проявившееся в годы президентства Рейгана, с которым Советский Союз уже не в состоянии был справиться, ибо это превышало его возможности.
Один из самых ранних и наиболее интересных «ревизионистских» комментариев такого рода — заявление профессора Института экономики мировой социалистической системы Вячеслава Дашичева. В статье, опубликованной «Литературной газетой» 18 мая 1988 года[1050], Дашичев замечает, что исторические «просчеты и некомпетентный подход брежневского руководства» объединили все прочие великие мировые державы в коалицию против Советского Союза и вызвали к жизни такую гонку вооружений, которую Советский Союз уже не мог выдержать. Таким образом, следовало отказаться от традиционной советской политики находиться в стороне от мирового сообщества и в то же время пытаться его подорвать. Дашичев писал:
«...Как это представлялось Западу, советское руководство активно эксплуатировало разрядку, чтобы укреплять свою собственную военную мощь, стремиться к военному паритету с Соединенными Штатами и вообще со всеми противостоящими державами — факт, не имеющий исторического прецедента. Соединенные Штаты, парализованные катастрофой во Вьетнаме, болезненно отреагировали на расширение советского влияния в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.
..Действие эффекта „обратной связи" поставило Советский Союз в исключительно трудное положение во внешнеполитическом и экономическом отношении. Ему противостояли крупнейшие державы мира: Соединенные Штаты, Англия, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Канада и Китай. Противостояние столь значительно превосходящему потенциалу в опасной степени превышало потенциальные возможности СССР»[1051].
Те же проблемы были затронуты в речи советского министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе 25 июля 1988 года на встрече в советском Министерстве иностранных дел[1052]. Он перечислил такие советские ошибки, как афганская катастрофа, спор с Китаем, длительная недооценка Европейского экономического сообщества, дорогостоящая гонка вооружений, уход в 1983 — 1984 годах с переговоров в Женеве по контролю над вооружениями, советское решение в принципе развернуть ракеты СС-20, ошибочной придавалась и советская оборонительная доктрина, согласно которой СССР обязан был быть столь же сильным, как и любая направленная против него потенциальная коалиция государств. Иными словами, Шеварднадзе скептически отнесся почти ко всему, что Советский Союз совершил за двадцать пять лет. Это явилось открытым признанием того, что политика Запада имела прямое влияние на Советский Союз, ибо, если бы демократические страны не налагали санкций за авантюризм, советская политика была бы названа успешной и не нуждалась бы в переоценке.
Конец «холодной войны», являвшийся целью американской политики на протяжении восьми администраций обеих политических партий, весьма напоминал то, что Джордж Кеннан предсказывал в 1947 году. Независимо от того, какую бы услужливую политику ни проводил по отношению к Советскому Союзу Запад, советской системе требовался призрак вечного внешнего врага, чтобы оправдать страдания своего народа и содержание громоздких вооруженных сил и аппарата безопасности. Когда под давлением совокупного отпора со стороны Запада, кульминацией которого явились годы президентства Рейгана, XXVII съезд партии заменил официальную доктрину сосуществования на взаимозависимость, исчез моральный базис внутренних репрессий. Граждане Советского Союза, воспитанные в духе дисциплины, не могли мгновенно переключиться на компромисс и взаимные уступки. А это означало, как и предсказывал Кеннан, что Советский Союз превратится в одночасье в «одно из самых слабых и наиболее вызывающих жалость национальных обществ»[1053].
Как отмечалось ранее, Кеннан по ходу дела пришел к убеждению, что его политика «сдерживания» была чересчур милитаризирована. Более точной оценкой было бы, как всегда, такое наблюдение, что Америка колебалась между чрезмерной опорой на военную стратегию и чрезмерной эмоциональной зависимостью от обращения в свою веру противника. Я также критиковал многие из конкретных политических шагов, проходивших под маркой сдерживания. И все же общее направление американской политики отличалось дальновидностью и оставалось исключительно осмысленным, несмотря на смену администраций и потрясающее разнообразие участвовавших в политике личностей.
Если бы Америка не организовала сопротивление тогда, когда уверенная в себе коммунистическая империя действовала, словно за ней будущее, заставляла народы и руководителей во всем мире верить в то, что это, возможно, так и есть, то коммунистические партии, уже по отдельности самые сильные в послевоенной Европе, вероятно, смогли бы взять верх. Серию кризисов по поводу Берлина нельзя было бы выдержать, причем число кризисов могло бы увеличиться. Эксплуатируя американскую послевьетнамскую травму, Кремль направил силы своих верных сторонников в Африку, а собственные войска в Афганистан. Он мог бы вести себя еще более нагло и самоуверенно, если бы Америка не защитила глобальное равновесие сил и не оказала помощи в восстановлении демократических обществ. То, что Америка не видела себя в роли одной из составляющих равновесия сил, сделало процесс более болезненным и усложнило его, но это же потребовало от американцев беспрецедентной самоотдачи и обеспечило невиданный прилив творческих сил в обществе. И болезненность процессов не отменила того реального достижения, что именно Америка сохранила глобальное равновесие сил и, следовательно, мир на земле.
Победа в «холодной войне» не была, конечно, достижением какой-то одной администрации. Она стала результатом наложения друг на друга сорока лет американских двухпартийных усилий и семидесяти лет коммунистического окостенения. Феномен Рейгана возник из случайного благоприятного сочетания личности с открывшимися перед ней возможностями; десятилетием ранее этот политик казался бы чересчур воинственным; десятилетием позже — чересчур односторонним. Комбинация идеологической боевитости, сплотившей вокруг него американскую общественность, и дипломатической гибкости, которую консерваторы не простили бы никакому другому президенту, была как раз тем, что требовалось в период советской слабости и возникающего сомнения в правильности наших собственных действий.
И все же рейгановская внешняя политика была скорее, по сути, блистательным солнечным закатом, чем зарей новой эры. «Холодная война» явилась почти что по заказу и отвечала фундаментальным представлениям американцев. Имел место доминирующий идеологический вызов, делающий универсальные тезисы, пусть даже в чрезмерно упрощенной форме, применимыми к большинству мировых проблем. И налицо была четкая и явная военная угроза, источник которой не вызывал сомнений. Но даже тогда американское блуждание в потемках от Суэца до Вьетнама явилось результатом применения универсальных принципов к конкретным случаям, которые оказались для них совершенно неподходящей почвой.
В мире по окончании «холодной войны» нет преобладающего идеологического вызова или, в данный момент, единой геостратегической конфронтации. Почти каждая ситуация имеет конкретное содержание. Исключительность вдохновляла американскую внешнюю политику и давала Соединенным Штатам силу выстоять в «холодной войне». Но эту силу придется применять гораздо более тонко и осторожно в многополюсном мире XXI века. В итоге Америка вынуждена будет оказаться перед вопросом, ответа на который она умудрялась не давать на протяжении почти всей своей истории: маяк она или крестоносец? И насколько широк сужающийся диапазон выбора между тем и другим?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. Возвращение к проблеме нового мирового порядка
В начале последнего десятилетия XX века вильсонианство, похоже, совершает триумфальное шествие. Коммунистический, идеологический и советский геополитический вызовы оказались преодолены одновременно. Цель моральной оппозиции коммунизму слилась с геополитической задачей сопротивления советскому экспансионизму. Неудивительно, что президент Буш провозгласил свои надежды на новый мировой порядок, облекая их в классическую вильсонианскую терминологию:
«Перед нами встает видение нового партнерства наций, перешагнувших порог „холодной войны". Партнерства, основанного на консультациях, сотрудничестве и коллективных действиях, особенно через международные и региональные организации. Партнерства, объединенного принципом и властью права и поддерживаемого справедливым распределением расходов и обязанностей. Партнерства, целью которого является приращение демократии, приращение процветания, приращение мира и сокращение вооружений»[1054].
Преемник Буша, избранный президентом кандидат от демократической партии Билл Клинтон, описал стоящие перед Америкой задачи в сходных выражениях, высказываясь на тему «расширения демократии»:
«В новую эру опасностей и возможностей нашей всепоглощающей целью должно стать расширение и усиление мирового сообщества стран демократического характера, опирающихся на рыночную экономику. Во время „холодной войны" мы стремились уменьшить угрозу выживанию свободных институтов. Теперь мы стремимся расширить круг наций, которые живут при наличии свободных институтов, ибо нашей мечтой является тот день, когда мнения и энергия каждого человека на свете найдут полное самовыражение в мире бурно расцветающих демократических стран, сотрудничающих друг с другом и живущих в мире»[1055].
В третий раз на протяжении нынешнего столетия Америка подобным образом провозглашает свои намерения выстроить новый мировой порядок, применяя свои собственные ценности на всем мировом пространстве. И в третий раз Америка, похоже, возвышается над всей международной ареной. В 1918 году Вильсон своей тенью заслонил Парижскую мирную конференцию, где союзники слишком зависели от Америки, чтобы громко высказаться против. К концу второй мировой войны Франклин Делано Рузвельт и Трумэн, казалось, имели возможность перекроить весь глобус по американской модели.
Конец «холодной войны» породил еще большее искушение переделать мир по американскому образу и подобию. Вильсона ограничивал изоляционизм во внутренней политике, а Трумэн столкнулся со сталинским экспансионизмом. В мире по окончании «холодной войны» Соединенные Штаты остались единственной сверхдержавой, которая обладает возможностью вмешательства в любой части земного шара. Однако могущество их стало менее ощутимым, а вопросы, решаемые военной силой, исчезли. Победа в «холодной войне» поместила Америку в мир, имеющий много общего с системой европейских государств XVIII и XIX веков и с практикой, которую американские государственные деятели и мыслители постоянно подвергали сомнению. Отсутствие всеобъемлющей угрозы как идеологической, так и стратегической дает нациям свободу ведения внешней политики, во все большей степени базирующейся на сиюминутных национальных интересах. В международной системе, для которой характерно наличие, возможно, пяти или шести великих держав и множества меньших государств, порядок должен возникнуть в основном, как и в прошлые столетия, на базе примирения и балансирования соперничающих национальных интересов.
Как Буш, так и Клинтон говорили о новом мировом порядке, словно он находится за ближайшим углом. На деле он все еще проходит период вызревания, и окончательные его формы станут зримы лишь в пределах будущего столетия. Будучи частично продолжением прошлого, а частично беспрецедентным, новый мировой порядок, как и те, на чье место он приходит, должен возникнуть как ответ на три вопроса. Что является фундаментальными составляющими мирового порядка? Каковы способы их взаимодействия? Каковы цели, ради которых происходит подобное взаимодействие?
Международные системы живут, идя на риск. Каждый «мировой порядок» выражает стремление к постоянству; уже само это определение несет на себе печать вечности. И все же элементы, которые его составляют, находятся в непрерывном движении; действительно, с каждым столетием продолжительность существования международных систем уменьшается. Порядок, выросший из Вестфальского мира, продержался полтора столетия; международная система, созданная Венским конгрессом, прожила сто лет; международный порядок, характерный для «холодной войны», нашел свой конец через четыре десятилетия. (Версальское урегулирование никогда не функционировало как система, приемлемая для великих держав, и представляла собой немногим большее, чем просто перемирие между двумя мировыми войнами.) Никогда еще компоненты мирового порядка, их взаимодействие друг с другом, задачи, которые надо решить, не менялись столь быстро, не были столь глубоки или столь глобальны.
Как только составляющие международной системы меняют свой характер, неизбежно следует период потрясений. Тридцатилетняя война в значительной степени велась в связи с переходом от феодальных обществ, базировавшихся на традиции и претензии на универсальность, к современной государственной системе, опирающейся на raison d'etat. Войны времен Французской революции означали переход к государствам-нациям, определяемым наличием общего языка и культуры. Войны XX века были связаны с распадом империи Габсбургов и Оттоманской империи, вызовом, связанным с претензиями на господство в Европе и концом колониализма. В каждый из этих переходных периодов то, что ранее принималось как должное, вдруг становилось анахронизмом: многонациональные государства XIX века, колониализм XX.
Со времен Венского конгресса внешняя политика стала соотносить народы друг с другом — отсюда термин «международные отношения». В XIX веке появление хотя бы одной новой нации — такой, как объединенная Германия, — порождало десятилетия смуты. После окончания второй мировой войны появилось на свет почти сто наций, нередко имеющих существеннейшие отличия от европейских, исторически сложившихся государств-наций. Крах коммунизма в Советском Союзе и распад Югославии повлекли за собой возникновение еще порядка двадцати наций, многие из которых увлечены и поглощены сведением вековых кровавых счетов.
Европейское государство XIX века имело в своей основе общность языка и культуры и, с учетом технологии того времени, стремилось оптимально возможным способом достичь безопасности, экономического роста и роста своего влияния на международные события. В мире по окончании «холодной войны» традиционные европейские государства-нации — страны, составлявшие «европейский концерт» вплоть до первой мировой войны, — не обладают ресурсами для того, чтобы играть глобальную роль. Консолидация в Европейский Союз предопределит их будущее влияние. Объединенная Европа продолжит свое существование как великая держава; разделенная же на национальные государства — сползет к уровню обладателя второстепенного статуса.
Частично потрясения, связанные с возникновением нового мирового порядка, проистекают из факта взаимодействия, по крайней мере, трех типов государств, зовущих себя «нациями», но обладающих, однако, слишком малым числом исторических атрибутов государства-нации. С одной стороны, это этнические осколки распавшихся империй типа государств — преемников Югославии или Советского Союза. Одержимые историческими обидами и вековым стремлением к самоутверждению, они в первую очередь стремятся взять верх в старинных этнических соперничествах. Цели международного порядка находятся за пределами их интересов, а часто и за пределами их воображения. Подобно мелким государствам, порожденным Тридцатилетней войной, они стремятся оградить свою независимость и увеличить собственную мощь, не принимая во внимание более космополитические соображения международно-политического порядка.
Кое-какие из постколониальных наций являются примером еще одного любопытного феномена. Ведь у многих из них нынешние границы есть административное порождение, явившееся на свет ради удобства империалистических держав. Французская Африка, обладавшая весьма протяженной береговой линией, была расчленена на семнадцать административных единиц, каждая из которых ныне превратилась в государство. Бельгийская "Африка, тогда именуемая Конго, а ныне Заиром, имела весьма узкий выход к морю, а потому управлялась, как единое целое, хотя и занимала территорию равную Западной Европе. При подобных обстоятельствах государство очень часто означает «армия», которая и становится единственным национальным институтом. Когда такого рода претензия не находит своего воплощения, последствием часто становится гражданская война. Если к таким нациям применять стандарты государственности XIX века или вильсоновские принципы самоопределения, неизбежностью станет радикальная и непредсказуемая переделка границ. Им придется выбирать между территориальным статус-кво и бесконечно жестоким гражданским конфликтом.
Наконец, существуют государства континентального типа, которые, возможно, явятся базовыми ячейками нового мирового порядка. Индийская нация, возникшая при британском колониальном правлении, многоязыка и многорелигиозна. Это, по сути, — множество национальностей. Поскольку она более чувствительно реагирует на религиозные и идеологические течения в соседних государствах, чем европейские нации XIX века, разграничительная линия между внутренней и внешней политикой у нее несколько иная и менее четкая. Соответственно, Китай является конгломератом различных языков, скрепляемых воедино общностью письменности, общностью культуры и общей историей. Такой могла бы стать Европа, если бы не религиозные войны XVII века, и такой она еще сможет стать, если Европейский Союз оправдает чаяния своих сторонников. Соответственно, обе сверхдержавы периода «холодной войны» никогда не были государствами-нациями в европейском смысле. Америка преуспела в создании четко отличимой национальной культуры на базе национального многоязычия; Советский Союз представлял собой империю, включавшую в себя множество национальностей. Его преемники, особенно на момент написания этой книги, Российская Федерация, раздираемы между дезинтеграцией и деимпериализацией точно так же, как это было с империей Габсбургов и Оттоманской империей в XIX веке.
Все это радикально меняет содержание, методику и, что важнее всего, масштаб международных отношений. Вплоть до современного периода различные континенты действовали в основном в изоляции друг от друга. Невозможно было соразмерить мощь, к примеру, Франции и Китая, поскольку у этих двух стран не было средств взаимодействия. Но как только расширились технологические границы, будущее прочих континентов стало определяться «концертом» европейских держав. Ни один из предыдущих международных порядков не обладал крупными силовыми центрами, размещенными по всему земному шару. И никогда еще государственные деятели не обязаны были заниматься дипломатической деятельностью в такой обстановке, когда события воспринимаются мгновенно и одновременно как лидерами, так и общественностью их стран.
Поскольку число государств увеличивается, а возможности взаимодействия между ними возрастают, на каких принципах может быть организован новый мировой порядок? С учетом сложности новой международной системы могут ли вильсонианские концепции типа «расширения демократии» служить путеводными указателями для американской внешней политики, а также в качестве замены стратегии сдерживания времен «холодной войны»? Ясно, что эти концепции не были ни безоговорочно успешными, ни безоговорочно неудачными. Некоторые из наиболее утонченных свершений дипломатии XX века уходят своими корнями в идеализм Вудро Вильсона: «план Маршалла», самоотверженное обязательство по сдерживанию коммунизма, защита свободы Западной Европы и даже злосчастная Лига наций, а также более позднее ее воплощение — Организация Объединенных Наций.
В то же время вильсонианский идеализм породил превеликое множество проблем. Некритическое применение принципа этнического самоопределения в том виде, как это отражено в «Четырнадцати пунктах», неспособно было учесть соотношение сил и дестабилизирующий эффект прямолинейного преследования этническими группами целей, связанных со скопившимся за продолжительный срок соперничеством и давней ненавистью. Неспособность снабдить Лигу наций механизмом военного принуждения усугубляла проблемы, являвшиеся неотъемлемой частью вильсоновского понятия коллективной безопасности. Неэффективный пакт Бриана—Келлога, заключенный в 1928 году, согласно которому нации отвергали войну как средство политики, демонстрировал пределы чисто юридических ограничений. Как предстояло доказать Гитлеру, в мире дипломатии заряженное орудие часто обладает большей потенциальной силой, чем юридическое предупреждение. Призыв Вильсона, обращенный к Америке, следовать путем демократии, вызвал деяния великой творческой силы. Он также привел к крестовым походам типа вьетнамского, обратившимся в катастрофу.
Окончание, «холодной войны» создало ситуацию, которую многочисленные наблюдатели называют «однополюсным» или «моносверхдержавным» миром. Но Соединенные Штаты на деле находятся не в столь блестящем положении, чтобы в одностороннем порядке диктовать глобальную международную деятельность. Америка добилась большего преобладания, чем десять лет назад, но по иронии судьбы сила ее стала более рассредоточенной. Таким образом, способность Америки воспользоваться ею, чтобы изменить облик остального мира, на самом деле уменьшилась.
Победа в «холодной войне» сделала еще более затруднительным воплощение вильсонианской мечты о всеобщей коллективной безопасности. В отсутствие потенциально доминирующей державы основные нации не воспринимают угрозы миру единообразно, и, кроме того, они не желают идти на одинаковый риск в преодолении тех угроз, которые действительно признают. (См. гл. 10, 11, 15 и 16.) Мировое сообщество в достаточной степени готово сотрудничать в деле «поддержания мира» — то есть в обеспечении существующих соглашений, не оспариваемых какой-либо из сторон, — но в достаточной мере уклончиво относится к «обеспечению мира», то есть подавлению реальных вызовов мировому порядку. Это неудивительно, ибо даже Соединенные Штаты , до сих пор не выработали ясной концепции того, чему будут противодействовать в одностороннем порядке после окончания «холодной войны».
В качестве подхода к вопросам внешней политики вильсонианство предполагает, что Америка обладает исключительными качествами, проявляющимися в неоспоримых добродетелях и неоспоримой мощи. Соединенные Штаты были до такой степени уверены в собственной силе и высокой моральности своих целей, что всегда видели себя в роли борца за собственные ценности в мировом масштабе. Американская исключительность должна была стать отправной точкой вильсонианской внешней политики.
По мере приближения XXI столетия могучие глобальные силы трудятся все упорнее, так что по ходу времени Соединенные Штаты лишатся части своей исключительности. В обозримом будущем у американской военной мощи по-прежнему соперников не будет. И все же американское стремление направить эту мощь на мириады крохотных конфликтов, которым мир явится свидетелем в течение надвигающихся десятилетий — типа Боснии, Сомали и Гаити, — явится ключевым концептуальным вызовом для американской внешней политики. Соединенные Штаты, вероятнее всего, в будущем столетии сохранят самую мощную в мире экономику. И все же благосостояние распространится гораздо шире, точно так же, как технология, обеспечивающая благосостояние. И Соединенные Штаты окажутся перед лицом экономической конкуренции такого рода, какая не проявлялась в период «холодной войны».
Америка останется великой и могущественной нацией, но нацией, с которой уже будет кому равняться; «первой среди равных», но тем не менее одной из ряда подобных. Американская исключительность, являвшаяся неотъемлемым фундаментом вильсонианской внешней политики, скорее всего в наступающем столетии в значительной мере утеряет свое значение.
Но американцам не стоит рассматривать это как унижение или симптом национального упадка. На протяжении значительной части своей истории Соединенные Штаты были на деле одной из многих наций, а не абсолютной сверхдержавой. Подъем прочих силовых центров: Западной Европы, Японии и Китая — не должен тревожить американцев. В конце концов, совместное использование мировых ресурсов и развитие иных обществ и экономик были типично американской задачей еще со времен «плана Маршалла». Но коль скоро вильсонианство становится все более не соответствующим времени, а обязательные принципы вильсонианской внешней политики: коллективная безопасность, обращение соперников в свою веру и приобщение американскому образу жизни, международная система решения споров юридическим путем и безграничная поддержка этнического самоопределения — во все меньшей степени находят воплощение на практике. На каких же принципах следует Америке основывать свою внешнюю политику в наступающем столетии? История не предлагает не только путеводителей, но даже более или менее удовлетворительных аналогий. И все же история учит силой примера, а поскольку Америка отправляется в плавание по не нанесенным на карту водам, ей стоило бы сопоставить эпоху, предшествовавшую появлению Вудро Вильсона, и «американский век», чтобы найти подсказки для грядущих десятилетий.
Концепция Ришелье относительно «raison d'etat», иными словами, принцип оправдания интересами данного государства средств, которыми оно пользуется, чтобы обеспечить эти интересы, всегда была отвратительна американцам. Речь идет не о том, чтобы американцы никогда не применяли принцип raison d'etat: имеется много примеров, начиная со времен «отцов-основателей», когда проводилась твердая и трезвая политика по отношению к европейским державам в первые десятилетия существования республики, и вплоть до целенаправленного обеспечения западной экспансии, проходившей под лозунгом «судьбоносных проявлений». Но американцы всегда чувствовали себя неловко, открыто признавая наличие у них эгоистических интересов. Воюя в мировых войнах или участвуя в локальных конфликтах, американские руководители всегда заявляли, что сражаются во имя принципа, а не ради собственных интересов.
Для любого, кто изучает европейскую историю, концепция равновесия сил выступает как нечто самоочевидное. Понятие равновесия сил, как, впрочем, и высших интересов государства, первоначально было введено в обиход еще английским королем Вильгельмом III, который пытался обуздать экспансионистские устремления Франции. Следовательно, концепция коалиции более слабых государств, объединяющихся, чтобы стать противовесом более сильному, не является чем-то из ряда вон выходящим. И все же поддержание равновесия сил требует неустанного внимания. В последующем столетии американским руководителям придется сформулировать перед общественностью концепцию национальных интересов и объяснить, как обеспечение национальных интересов — в Европе к Азии — служит поддержанию равновесия сил. Америке потребуются партнеры в деле сохранения равновесия в ряде регионов мира, и этих партнеров не всегда придется выбирать из одних лишь моральных соображений. Потому четкое определение национальных интересов потребуется для того, чтобы существенным образом направлять американскую политику.
Международная система, просуществовавшая самый длительный срок без большой войны, была та, что возникла на Венском конгрессе. Она сочетала в себе легитимность и равновесие сил, общность ценностей и дипломатию по контролю за соотношением сил. Общность ценностей ограничивала объем требований со стороны отдельных наций, а равновесие сил ставило предел возможностям нажима. В XX веке Америка дважды пыталась создать мировой порядок, почти исключительно основывающийся на ее ценностях. Эти попытки представляют собой героические усилия, в ряде случаев увенчавшиеся успехом. Но вильсонианство не может являться единственной основой в эпоху после окончания «холодной войны».
Рост демократии продолжает оставаться одним из главных чаяний Америки, однако необходимо смотреть в лицо препятствиям, появившимся как раз в момент кажущегося философского триумфа. Сокращение власти центрального правительства являлось главной заботой западных политических теоретиков, в то время как во многих других обществах политическая теория была направлена на укрепление авторитета государства. Нигде не было столь настоятельного требования расширения личных свобод. Эволюция западной демократии привела к созданию гомогенных обществ с продолжительной общей историей (даже Америка, со своим многоязычным населением, создала мощнейшее культурное единство). Общество и, в каком-то смысле, нация предшествовали государству и не нуждались в том, чтобы оно их создало. В подобном обрамлении политические партии представляют собой вариации изначального консенсуса; сегодняшнее меньшинство — это потенциально завтрашнее большинство.
Во многих других частях света государство предшествовало нации; оно было и часто остается главнейшим элементом ее формирования. Политические партии, там, где они существуют, отражают жесткое, как правило, общинное единение; принадлежность к меньшинству или большинству обычно носит постоянный характер. В такого рода обществах политический процесс сводится к вопросу господства, а не к смене пребывания у власти, которая, если вообще имеет место, то скорее посредством неконституционных переворотов. Концепция лояльной оппозиции — сущность современной демократии — редко имеет место. Гораздо чаще оппозиция рассматривается как угроза национальному единству, приравнивается к измене и безжалостно подавляется.
Демократия западного стиля предполагает наличие консенсуса относительно ценностей, что ставит пределы партийным идеологиям. Америка не была бы сама собой, если бы не настаивала на универсальной применимости идеи свободы. То, что Америка обязана отдавать предпочтение демократическим правительствам по сравнению с репрессивными и быть готова платить определенную цену за свою моральную убежденность, бесспорно. То, что существует определенная степень секретности, призванная защищать действия в пользу правительства и институтов, воплощающих на деле демократические ценности и права человека, также ясно. Трудности возникают тогда, когда конкретно следует определять цену, подлежащую уплате, и ее соотношения с другими существенно важными американскими приоритетами, включая вопросы национальной безопасности и всеобщего геополитического баланса. Если американская проповедь добра и осуждение зла должны выходить за рамки патриотической риторики, то, безусловно, с целью реалистического осознания американских возможностей. Америке надлежит с осторожностью относиться к расширению моральных обязательств, когда сокращаются финансовые и военные ресурсы для проведения глобальной внешней политики. Широковещательные заявления, не подкрепленные материальной возможностью и готовностью претворить их в жизнь, уменьшают влияние Америки и по другим вопросам.
Точное соотношение между моральными и стратегическими элементами американской внешней политики не может быть предметом абстрактных предписаний. Но начальная стадия мудрости заключается в признании необходимости подобного соотношения. Как ни могущественна Америка, ни одна из стран не обладает возможностями навязать все свои предпочтения остальному человечеству; необходимо установить приоритеты. Даже если реально существуют ресурсы, обеспечивающие недифференцированное вильсонианство, его не следует поддерживать, если американская общественность не имеет четкого и ясного понимания сопутствующих обязательств и степени своей вовлеченности в конфликт. Иначе оно рискует превратиться в голый призыв, при помощи которого может совершаться уход от трудного геополитического выбора, тонущего в словесной эквилибристике, оправдывающей отказ от какого бы ни было риска. И тогда может появиться угрожающий разрыв в области американской политики между заявленными претензиями и готовностью их подкрепить делом; практически неизбежное разочарование очень легко превратить в оправдание полного самоустранения от международных дел.
В мире по окончании «холодной войны» американскому идеализму потребуется закваска в виде геополитического анализа, чтобы пробиться через толщу новых сложностей. Это будет нелегко. Америка отказалась господствовать над миром, когда обладала ядерной монополией, и с пренебрежением относилась к понятию равновесия сил даже тогда, когда вела, как, например, в период «холодной войны», дипломатию с учетом сфер национальных интересов. В XXI веке, однако, Америке, как и прочим нациям, придется научиться лавировать между жестокой необходимостью и гибкостью выбора, между неизменными принципами международных отношений и элементами, сохраняемыми государственными деятелями в тайне.
А когда установлен баланс между ценностями и необходимостью, внешнеполитическая деятельность должна начинаться с какого-либо определения того, что есть для страны важные интересы, — перемена международной обстановки, случается, до такой степени способна подорвать национальную безопасность, что этой перемене нужно противодействовать независимо от ее характера или видимой ее законности. Будучи в зените своего могущества, Великобритания готова была начать войну, лишь бы предотвратить оккупацию нидерландских портов в Па-де-Кале, хотя бы даже их забрала себе великая держава, во главе которой стояли бы святые. На протяжении значительного отрезка американской истории «доктрина Монро» служила оперативным определением американских национальных интересов. С момента вступления Вудро Вильсона в первую мировую войну Америка избегала определения конкретных национальных интересов и ограничивалась заявлением о том, что она не против изменений как таковых, но возражает лишь против применения силы для осуществления подобных изменений. Ни одно из этих положений более не соответствует реальности; «доктрина Монро» чересчур ограничительна по сути, вильсонианство носит слишком зыбкий и чрезмерно легистский характер. Противоречивые споры, сопровождавшие почти все американские военные акции в период по окончании «холодной войны», демонстрируют отсутствие до сих пор более широкого консенсуса по поводу того, где Америке следует переступить черту. Обеспечить такой консенсус — крупномасштабная задача американского руководства.
Геополитически Америка представляет собою остров между берегами гигантской Евразии, чьи ресурсы и население в огромной степени превосходят имеющееся у Соединенных Штатов. Господство какой-либо одной державы над любым из составляющих Евразию континентов: Европой или Азией — все еще остается критерием стратегической опасности для Америки независимо от наличия или отсутствия «холодной войны». Ибо такого рода перегруппировка стран способна превзойти Америку в экономическом, а в конечном счете и в военном отношении. Опасности этой придется противодействовать, даже если господствующая держава будет по отношению к Америке настроена благожелательно, ибо стоит ее намерениям перемениться, как Америка окажется лишенной значительной части возможностей, обеспечивающих эффективное сопротивление, и во все большей степени начнет утрачивать возможности оказывать решающее воздействие на события.
Америка оказалась вовлечена в «холодную войну» из-за угрозы советского экспансионизма и возлагает многие из собственных надежд по окончании «холодной войны» на факт исчезновения коммунистической угрозы. Точно так же, как отношение Америки к враждебности со стороны Советского Союза сформировало отношение Америки к глобальному порядку — с точки зрения сдерживания, — реформа в России является определяющим фактором американского мышления в отношении мирового порядка после окончания «холодной войны». Американская политика базируется на предположении, что мир может быть обеспечен Россией, закаляющейся в горниле демократии и концентрирующей свою энергию на создании рыночной экономики. В свете этого главной задачей Америки принято считать содействие становлению российских реформ с применением мер, позаимствованных из опыта осуществления «плана Маршалла», а не из традиционных арсеналов внешней политики.
Ни на какую другую страну американская -политика не была ориентирована столь целенаправленно, исходя из оценки ее намерений, а не потенциала или даже политики. Франклин Рузвельт возлагал свои надежды на мирную послевоенную действительность, в значительной степени рассчитывая на сдержанность Сталина. Во времена «холодной войны» оперативная американская стратегия — «сдерживание» — имела своей объявленной целью перемену советских намерений, и дебаты в связи с этой стратегией сводились в основном к тому, произошла ли уже эта перемена. Из числа американских послевоенных президентов только Никсон постоянно видел в Советском Союзе геополитический вызов и действовал соответственно. Даже Рейган в огромной степени полагался на обращение советских руководителей на путь истинный. Неудивительно, что после краха коммунизма решили было, что враждебные намерения исчезли, а поскольку вильсонианские традиции отвергают сам факт наличия конфликтных интересов, американская политика по окончании «холодной войны» велась так, словно традиционные внешнеполитические соображения потеряли силу.
Те, кто изучает геополитику и историю, чувствуют себя неловко перед лицом столь прямолинейного подхода. Они опасаются того, что, переоценивая способности Соединенных Штатов формировать облик внутренней эволюции России, Америка может безо всякой нужды вовлечь себя во внутрироссийские споры, породить ретроградный всплеск национализма и оставить без внимания обычные внешнеполитические задачи. Эти специалисты поддержали бы такую политику, которая была бы направлена на трансформацию традиционной российской агрессивности, и по этой причине благоприятно бы отнеслись к оказанию России экономической помощи и осуществлению совместных с Россией проектов глобального характера. Но, однако, они заявили бы, что Россия, независимо от того, кто ею правит, располагается на территории, которую Хэлфорд Макиндер назвал «геополитической сердцевиной», и является наследницей одной из самых могучих имперских традиций[1056]. Даже если заранее постулированным моральным преобразованиям суждено сбыться, они займут время, а за этот промежуток Америке следует повысить ставки.
Не стоит Америке также ждать, что результаты ее помощи России будут сопоставимы с результатами от осуществления «плана Маршалла». Западная Европа в период, следовавший непосредственно за окончанием второй мировой войны, обладала функционирующей рыночной системой, разветвленным бюрократическим аппаратом и, в большинстве стран, демократической традицией. Западная Европа была привязана к Америке наличием военной и идеологической угрозы со стороны Советского Союза. Прикрытая щитом Атлантического союза, экономическая реформа заставила выйти на поверхность подспудную геополитическую реальность; «план Маршалла» позволил Европе вновь обрести традиционную систему внутреннего управления.
Сопоставимых условий в России по окончании «холодной войны» просто не существует. Уменьшение страданий и содействие экономической реформе являются важными инструментами американской внешней политики; они, однако, не подменяют серьезных усилий по сохранению мирового равновесия сил применительно к стране с длительной историей экспансионизма.
В момент написания книги обширная Российская империя, создавшаяся на протяжении двух столетий, находится в состоянии распада — почти так же, как это было в период с 1917 по 1923 год, когда она кое-как оправилась, не прерывая своего традиционного экспансионистского ритма. Управлять в условиях упадка дряхлеющей империей — одна из самых трудоемких задач дипломатии. Дипломатия XIX века замедлила процесс расползания Оттоманской империи и предотвратила перерождение его во всеобщую войну; дипломатия XX столетия оказалась неспособной сдержать последствия развала Австро-Венгерской империи. Рушащиеся империи создают два типа напряженности: одну вызывают попытки соседей воспользоваться слабостью имперского центра, а другую — усилия приходящей в упадок империи восстановить свою власть на периферии.
Оба процесса протекают одновременно в государствах — преемниках бывшего Советского Союза. Иран и Турция стремятся повысить свою роль в среднеазиатских республиках, где население в основном мусульманское. Но основным геополитическим прорывом является попытка России восстановить свое преобладание на всех территориях, прежде контролируемых Москвой. Во имя сохранения мира Россия стремится к восстановлению в любой форме русской опеки, а Соединенные Штаты, концентрируя свое внимание на доброй воле «реформаторского» правительства и не желая заниматься геополитическими вопросами, молчаливо с этим соглашаются. Они почти ничего не сделали, чтобы обеспечить государствам-преемникам — за исключением балтийских государств — международное признание. Визиты в эти страны со стороны высших американских официальных лиц довольно немногочисленны и редки; помощь минимальна. Действия российских войск на их территории, или даже просто их присутствие, редко оспаривается. Москва рассматривается де-факто как имперский центр, точно так же, как она сама трактует себя.
Отчасти это происходит потому, что Америка воспринимает антикоммунистическую и антиимпериалистическую революции, происходящие на земле бывшей Советской империи, как если бы они представляли собой единый феномен. На деле они действуют в противоположных направлениях. Антикоммунистическая революция получает значительную поддержку на всей территории бывшего Советского Союза. Антиимпериалистическая революция, направленная против господства России, весьма популярна в новых нерусских республиках и исключительно непопулярна в Российской Федерации. Ибо российские группировки, стоящие у власти, исторически трактуют свое государство в масштабах «цивилизаторской» миссии (см. гл. 7 и 8); подавляющее большинство ведущих фигур в России, независимо от их политических убеждений, отказываются признать крах Советской империи или легитимность государств-преемников, особенно Украины, колыбели русского православия. Даже Александр Солженицын, когда пишет об освобождении России от дьявольского порождения в лице не желающих в ней оставаться инородцев, настаивает, что под началом Москвы должны оставаться Украина, Белоруссия и населенная славянами почти половина Казахстана[1057], вместе составляющие около 90% прежней империи. На территории бывшего Советского Союза не каждый антикоммунист — демократ и не каждый демократ отвергает русский империализм.
Реалистическая политика будет исходить из того факта, что даже реформаторское российское правительство Бориса Ельцина сохраняет российские войска на территории большинства советских республик, ныне членов Организации Объединенных Наций, часто против конкретно выраженной воли их правительств. Эти вооруженные силы участвовали в гражданских войнах в ряде этих республик. Министр иностранных дел России неоднократно выдвигал концепцию российской монополии на миротворческую деятельность в «ближнем зарубежье», что неотличимо от попыток восстановить господство Москвы. На долгосрочные перспективы мира окажут влияние российские реформы, но краткосрочные перспективы будут зависеть от того, можно ли будет убедить российские войска оставаться дома. Если они вновь появятся вдоль границ прежней империи в Европе и на Среднем Востоке, историческая напряженность — сопровождаемая страхом и взаимными подозрениями — между Россией и ее соседями обязательно возникнет вновь (см. гл. 6 и 7).
Россия вынуждена блюсти свои особые интересы, связанные с ее безопасностью в государствах, которые она называет «ближним зарубежьем», — в республиках бывшего Советского Союза — в отличие от земель за пределами прежней империи. Но дело мира во всем мире требует, чтобы эти интересы были удовлетворены при отсутствии военного давления или одностороннего военного вмешательства. Ключевой вопрос — считать ли взаимоотношения России с новыми республиками международной проблемой, подчиняющейся общепринятым правилам внешнеполитической деятельности? Или это производное от российской практики одностороннего принятия решений, на которые Америка постарается повлиять, если вообще этого захочет, апеллируя к доброй воле российского руководства? В определенных районах — например, в республиках Средней Азии, которым угрожает исламский фундаментализм, — национальные интересы Соединенных Штатов, возможно, параллельны российским, по крайней мере, в той части, в которой речь идет о сопротивлении иранскому фундаментализму. Сотрудничество в этом плане будет вполне возможно в той мере, в какой оно не будет представлять собой сценария возврата к традиционному российскому империализму.
В момент написания этой книги перспективы демократии в России все еще весьма неопределенны, неясно даже, будет ли уже демократическая Россия проводить политику, совместимую с международной стабильностью. На протяжении всей своей драматической истории Россия, в отличие от всего остального западного мира, маршировала под ритм совершенно иного барабанщика. У нее никогда не было церковной автономии; она пропустила Реформацию, Просвещение, век великих географических открытий и создание современной рыночной экономики. Лидеров, обладающих демократическим опытом, очень мало. Почти все российские лидеры — точно так же, как и в новых республиках, — занимали высокие посты при коммунизме; преданность плюрализму не является их первейшим инстинктом, а может оказаться, и вообще им не свойствен.
Более того, переход от централизованного планирования к рыночной экономике оказался болезненным, где бы он ни предпринимался. Управленческий аппарат не имеет опыта рыночной деятельности и использования факторов стимулирования; рабочие растеряли мотивацию; министры никогда не задумывались относительно фискальной политики. Стагнация, даже упадок почти неизбежны. Ни одной из централизованно планируемых экономик еще не удавалось обойтись без болезненных лишений на пути к рыночной экономике, причем проблема усугубляется попыткой совершить переход разом, одним махом, в соответствии с рекомендациями множества американских советников-экспертов. Неудовлетворенность социально-экономической ценой переходного периода позволила коммунистам добиться существенных успехов в посткоммунистической Польше, Словакии и Венгрии. На российских парламентских выборах в декабре 1993 года коммунистические и националистические партии совместно получили почти 50% голосов.
Даже искренние реформаторы могут увидеть в традиционном русском национализме объединяющую силу для достижения своих целей. А в России национализм исторически носит миссионерский и имперский характер. Психологи могут спорить, является ли причиной этому глубоко укоренившееся чувство неуверенности или природная агрессивность. Для жертв русской экспансии различие носит чисто академический характер. В России демократизация и сдержанная внешняя политика не обязательно идут рука об руку. Вот почему утверждение, будто бы мир в первую очередь может быть обеспечен внутренними российскими реформами, находит мало приверженцев в Восточной Европе, скандинавских странах или в Китае, и именно поэтому Польша, Чешская республика, Словакия и Венгрия так стремятся войти в Атлантический союз.
Курс, принимаемый с учетом внешнеполитических соображений, будет нацелен на создание противовеса предсказуемым тенденциям, а не на полнейшую зависимость от исхода внутренних реформ. Поддерживая российский свободный рынок и российскую демократию, этот курс должен одновременно ставить препятствия российскому экспансионизму. Можно даже на деле утверждать, что реформы только укрепятся, если дать России стимул сосредоточиться — впервые за всю свою историю — на развитии собственной национальной территории, которая, простираясь через одиннадцать часовых поясов от Санкт-Петербурга до Владивостока, не дает повода для появления клаустрофобии.
В период по окончании «холодной войны» американская политика по отношению к посткоммунистической России делает безоговорочную ставку на конкретных лидеров. Во времена администрации Буша это Михаил Горбачев, а при Клинтоне — Борис Ельцин. Оба благодаря будто бы заведомой личной преданности демократии рассматривались как гаранты миролюбия российской внешней политики и российской интеграции в международном сообществе. Буш с сожалением отнесся к распаду горбачевского СССР, а Клинтон смирился с попытками восстановить прежнюю сферу российского влияния. Американские руководители не желают традиционно дипломатически тормозить российскую политику из опасения спровоцировать предполагаемых националистических оппонентов Ельцина (а до этого Горбачева).
Российско-американским отношениям отчаянно необходим серьезный диалог на внешнеполитические темы. России лучше не станет от того, что ее будут рассматривать как обладающую иммунитетом применительно к нормальным внешнеполитическим соображениям, ибо практическим результатом этого явится более тяжкая плата за то, что она окажется безвозвратно увлечена неверным курсом. Американские руководители не должны бояться откровенных дискуссий на тему, в чем американские и российские интересы совпадают, а в чем разнятся. Ветераны российских внутренних битв — не краснеющие от смущения новички, чья уверенность в себе пошатнется от реалистичного диалога. Они вполне способны постигнуть, что такое политика, основывающаяся на взаимном уважении национальных интересов друг друга. На деле они поймут такого рода расчеты гораздо лучше, чем призывы к абстрактному и далекому от жизни утопизму.
Превращение России в неотъемлемую часть международной системы является ключевой задачей нарождающегося международного порядка. Здесь есть два компонента, которые нужно поддерживать в равновесии: оказание поддержки позитивным российским внешнеполитическим стимулам и ограничение российских эгоистических расчетов. Щедрое экономическое содействие и технические консультации необходимы для облегчения тягот переходного периода, и Россию должны охотно принимать в состав институтов, способствующих экономическому, культурному и политическому сотрудничеству, — таких, как Европейское совещание по безопасности. Но российским реформам поставят преграду, а не окажут помощь, если без внимания будет оставлено возрождение российских исторических имперских претензий. Независимость новых республик, в конце концов признанных Организацией Объединенных Наций, не должна молчаливо принижаться согласием с действиями военного характера, производимыми Россией на их земле.
Американская политика по отношению к России должна отвечать интересам постоянного характера, а не подстраиваться под колебания российского внутреннего курса. Если американская внешняя политика сделает своим главным приоритетом российскую внутренюю политику, то она станет жертвой сил, по сути дела, ей не подконтрольных, и лишится всех объективных критериев суждения. Должна ли внешняя политика подгоняться под любое мельчайшее движение революционного по сути процесса? Отвернется ли Америка от России, если там произойдут какие-либо внутренние перемены, которых она не одобрит? Могут ли Соединенные Штаты позволить себе попытаться одновременно отмежеваться от России и Китая и воссоздать во имя внутриполитических предпочтений китайско-советский альянс? Менее назойливая политика по отношению к России в нынешнее время позволит позднее проводить более постоянный по содержанию долгосрочный курс.
Приверженцы того, что я определил в главе 28 как «психиатрическая» школа внешней политики, наверняка отвергнут подобную аргументацию как «пессимистическую». Они заявят, что, в конце концов, Германия и Япония переменили свой характер, так почему бы не Россия? Но верно и то, что демократическая Германия переменилась в противоположном направлении в 30-е годы, и те, кто полагался на ее намерения, внезапно столкнулись лицом к лицу с ее возможностями.
Государственный деятель всегда может уйти от стоящей перед ним дилеммы, делая наиболее благоприятные предположения на будущее; одним из испытаний для него является способность защитить себя от неблагоприятных, и даже непредвиденных, обстоятельств. Новое российское руководство вправе рассчитывать на понимание трудности преодоления последствий семидесятилетнего негодного коммунистического правления. Но оно не вправе рассчитывать, что ему позволят прибрать к рукам сферу влияния, созданную за триста лет царями и комиссарами вокруг обширных границ России. Если Россия хочет стать серьезным партнером в строительстве нового мирового порядка, она должна быть готова к дисциплинирующим требованиям по сохранению стабильности, а также к получению выгод от их соблюдения.
Ближе всего подошла к принятию общепризнанного определения жизненно важных интересов американская политика в отношении своих союзников в районе Атлантики. Хотя Организация Северо-Атлантического пакта обычно описывалась при помощи вильсонианской терминологии, как инструмент коллективной безопасности, а не союз, и тем оправдывалось ее существование, на самом деле она представляла собой институт, где в наибольшей степени соблюдалась гармония между американскими моральными и геополитическими целями (см. гл. 16). Поскольку ее целью было предотвращение советского господства над Европой, она отвечала геополитической задаче — не допустить, чтобы силовые центры Европы и Азии попали под власть враждебной страны, независимо от юридического этому оправдания.
Создатели Атлантического союза не поверили бы своим ушам, если бы им заявили, что победа в «холодной войне» пробудит сомнения относительно будущего этого их творения. Они считали само собой разумеющимся, что наградой за победу в «холодной войне» явится нерушимое атлантическое партнерство. Во имя этой цели затевались и выигрывались многие из решающих политических сражений «холодной войны». В процессе этого Америка оказалась привязанной к Европе при помощи постоянных консультативных институтов и системы объединенного военного командования — структуры, по объему и продолжительности существования уникальной в истории коалиций. То, что стало называться «атлантическим сообществом», — ностальгический термин, ставший гораздо менее модным по окончании «холодной войны», — превращалось в нечто, не отвечающее духу времени после крушения коммунизма. Понижать уровень отношений с Европой явилось признаком хорошего тона. Упор на расширение распространения демократии — не важно где — привел к тому, что Америка, похоже, стала обращать меньше внимания на общества, имеющие сходные с ней институты и с которыми она разделяет общность подхода к правам человека и прочим фундаментальным ценностям, чем на другие регионы мира. Основатели атлантической общности: Трумэн, Ачесон, Маршалл и Эйзенхауэр — разделяли предубеждения многих американцев относительно европейского стиля дипломатии. Но они понимали, что без наличия связей с атлантическими странами Америка окажется в мире наций, с которыми — за исключением Западного полушария — у нее почти не будет моральной общности. При данных обстоятельствах Америка будет вынуждена проводить «Realpolitik» в чистом виде, что по сути несовместимо с американской традицией.
Отчасти подобное ослабление внимания объясняется тем, что, будучи наиболее жизненно важной частью американской политики, НАТО, стал само собой разумеющейся частью международной обстановки. Но, возможно, гораздо более важным фактором является тот, что поколение американских руководителей, обретшее известность за последние полтора десятилетия, происходит в основном с Юга или Запада, где у людей меньше эмоциональных и личных связей с Европой, чем у жителей старого Северо-Востока. Более того, американские либералы — знаменосцы вильсонианства — часто чувствовали, что над ними берут верх их демократические союзники, которые скорее следуют принципам национальных интересов, чем придерживаются понятия коллективной безопасности или полагаются на международное право; они ссылаются на Боснию и Ближний Восток как на примеры невозможности договориться, несмотря на наличие общности ценностей. В то же время изоляционистское крыло американского консерватизма — еще одно обличье приверженцев принципа исключительности — подвергается искушениям повернуться спиной к тому, что их раздражает, то есть к европейскому макиавеллистскому релятивизму и эгоцентризму.
Разногласия с Европой похожи на домашние неурядицы. Однако со стороны Европы реальное содействие в решении ключевых вопросов всегда много значительнее, чем со стороны любого другого района земного шара. Честно говоря, следует припомнить, что в Боснии на поле боя находились французские и английские войска, а американских не было, хотя публичная болтовня создавала совершенно противоположное впечатление. А во время войны в Заливе наиболее значительными неамериканскими контингентами были опять-таки британский и французский. Дважды на памяти одного поколения общие ценности и интересы приводили американские войска в Европу. В мире по окончании «холодной войны» Европа, возможно, уже не способна сплотиться вокруг новой атлантической политики, но Америка в долгу перед самой собой и не имеет права отказаться от политики трех поколений в час победы. Задача, стоящая перед Атлантическим союзом, заключается в том, чтобы приспособить два основополагающих института, формирующих атлантические отношения, а именно Организацию Северо-Атлантического пакта (НАТО) и Европейский Союз (бывшее Европейское экономическое сообщество) к реалиям мира по окончании «холодной войны».
Организация Северо-Атлантического пакта продолжает оставаться главным организационно-связующим звеном между Америкой и Европой. Когда формировался НАТО, советские войска стояли на Эльбе в разделенной Германии. Способный, как полагали все, при помощи сил обычного типа пройти через всю Западную Европу, советский военный истэблишмент вскоре заполучил и быстро растущий ядерный арсенал. На протяжении всего периода «холодной войны» безопасность Западной Европы зависела от Соединенных Штатов, и институты НАТО по окончании «холодной войны» все еще отражают подобное состояние дел. Соединенные Штаты контролируют объединенное командование, которое возглавляется американским генералом, и выступают против попыток Франции придать обороне четкий европейский облик.
Движение в направлении европейской интеграции имеет под собою две предпосылки: если бы Европа не перестала говорить и действовать вразнобой, она постепенно сползла бы на обочину мировой политики; разделенную Германию нельзя ставить в такое положение, при котором она будет испытывать искушение лавировать между двумя блоками и играть на противостоящих силах «холодной войны», натравливая их друг на друга. На момент написания этой книги Европейский Союз, первоначально состоявший из шести наций, вырос до двенадцати и находится в процессе расширения, будучи готов принять в свой состав скандинавские страны, Австрию и, в конце концов, часть бывших советских сателлитов.
Основания, на которых покоились оба эти института, оказались поколеблены крахом Советского Союза и объединением Германии. Советская армия более не существует, а российская армия теперь отошла на сотни миль к востоку. В ближайшем будущем внутренние российские потрясения делают нападение на Западную Европу невероятным. В то же время российские тенденции восстановить прежнюю империю пробудили исторические опасения по отношению к русскому экспансионизму, особенно в бывших государствах-сателлитах в Восточной Европе. Ни один из руководителей стран, находящихся в непосредственной близости от России, не разделяет веры Америки в то, что обращение России на путь истинный является ключом к безопасности этой страны. Все предпочитают президента Бориса Ельцина его оппонентам, но лишь как меньшее из двух потенциальных зол, а не как фигуру, которая может покончить с их исторической неуверенностью в собственной безопасности.
Появление объединенной Германии усугубляет эти страхи. Зная, что два континентальных гиганта исторически либо подминают под себя своих соседей, либо сражаются на их территории, страны, расположенные между ними, опасаются возникающего вакуума безопасности; отсюда их столь интенсивное желание получить защиту Америки, оформляемую членством в НАТО.
Если НАТО испытывает необходимость адаптации к краху советского могущества, перед лицом Европейского Союза встает новая реальность в виде объединенной Германии, существование которой ставит под угрозу молчаливую договоренность, являющуюся стержнем европейской интеграции: признание Федеративной Республикой французского политического лидерства в Европейском сообществе в обмен на решающий голос в экономических вопросах. Федеративная Республика, таким образом, связана с Западом посредством американского лидерства в стратегических вопросах внутри НАТО и французского лидерства в политических вопросах внутри Европейского Союза.
В последующие годы изменятся все традиционные атлантические отношения. Европа не будет, как прежде, ощущать необходимость в американской защите и станет отстаивать собственные экономические интересы гораздо более агрессивно; Америка не захочет идти на значительные жертвы ради европейской безопасности, и перед нею появится искушение изоляционизма в различных обличьях; по ходу дела Германия начнет настаивать на обретении политического влияния, на что ей дает право ее военно-экономическая мощь, и не будет столь эмоционально зависима от американской военной и французской политической поддержки.
Эти тенденции останутся не до конца выявленными, пока у власти будет оставаться Гельмут Коль, наследник аденауэровской традиции (см. гл. 20). И все же он — последний лидер подобного типа. Выходящее на авансцену поколение не имеет личных воспоминаний о войне и о роли Америки в возрождении опустошенной послевоенной Германии. У него нет эмоциональных причин полагаться на наднациональные институты или подчинять собственную точку зрения Америке или Франции.
Величайшим достижением послевоенного поколения американских и европейских руководителей является признание ими того, что если Америка не будет органично связана с Европой, первой придется пойти на вовлеченность в дела второй позднее и при гораздо менее благоприятных обстоятельствах для обеих сторон. Сегодня это справедливо как никогда. Германия стала до такой степени сильной, что существующие европейские институты не способны сами по себе обеспечить равновесие между Германией и ее европейскими партнерами. Не может и Европа, даже включая Германию, справиться в одиночку как с возрождением, так и с развалом России, причем и то и другое — наиболее угрожающие результаты постсоветских потрясений.
Не в интересах ни одной из стран, чтобы Германия и Россия сконцентрировались друг на друга либо как на главном партнере либо как на главном оппоненте. Если они чересчур сблизятся, то создадут страх перед кондоминиумом; если ссориться, то вовлекут Европу в эскалацию кризисов. У Америки и Европы существует взаимная заинтересованность не допустить, чтобы национальная германская и российская политика бесконтрольно сталкивались в самом центре континента. Без Америки Великобритания и Франция не смогут поддерживать политическое равновесие в Центральной Европе; Германию начнет искушать национализм; России будет не хватать собеседника глобального масштаба. А в отрыве от Европы Америка может превратиться не только психологически, но и географически и геополитически в остров у берегов Евразии.
Порядок, возникший после окончания «холодной войны», ставит перед Северо-Атлантическим союзом три ряда проблем: отношения внутри традиционной структуры союза; отношения атлантических наций с бывшими сателлитами Советского Союза в Восточной Европе; наконец, отношения государств-преемников Советского Союза, особенно Российской Федерации, с североатлантическими нациями и Восточной Европой. Регулирование внутренних противоречий внутри Северо-Атлантического союза проходит под знаком вечной войны между американской и французской точками зрения на атлантические отношения. Америка осуществляет верховенство в НАТО под знаменами интеграции. Франция, выступая за европейскую независимость, формирует облик Европейского союза. Результатом этих разногласий является то, что американская роль в военной области является чересчур доминирующей, чтобы способствовать европейской политической солидарности, в то время как роль Франции в деле европейской политической автономии слишком назойлива, чтобы обеспечить внутреннее единство НАТО.
В интеллектуальном смысле этот спор отражает конфликт между концепциями Ришелье и идеями Вильсона — между пониманием сущности внешней политики как средства достижения равновесия между различными интересами и пониманием смысла дипломатии как способа утверждения изначальной гармонии. Для Америки объединенное командование НАТО представляет собой выражение . союзнического единства; для Франции оно выглядит, как предупреждающий об опасности красный флажок. Американские руководители с огромным трудом пытаются понять, как эта страна может отстаивать право на независимые действия, если Америка вовсе не собирается иметь в своем распоряжении такой вариант, как оставление союзника в беде. Франция же видит в неохотном восприятии Америкой независимой в военном отношении роли Европы скрытую попытку гегемонизма.
На самом деле каждый из партнеров следует концепции международных отношений, усвоенной из собственного исторического опыта. Франция является наследником европейского стиля дипломатии, основоположником которого более трехсот лет назад она же сама и явилась. В то время как Великобритания вынуждена была отказаться от роли стража равновесия сил, Франция, хорошо это или плохо, продолжает отстаивать raison d'etat и стоит за четкий расчет этих интересов, а не за стремление достичь абстрактной гармонии. Точно так же убежденно, пусть даже в течение более краткого отрезка времени, Америка претворяла в жизнь вильсонианство. Уверенная в существовании изначальной гармонии, Америка настаивала на том, что, поскольку задачи, стоящие перед Европой и Америкой идентичны, европейская автономия является вещью либо ненужной, либо опасной.
С двумя величайшими европейскими испытаниями современного периода — интеграцией объединенной Германии в систему Запада и отношением Атлантического союза к новой России — нельзя справиться путем буквального применения государственной политики Ришелье или Вильсона. Подход Ришелье поощряет национализм отдельных европейских стран и ведет к фрагментарной Европе. Вильсонианство в чистом виде ослабило бы европейское чувство общности. Попытка построить европейские институты на базе оппозиции Соединенным Штатам в итоге разрушит как европейское единство, так и атлантическую общность. С другой стороны, Соединенным Штатам не следует бояться подчеркнутого европейского единения внутри НАТО, поскольку трудно себе представить автономные европейские военные действия какого бы то ни было масштаба где бы то ни было без американской политической и материальной поддержки. В конце концов, не объединенное командование обеспечивает единство, а ощущение взаимно разделяемых политических и оборонных интересов. Противоречие между Соединенными Штатами и Францией, между идеалами Вильсона и Ришелье, оказалось в хвосте событий. Как Атлантический союз, так и Европейский Союз являются неотъемлемой составной частью здания нового и стабильного мирового порядка. НАТО — наилучшая зашита от военного шантажа, откуда бы он ни исходил; Европейский Союз представляет собой существенно важный механизм обеспечения стабильности в Центральной и Восточной Европе. Оба института необходимы, чтобы приспособить бывших сателлитов Советского Союза и государства-преемники к мирному международному порядку.
Будущее Восточной Европы и государств — преемников Советского Союза не одна и та же проблема. Восточная Европа была оккупирована Красной Армией. Восточная Европа идентифицирует себя, политически и культурно, с западноевропейской традицией. Особенно это относится к странам «Вышеградской группы»: Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Не обладая связями с Западной Европой и атлантическими институтами, эти страны могут стать «ничейной землей» между Германией и Россией. А чтобы эти связи имели осмысленный характер, данная категория стран должна принадлежать как к Европейскому, так и к Атлантическому союзам. Чтобы быть экономически и политически жизнеспособными, они нуждаются в .Европейском Союзе; чтобы обеспечить себе безопасность, они обращают взор к Атлантическому союзу. Причем на деле членство в одном из институтов предполагает членство и в другом. Поскольку большинство членов Европейского Союза являются членами НАТО и поскольку невозможно, чтобы они с пренебрежением отнеслись к нападению на одного из них после достижения определенной степени европейской интеграции, членство в Европейском Союзе тем или иным способом приводит к распространению де-факто гарантии со стороны НАТО.
Пока что от этих вопросов уходят, поскольку членство восточноевропейских стран в обоих этих институтах заблокировано. Однако доводы, подкрепляющие оба отказа, столь же различны, сколь велика разница между европейской и американской политическими традициями. Европа приняла решение расширить Европейский Союз на восток, исходя из основополагающих тезисов «Realpolitik»: она признала принцип и предложила ассоциированное членство восточноевропейским странам при условии реформирования экономик стран Восточной Европы (и по ходу дела ограждая экономику стран Западной Европы от конкуренции на какой-то более продолжительный срок). Это сделает полноправное членство техническим вопросом, который будет решен по прошествии времени.
Американское возражение против членства в НАТО этой категории стран носит принципиальный характер. Возвращаясь к историческим возражениям Вильсона против альянсов, ибо они базируются на ожидании конфронтации, президент Клинтон воспользовался встречей глав государств — членов НАТО в январе 1994 года, чтобы предложить альтернативное воззрение на предмет. Поясняя, почему Соединенные Штаты не поощряют прием в НАТО Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, он в качестве обоснования заявил, что Атлантический союз не может позволить себе «провести новую разграничительную линию между Востоком и Западом, которая сама по себе стала бы предвестником новых конфронтации... Я говорю всем тем в Европе и Соединенных Штатах, кто просто вынуждает нас провести новую разграничительную линию в Европе поближе к востоку, что мы вовсе не должны исключать возможности наилучшего будущего для Европы, в которой демократия и рыночная экономика будет присутствовать везде, как и люди будут сотрудничать везде во имя взаимной безопасности»[1058].
В духе этого президент Клинтон выдвинул схему того, что он назвал «Партнерством во имя мира». Он призвал все государства — преемники Советского Союза и всех бывших восточноевропейских сателлитов Москвы присоединиться к тому, что является неочерченной системой коллективной безопасности. Будучи сплавом вильсонианства и критики со стороны Уоллеса теории «сдерживания», описанной в главе 16, ока является воплощением принципов коллективной безопасности и уравнивает жертв советского и российского империализма и тех, кто довлел над ними, дает одинаковый статус среднеазиатским республикам, граничащим с Афганистаном, и Польше, жертве четырех разделов, в которых участвовала Россия. «Партнерство во имя мира» не промежуточная остановка на пути в НАТО, как часто утверждается, искажая суть дела, а альтернатива членству в нем, точно так же как Локарнский договор (см. гл. 11) явился альтернативой британскому союзу с Францией, которого Франция жаждала в 20-е годы.
И все же Локарно показало, что не существует промежуточного пространства между союзом, основанным на единстве целей, и многосторонним институтом, базирующимся не на общности восприятия угрозы, но на выполнении конкретных условий, относящихся к системе внутреннего управления. «Партнерство во имя мира» несет в себе риск создания в Европе двух типов границ: таких, которые защищены гарантиями безопасности, и таких, которым в таких гарантиях отказано, — причем такое состояние дел наверняка явится искушением для потенциальных агрессоров и деморализует потенциальные жертвы. Следует, таким образом, позаботиться о том, чтобы во имя предотвращения конфронтации не была в стратегическом и концептуальном плане создана «ничейная земля» в Восточной и Центральной Европе — источник множества европейских конфликтов.
В рамках международного сообщества окажется невозможным решить, как часть одной проблемы, двойную проблему безопасности в Восточной Европе и интегрирование России в мировое сообщество. Если «Партнерство во имя мира» становится как бы частью НАТО, то оно вполне способно подорвать Атлантический союз путем вовлечения его в побочную деятельность, не относящуюся к его миссии в области практического обеспечения безопасности, увеличит ощущение незащищенности в Восточной Европе и в то же время, будучи в значительной степени двусмысленным по сути, не сможет умиротворить Россию. И действительно, «Партнерство во имя мира» рискует быть воспринято как ненужное, если не опасное потенциальными жертвами агрессии, а в Азии оно может быть истолковано как этнический клуб, направленный в первую очередь против Китая и Японии.
В то же время важно соотнести Россию с атлантическими странами. И потому существует место для института, называющего себя «Партнерством во имя мира», при условии, что он берет на себя миссии, которые все его члены истолковывают в существенной своей части одинаково. Такого рода общность задач существует в области экономического развития, образования и культуры. Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) могут быть приданы в этих целях расширенные функции, и тогда его и следует переименовать в «Партнерство во имя мира».
В случае осуществления такого рода замысла Атлантический союз будет обеспечивать политическую общность и всеобщую безопасность; Европейский Союз ускорит членство в нем бывших восточноевропейских сателлитов; а Североатлантический совет по вопросам сотрудничества (НАКК) и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, возможно, переименованное в «Партнерство во имя мира», соотнесут республики бывшего Советского Союза — и особенно Российскую Федерацию — с атлантическими структурами. Зонтик безопасности будет раскрыт и над новыми демократиями Восточной Европы. А если Россия останется в пределах своих границ, то со временем упор с безопасности переместится на партнерство. Общие экономические и политические проекты будут во все большей и большей степени характеризовать отношения между Востоком и Западом.
Будущее Атлантического союза не ограничится одними только отношениями между Востоком и Западом: он сможет стать важнейшим помощником Америке в нахождении своей роли в XXI веке. В момент написания этой книги невозможно предсказать, какие из предположительно поднимающихся сил будут наиболее преобладающими или наиболее угрожающими и в каких сочетаниях: будет ли это Россия, Китай или фундаменталистский ислам. Но способность Америки справиться с любым из этих феноменов эволюции будет подкрепляться сотрудничеством со стороны североатлантических наций. Таким образом, то, что обычно называлось «проблемами, не относящимися к сфере деятельности союза», станет сердцевиной североатлантических взаимоотношений, а сам союз следует с учетом этого реорганизовать.
Растет американская заинтересованность в Азии, символом чего явилось предложение о создании Тихоокеанского сообщества, сделанное Клинтоном на встрече с главами правительств стран Азии в 1993 году. Но термин «сообщество» применим к Азии лишь в весьма ограниченном смысле, ибо отношения в районе Тихого океана фундаментально отличаются от отношений в районе Атлантики. В то время как нации Европы объединены общими институтами, нации Азии рассматривают себя как отличные друг от друга и состязающиеся друг с другом. Отношения основных азиатских наций друг с другом обладают множеством атрибутов европейской системы равновесия сил XIX века. Любое значительное усиление одной из этих наций почти наверняка порождает ответный маневр со стороны других.
Непредсказуемой остается реакция Соединенных Штатов, которые обладают способностью — но не обязательно убежденностью — действовать в значительной степени точно так же, как действовала Великобритания, поддерживая европейское равновесие сил вплоть до двух мировых войн XX века. Стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие прочного фундамента под столь явственным его процветанием не закон природы, но следствие равновесия сил, на которое необходимо будет обращать все более пристальное и целенаправленное внимание в период по окончании «холодной войны».
Вильсонианство имеет мало последователей в Азии. Отсутствуют претензии по поводу создания системы коллективной безопасности или построения сотрудничества на фундаменте общности внутриполитических ценностей даже со стороны немногих имеющихся там демократических стран. Упор делается на поддержание равновесия сил и обеспечение национальных интересов. Во всех крупных азиатских странах растут .военные расходы. Китай уже находится на пути к статусу сверхдержавы. При темпах роста в размере 8 %, что ниже фактического в 80-е годы, показатель валового национального продукта в Китае приблизится к показателю Соединенных Штатов к концу второго десятилетия XXI века. Задолго до этого военно-политическая тень Китая падет на всю Азию и повлияет на расчеты других держав, какой бы сдержанной ни оказалась на деле китайская политика. Прочие азиатские нации, похоже, будут искать противовес все более могущественному Китаю, как они уже это делают применительно к Японии. Хотя страны Юго-Восточной Азии обязательно это заявление дезавуируют, но они уже включают до того наводивший на них ужас Вьетнам в свою группировку (АСЕАН) в основном для того, чтобы уравновесить могущество Китая и Японии. И именно поэтому АСЕАН стремится сохранять вовлеченность Соединенных Штатов вдела этого региона.
Япония непременно приспособится к этим меняющимся обстоятельствам, хотя, следуя национальному стилю, японские руководители произведут перемены посредством цепочки почти неприметных нюансов. Во время «холодной войны» Япония, отказавшись от исторически свойственной для нее опоры на самое себя, наслаждалась покоем под защитой Соединенных Штатов. Преисполненный решимости конкурент в экономическом плане, она оплачивала свободу маневра в экономической области подчинением своей внешней политики и своих мероприятий в области безопасности Вашингтону. Пока Советский Союз мог восприниматься как главная угроза безопасности обеих стран, имело смысл рассматривать американские и японские национальные интересы, как идентичные.
Такого рода подход вряд ли останется правомерным. В обстановке, когда Корея и Китай набирают военную силу, а наименее ослабленный контингент советских вооруженных сил находится в Сибири, японские специалисты по долгосрочному планированию не будут до бесконечности целиком и полностью априорно отождествлять американские и японские интересы. Каждая новая американская администрация начинает срок своего пребывания у власти заявлением о пересмотре существующей политики (или, по крайней мере, намеком на предстоящие перемены в этой области). Конфронтация по экономическим вопросам становится скорее правилом, чем исключением. В этих условиях трудно утверждать, что американская и японская внешняя политика ни в чем никогда не расходятся. В любом случае перспективы Японии по отношению к материковой Азии отличаются от американских в силу географической близости и исторического опыта. Поэтому японский оборонный бюджет ползет вверх и в итоге стал третьим в мире по размерам, а с учетом внутренних проблем России — вторым по эффективности.
Когда в 1992 году тогдашний японский премьер-министр Киичи Миядзава отвечал на вопрос, согласится ли Япония с наличием у Северной Кореи ядерных возможностей, он с весьма неяпонской прямотой прибег к одному-единственному слову «нет». Означало ли это, что Япония будет развивать собственные ядерные возможности? Или что она будет стремиться подавить северокорейские? Сам факт, что подобные вопросы задаются, наводит на мысль о том, что Япония, возможно, в какой-то мере освободится от якорей американской системы безопасности и внешней политики.
Гораздо более целенаправленный анализ положения в других крупных державах показал бы, до какой степени переменчивым и даже зыбким может стать соотношение сил в Азии. Политика Соединенных Штатов должна быть достаточно гибкой, чтобы оказывать влияние на все имеющиеся азиатские форумы. В какой-то степени это сейчас и происходит. Вспомогательная роль в АСЕАН (по Юго-Восточной Азии) и крупномасштабное участие в Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АПЕК) уже обеспечены.
Но и границы американского влияния на эти многосторонние институты тоже очевидны. Предложение Клинтона о большей институционализации тихоокеанского сообщества по европейской модели было воспринято с вежливой остраненностью, в основном потому, что нации Азии не рассматривают себя как сообщество. Они не желают создания институционалистских рамок, которые предоставили бы потенциальным азиатским сверхдержавам — или даже Соединенным Штатам — решающий голос в их делах. Нации Азии открыты обмену идеями с Америкой; они также приветствуют сохранение значительной степени вовлеченности Америки в свои дела, с тем чтобы в экстренных случаях Америка помогла бы ликвидировать угрозу их независимости. Но они слишком подозрительно относятся к могущественным соседям и, в какой-то мере, к самим Соединенным Штатам, чтобы приветствовать создание официальных, охватывающих всю тихоокеанскую зону институтов.
Способность Америки формировать события будет, следовательно, в итоге в первую очередь зависеть от двухсторонних отношений с крупнейшими странами Азии. Вот почему политика Америки по отношению как к Японии, так и к Китаю — на момент написания этой книги сильно погрязшая в противоречиях — приобретает столь критически важное значение. С одной стороны, роль Америки — ключевая в смысле оказания помощи Японии и Китаю сосуществовать, несмотря на взаимные подозрения. В недалеком будущем Япония, которая столкнется с проблемой постарения населения и стагнацией экономики, возможно, решит при помощи нажима утвердить свое технологическое и стратегическое превосходство, прежде чем Китай станет сверхдержавой, а Россия восстановит силы. Позднее она может обратиться к великому уравнителю — ядерной технологии.
Применительно к каждой из этих возможностей тесные японо-американские отношения явились бы жизненно важным вкладом в направлении сдержанности со стороны Японии и существенно важным фактором успокоения для других наций Азии. Японская военная мощь, привязанная к американской, беспокоит Китай и прочие нации Азии гораздо меньше, чем чисто национальные японские военные возможности. А Япония решит, что ей требуется меньшая военная мощь, пока существует американская защитная сеть, пусть даже более редкая, чем раньше. Потребуется значительное американское военное присутствие в Северо-Восточной Азии (Япония и Корея). В его отсутствие обязательства Америки играть постоянную роль в Азии лишатся опоры, а Япония и Китай подвергнутся все большим искушениям следовать национальному политическому курсу, который в итоге может столкнуть не только их, но и находящиеся между ними буферные государства.
Оживление и прояснение японо-американских отношений на базе параллельных геополитических интересов встретит на своем пути немалые препятствия. Экономические разногласия — вещь уже знакомая; препятствия культурного плана могут оказаться еще более коварными. Наиболее болезненно — а иногда даже безумно-обостренно — они проявляются при сопоставлении различного национального подхода к принятию решений. Америка решает, исходя из конституционных полномочий отдельных лиц: одно из высших должностных лиц, обычно президент, иногда государственный секретарь, избирает предпочтительный курс из набора имеющихся вариантов и делает это более или менее в силу занимаемого положения. Япония действует путем консенсуса. Ни одно отдельно взятое лицо — даже премьер-министр — не обладает полномочиями для принятия решения. Каждый, кто обязан будет выполнять решение, соучаствует в формировании консенсуса, который не считается достигнутым, пока не согласятся все.
Практически это гарантирует, что на встрече между американским президентом и японским премьер-министром существенные разногласия могут усугубляться непониманием. Когда американский президент выражает согласие, он заранее имеет в виду соответствующие действия; когда соглашается японский премьер-министр, он заявляет о своем отношении, что, по сути, означает всего-навсего то, что у него нет возражений по поводу американской позиции, что он ее понимает, а свое согласие передаст на рассмотрение соответствующей группы консенсуса. Он полагает, что это ясно и что собеседник осведомлен, что его полномочия простираются не далее этого. Для того чтобы переговоры относительно будущего Азии прошли с успехом, Америке следует запастись терпением, а Япония должна осознать необходимость осмысленного обсуждения долгосрочной политики, от которой в итоге зависит будущее сотрудничества.
Любопытно, что прочность японо-американских отношений явится оборотной стороной китайско-американских отношений. Несмотря на значительную близость к китайской культуре, Япония всегда разрывалась между восхищением и страхом, между желанием дружить и стремлением господствовать. Китайско-американская напряженность создаст для Японии искушение отойти от Соединенных Штатов в попытке если не усилить собственное влияние в Китае, то, по крайней мере, не ослабить его чересчур рьяным следованием Соединенным Штатам. Одновременно чисто национальный подход со стороны Японии рискует быть истолкован в Пекине как проявление японского стремления к преобладанию. Хорошие американские отношения с Китаем являются, таким образом, предпосылкой прочного союза с Японией, а также способствуют улучшению китайско-японских отношений. В этом треугольнике исчезновение каждой из сторон сопряжено с огромным риском. Он также чреват двусмысленностями, в обстановке которых Соединенные Штаты чувствуют себя неуютно, поскольку это противоречит американской тенденции навешивать на нации ярлыки либо друга, либо врага.,
Из всех великих и потенциально великих держав Китай в наибольшей степени находится на подъеме. Соединенные Штаты уже достигли могущества, Европе следует потрудиться, чтобы выковать прочное единство, Россия — это спотыкающийся гигант, а Япония богата, но пока что робка. Китай, однако, обладая ежегодными темпами экономического роста, приближающимися к десяти процентам, сильным чувством национального единства и еще более могучими военными мускулами, демонстрирует гораздо больший относительный рост статуса среди великих держав. В 1943 году Рузвельт представлял себе Китай одним из «четырех полицейских», но Китай вскоре после этого погряз в пучине гражданской войны. Появившийся в результате этого маоистский Китай намеревался стать независимой великой державой, но отбрасывался назад, сдерживаемый идеологическими шорами. Избавившись от идеологического фанатизма, китайские руководители-реформаторы стали отстаивать свои национальные интересы умело и решительно. Политика конфронтации с Китаем несла в себе риск изоляции Америки в Азии. Ни одна азиатская страна не захотела бы — и не смогла бы себе позволить — опираться на Америку в любом политическом конфликте с Китаем, считая этот конфликт результатом неверной политики Соединенных Штатов. При подобных обстоятельствах подавляющее большинство азиатских наций в большей или меньшей степени отъединилось бы от Америки, как бы им внутренне это ни было антипатично. Ибо почти каждая из стран смотрит на Америку в надежде создания ею стабильной, долгосрочной конструкции, интегрирующей как Китай, так и Японию, — а такого рода вариант исключается применительно к обеим странам при наличии китайско-американского конфликта.
Будучи страной с наиболее продолжительной историей ведения независимой внешней политики и традицией основывать свою внешнюю политику на принципах национальных интересов, Китай приветствует вовлечение Америки в дела Азии в качестве противовеса внушающим опасность соседям — Японии и России, а также — в меньшей степени — Индии. И все же американская политика, ставящая перед собой цель обеспечить дружественное отношение одновременно с Пекином и со странами, воспринимаемыми Пекином как потенциально опасные для Китая, — что и представляет собою правильный подход со стороны США — требует проведения продуманного и регулярного диалога между Вашингтоном и Пекином.
В течение четырех лет после событий на площади Тяньаньмынь в 1989 году на этот диалог легла тень американского отказа осуществлять контакты на высоком уровне — такую меру никогда не применяли по отношению к Советскому Союзу даже в разгар «холодной войны». В центре китайско-американских отношений оказался вопрос прав человека.
Администрация Клинтона мудро восстановила контакты на высоком уровне; будущее китайско-американских отношений отныне существенным образом зависит от содержания подобных обменов. Ясно, что Соединенные Штаты не могут отказаться от традиционной озабоченности проблемами прав человека и демократических ценностей. Вопрос заключается не в том, будет ли Америка защищать эти ценности, а в том, в какой степени будут им подчинены все аспекты китайско-американских отношений. Китай считает для себя унизительным намек на то, что китайско-американские отношения базируются не на взаимном совпадении интересов, но на любезности со стороны Америки, которая может быть то проявлена, то отозвана по усмотрению Вашингтона. Такого рода отношение делает Америку как ненадежной, так и назойливой, а то и другое —весьма крупные пороки на взгляд китайцев. У Китая, страны, исторически господствовавшей в своем регионе, точнее, в известном ей мире, любая попытка навязать со стороны свои институты и внутреннюю политику вызовет глубочайшее отвращение. Эта чувствительность в целом усугубляется китайским представлением о роли Запада в его истории. Со времен опиумных войн начала девятнадцатого столетия, принудительно открывших страну для иностранцев, Запад рассматривался китайцами как источник бесконечной серии унижений. Равенство статуса, настоятельная жесткость политики неподчинения иностранным предписаниям является для китайских руководителей не элементом тактики, но моральным императивом.
То, что Китай жаждет получить от Соединенных Штатов, — это стратегические взаимоотношения, уравновешивающие силы соседей, которых он считает одновременно могущественными и завистливыми; Чтобы достичь подобного уровня координации внешней политики, Китай готов пойти на уступки в области прав человека, но при условии, что они будут обставлены так, словно проистекают из его свободного выбора. Однако настойчивость Америки в отношении публично предписываемых условий воспринимается в Китае и как попытка преобразовать его общество по мерке американских ценностей — и, следовательно, унижение, — и как отсутствие серьезности со стороны Америки. Ибо это будто бы предполагает, что у Америки отсутствуют национальные интересы применительно к сохранению равновесия сил в Азии. Но если на Америку в этом смысле нельзя рассчитывать, то Китай не будет заинтересован делать ей уступки. Ключом к китайско-американским отношениям — парадоксально, но даже по вопросам прав человека — является молчаливое сотрудничество по вопросам глобальной, особенно азиатской, стратегии.
Применительно к Европе Америка имеет общие с нею ценности, но до сих пор оказалась неспособна разработать общую с ней политику или соответствующие институты на период после окончания «холодной войны»; применительно к Азии Америка в состоянии определить желаемую общую стратегию, но не общность ценностей. Однако совершенно неожиданно в Западном полушарии прорисовывается совпадение моральных и геополитических целей, слияние принципов вильсонианства и «Realpolitik».
На ранних этапах политика Соединенных Штатов в Западном полушарии представляла собой, по сути, пример интервенционизма великой державы. Провозглашенная в 1933 году Франклином Рузвельтом «политика доброго соседа» ознаменовала поворот в сторону сотрудничества. «Договор Рио» 1947 года и «Боготинский пакт» 1948 года до известной степени укрепили безопасность, институтом которой стала Организация американских государств. Объявленный президентом Кеннеди в 1961 году «Союз ради прогресса» привнес элемент помощи иностранным государствам и экономического сотрудничества, хотя эта дальновидная политика была обречена из-за пассивной ориентации реципиентов.
Во времена «холодной войны» большинство наций Латинской Америки управлялось авторитарными, в основном военными, правительствами, приверженными принципу государственного контроля над экономикой. Но с середины 80-х годов, Латинская Америка вышла из экономического паралича и с похвальным единодушием двинулась к демократии и рыночной экономике. В Бразилии, Аргентине и Чили военных сменили демократические правительства. В Центральной Америке покончили с гражданскими войнами. Обанкротившаяся из-за бездумного заимствования, Латинская Америка подчинила себя финансовой дисциплине. Почти везде находящаяся под контролем государства экономика постепенно поддалась воздействию рыночных сил.
«Предприятие американской инициативы», провозглашенное Бушем в 1990 году, и битва за Североамериканское соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой, успешно завершенная Клинтоном в 1993 году, знаменуют собой самую новаторскую за всю историю американскую политику по отношению к Латинской Америке. После ряда взлетов и падений Западное полушарие, похоже, вот-вот станет ключевым элементом нового и гуманного глобального порядка. Группировка демократических наций заявила о своей преданности делу народного правления, рыночной экономики и свободы торговли на всем пространстве полушария. Единственной марксистской диктатурой, все еще остающейся в Западном полушарии, является Куба; во всех остальных местах националистические, протекционистские методы управления экономикой заменяются экономикой свободной, гостеприимно относящейся к иностранным капиталовложениям и оказывающей поддержку открытым международным системам торговли. С упором на взаимность обязательств и совместные действия, окончательной и возвышенной целью является создание пространства свободной торговли от Аляски до мыса Горн — подобная концепция еще совсем недавно была бы сочтена безнадежно утопичной.
Система свободной торговли, охватывающая все Западное полушарие, первым шагом к созданию которой послужило Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), придаст обеим Америкам командную роль независимо ни от чего. Если на деле будут реализованы принципы Уругвайского раунда Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ), по которым велись переговоры в 1993 году, Западное полушарие станет могучей составляющей глобального экономического роста. Если будут преобладать дискриминационные региональные группировки, Западное полушарие с его обширным рынком будет в состоянии успешно конкурировать с прочими региональными торговыми блоками; на деле НАФТА является наиболее эффективным средством предотвратить подобное состязание или выстоять в нем, коль скоро оно проявится. Предлагая ассоциированное членство нациям, находящимся за пределами Западного полушария, если те готовы соблюдать его принципы, НАФТА в расширенном составе способен создать стимулы следованию свободной торговле и применять санкции по отношению к странам, настаивающим на более ограничительных правилах. В мире, где Америка зачастую вынуждена изыскивать равновесие между своими ценностями и практическими нуждами, она обнаружила, что американские идеалы и геополитические задачи в значительной степени восторжествовали в Западном полушарии, где зародились ее чаяния и где проявились ее первые крупные внешнеполитические инициативы.
Посвятив себя в третий раз за нынешнее столетие созданию нового мирового порядка, Америка встала перед основной своей задачей — найти равновесие между двумя искушениями, одновременно являющимися составной частью ее исключительности: понятием, будто бы Америка должна устранять любое зло и стабилизировать любое нарушение равновесия, и врожденным инстинктом замыкаться в себе. Безграничное вовлечение во все этнические беспорядки и гражданские войны в период по окончании «холодной войны» истощит вставшую на путь крестового похода Америку, а Америка, ограничивающаяся совершенствованием своих собственных добродетелей, в конце концов подчинит свою безопасность и процветание решениям, принимаемым иными сообществами в отдалении от нее, над которыми Америка постепенно утеряет контроль.
Когда в 1821 году Джон Квинси Адаме предостерегал Америку от схваток с чудовищами в дальних странах, он даже не мог себе представить, какое количество гигантских чудовищ разведется в нашем мире, мире по окончании «холодной войны». Не всякое зло может быть поражено Америкой, тем более в одиночку. Но некоторые из чудовищ должны быть если не поражены, то по меньшей мере отражены. И здесь более всего требуется критерий отбора.
Американские руководители обычно отдавали предпочтение мотивации, а не структурным факторам. Им было важнее воздействовать на поведение, чем на расчеты своих оппонентов. В результате этого американское общество отличается весьма двойственным отношением к урокам истории. Американские фильмы часто изображают (иногда весьма назойливо), как какое-либо драматическое событие делает из злодея образчик добродетелей — это представляет собой отражение преобладающего у нации мнения, будто прошлое не играет определяющей роли и всегда можно начать сначала. В реальном мире такого рода превращения редко можно встретить у отдельных людей, а еще реже среди наций, которые представляют собой множество личностных выборов.
Абстрагирование от истории выводит на авансцену прославляемый образ универсального человека, живущего по универсальным законам и не зависящего от прошлого, от географии или от прочих непреложных обстоятельств. А поскольку американская традиция скорее делает упор на универсальные истины, а не на национальные характеристики, американские политики обычно предпочитают многосторонний подход национальному: проблемы разоружения, нераспространения ядерного оружия и прав человека берут верх над сугубо национальными, геополитическими или стратегическими задачами.
Американское нежелание связывать себя историей и настоятельное утверждение возможности перерождения отражают гигантское достоинство и даже красоту американского образа жизни. Страх нации перед тем, что, одержимые историей, сами напророчат себе то, чего они боятся, опирается на великую народную мудрость. И все же изречение Сантаяны, гласящее, что тот, кто пренебрегает историей, обречен ее повторять, может быть подкреплено еще большим числом примеров.
Страна идеалистических традиций, подобная Америке, не может основывать свою политику на принципе равновесия сил как на единственном критерии нового мирового порядка. Но ей надлежит усвоить, что наличие равновесия является основополагающей предпосылкой достижения исторических целей. И эти цели более высокого порядка не могут быть достигнуты риторикой или бездоказательным постулированием. Рождающаяся международная система намного сложнее любой из тех, с которыми прежде сталкивалась американская дипломатия. Внешняя политика должна проволиться такой политической системой, которая обращает внимание на сиюминутное и обеспечивает ряд стимулов на продолжительный срок. Ее руководители вынуждены иметь дело с обстоятельствами, предопределяющими тенденцию получения информации посредством визуальных образов. Все это придает особую значимость эмоциональному характеру восприятия событий и настроений момента, ибо время требует переосмысления приоритетов и анализа собственных возможностей.
По правде говоря, «Realpolitik» — это не панацея. Равновесие сил достигло зенита за сорок лет, прошедших после наполеоновских войн. Оно беспрепятственно действовало на протяжении этого периода потому, что соотношение сил было преднамеренно запланировано, чтобы обеспечить равновесие, и, что самое главное, оно подкреплялось ощущением общности ценностей, по крайней мере, среди консервативных дворов. После Крымской войны это ощущение общности ценностей постепенно исчезало, а вопросы, возводимые к условиям XVIII века, превращались во все более опасные, вследствие наличия современной технологии и роста роли общественного мнения. Даже деспотические государства могли апеллировать к широкой публике, пользуясь, как заклинанием, иноземной опасностью, и тем самым угроза извне подменяла демократический консенсус. Национальная консолидация государств Европы сокращала число актеров на международной сцене и возможности подменять дипломатическими комбинациями демонстрацию силы, в то время как разрушение легитимистской общности стирало моральные ограничения.
Несмотря на историческую неприязнь Америки к понятию равновесия сил, эти уроки имеют самое прямое отношение к американской внешней политике периода после окончания «холодной войны». Впервые в истории Америка становится частью международной системы, будучи самой сильной ее страной. Несмотря на то, что Америка является сверхдержавой в военном отношении, она более не может навязывать свою волю, ибо ни ее мощь, ни ее идеология не оставляют места имперским амбициям. А ядерное оружие, обеспечивающее американское военное преобладание, имеет тенденцию уравнивать применяемую мощь.
Поэтому Соединенные Штаты во все большей степени оказываются в таком мире, который по множеству параметров обладает сходством с Европой XIX века, пусть даже в глобальном масштабе. Можно лишь надеяться, что появится нечто, подобное системе Меттерниха, где равновесие сил подкреплялось общностью ценностей. А в современную эпоху эти ценности обязаны быть демократическими.
И все же Меттерниху не надо было специально создавать свой легитимный порядок; он, по сути, уже наличествовал. В современном мире демократия — вещь далеко не универсальная, и там, где она провозглашается, она не обязательно выражается в сопоставимых терминах. Для Соединенных Штатов представляется разумным подкрепить равновесие сил моральным консенсусом. Чтобы остаться верной себе, Америка должна попытаться выковать максимально широкий моральный консенсус, базирующийся на глобальной приверженности демократии. Но ей ни в коем случае не следует пренебрегать анализом соотношения сил. Ибо призыв к моральному консенсусу вводит в заблуждение, когда разрушает равновесие сил.
Если вильсонианская система, основанная на принципе легитимности, невозможна, Америка должна научиться действовать в рамках системы равновесия сил, каким бы неестественным ей ни казался этот курс. В XIX веке существовало две модели системы равновесия сил: британская модель, характеризующаяся подходом Пальмерстона — Дизраэли; и бисмарковская модель. Британский подход заключался в том, чтобы выжидать, пока не появится прямая угроза существующему равновесию сил, и лишь потом связывать себя обязательствами, причем почти непременно по отношению к более слабой стороне; подход Бисмарка сводился к поискам способов предотвращения появления вызова как такового посредством установления близких отношений с максимально возможным числом сторон путем создания накладывающихся друг на друга систем союзов и путем использования появляющегося в результате этого влияния для сдерживания претензий соперников.
Как ни странно это может показаться с учетом американского опыта общения с Германией на протяжении двух мировых войн, бисмарковский стиль регулирования равновесия сил, возможно, наиболее соответствует традиционному американскому подходу к международным делам. Метод Пальмерстона — Дизраэли потребует дисциплинированного ухода в сторону от споров и безжалостной приверженности сохранению равновесия сил перед лицом угроз. Как споры, так и угрозы должны оцениваться почти исключительно в рамках равновесия сил. Америка сочтет для себя весьма затруднительным придерживаться как остраненности, так и безжалостности, не говоря уже о готовности трактовать международные дела исключительно с точки зрения соотношения сил.
Более поздняя политика Бисмарка была направлена на превентивное Ограничение силы посредством консенсуса в отношении общности целей, стоящих перед отдельными группировками стран. Во взаимозависимом мире для Америки будет затруднительно воплощать на практике британскую «блестящую изоляцию». Но столь же маловероятно, что она окажется в состоянии разработать всеобъемлющую систему безопасности, равно применимую для всех частей земного шара. Наиболее продуктивным решением было бы создание накладывающихся друг на друга структур, частично используя общность политических и экономических принципов, как в Западном полушарии; частично сочетая общность принципов и соображения безопасности, как в районе Атлантики и Северо-Восточной Азии; все прочее держалось бы на связях экономического характера, как во взаимоотношениях с Юго-Восточной Азией.
В любом случае для истории масштабность стоящей задачи не может служить оправданием поражения. Америка должна навсегда распроститься с тем временем, когда все варианты выбора казались открытыми и когда она, трезво оценив свои возможности, могла осуществить то, что было не под силу любому другому обществу. На протяжении большей части собственной истории Америка не знала иностранной угрозы собственному выживанию. Когда такая угроза наконец появилась в период «холодной войны», она была полностью сведена на нет. Таким образом, американский опыт подкрепил уверенность в том, что Америка, единственная из наций мира, к угрозам невосприимчива и может выстоять, лишь будучи живым примером моральных достоинств и добрых дел.
В мире по окончании «холодной войны» такого рода отношение может обратить чистоту помыслов в потворство собственным желаниям. В то же время, когда Америка не в состоянии ни господствовать над миром, ни отстраниться от него, когда она оказывается одновременно всемогущей и полностью уязвимой, она никоим образом не может отказываться от идеалов, которые обеспечили ей величие. Но она не должна ставить под угрозу собственное величие, питая иллюзии относительно пределов своих возможностей. Мировое лидерство есть неотъемлемая часть могущества и моральных ценностей Америки, но оно не включает в себя привилегию делать вид, будто Америка оказывает любезность другим нациям, вступая с ними в союз, или обладает неограниченной возможностью навязать свою волю, лишая их своей благосклонности. Для Америки любое применение принципов «Realpolitik» необходимо сочетать с учетом первозданных ценностей первого в истории общества, специально созданного во имя свободы. И все же выживание и прогресс Америки будут также зависеть от ее способности делать выбор, отражающий современную ей реальность. Иначе внешняя политика превратится в самодовольное произнесение прописных истин. Относительный вес каждого из этих компонентов и цена, связанная с каждым из этих приоритетов, определяются и характером вызова, и масштабностью политических лидеров. Но чего ни один лидер не имеет права делать, так это заявлять, будто выбор не имеет цены или равновесие не нужно поддерживать.
Двигаясь по пути к мировому порядку в третий раз за современную эпоху, американский идеализм сохраняет столь же важное значение, как и всегда, а может быть, обретает значительно большее. Но в условиях нового мирового порядка его роль сведется к тому, чтобы обеспечивать веру, позволяющую Америке пройти через все сомнения выбора в несовершенном мире. Традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий, чтобы выработалось применимое на практике определение американских интересов. В прошлом усилия в области американской внешней политики вдохновлялись утопическими представлениями о некоем конечном пункте, по достижении которого изначальная мировая гармония будет просто воспроизводиться и самоутверждаться.
Но ныне такого рода финалы малоперспективны; воплощение американских идеалов будет идти путем терпеливого накопления частных успехов. Реальность физической угрозы и враждебной идеологии, характерных для времен «холодной войны», исчезла. Убежденность, требующаяся, чтобы управлять нарождающимся мировым порядком, носит более абстрактный характер: представление о будущем, которое не имеет наглядного облика в момент его формирования, и суждение о взаимоотношениях между надеждой и возможностью, которое по сути своей лишь предположительно. Вильсонианские цели Америки прошлого: мир, стабильность, прогресс и свобода для всего человечества — должны будут достигаться в процессе пути, которому нет конца. «Путник, дорог не существует, — гласит испанская пословица. — Дороги творит идущий».






