Дипломатия Киссинджер Генри
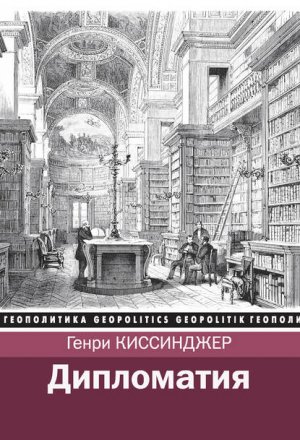
Берлинский кризис, кульминацией которого был Кубинский ракетный кризис, явился поворотным пунктом в «холодной войне», хотя тогда этого не осознавали. Если бы демократические страны не были столь сильно поглощены спорами между собой, они смогли бы истолковать Берлинский кризис, проникнув в его суть, а именно, как демонстрацию изначальной советской слабости. В конце концов Хрущев вынужден был смириться с существованием западного аванпоста в глубине советской территории, так и не сумев достичь ни одной из целей, о которых протрубил, вызвав кризис. Таким образом, вновь подтвердилось разделение Европы на два блока, как это было в период венгерской революции 19S6 года. Обе стороны могли печалиться по поводу подобного положения вещей, но ни одна не пыталась изменить его силой.
Совокупный результат неудач хрущевских инициатив по Берлину и Кубе заключался в том, что Советский Союз более ни разу не рискнул бросить прямой вызов Соединенным Штатам, разве что в период короткой вспышки на Ближнем Востоке войны 1973 года. Хотя у Советов накопилась значительная мощь ракет дальнего радиуса действия, Кремль не считал этого количества достаточным, чтобы напрямую угрожать уже установившимся американским правам. Вместо этого советское военное давление уходило в сторону поддержки так называемых войн за национальное освобождение в таких районах развивающегося мира, как Ангола, Эфиопия, Афганистан и Никарагуа.
В течение десятилетия Советы не делали более попыток помешать доступу в Берлин, который продолжался согласно установленной процедуре. Постепенно был признан восточногерманский режим, причем это было решение Западной Германии, поддержанное всеми крупными партиями страны, а не инициатива, навязанная Соединенными Штатами. Со временем союзники, воспользовавшись стремлением Советов к признанию ими Восточной Германии, настояли, как на обязательном предварительном условии, на том, чтобы Советский Союз строжайшим образом обеспечил точнейшее выполнение процедуры доступа в Берлин и подтвердил его четырехсторонний статус. Советы официально приняли все эти условия и подписали Четырехстороннее соглашение 1971 года. Более не было никаких вызовов в отношении Берлина или путей доступа в город, а в 1989 году была снесена стена, и вслед за этим произошло объединение Германии. Политика «сдерживания» все-таки сработала.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Концепции западного единства: Макмиллан, де Голль, Эйзенхауэр и Кеннеди
Берлинский кризис обозначил окончательное оформление двух сфер влияния, которые в течение почти двух десятилетий сходились впритык на разграничительной линии, разделившей Европейский континент. В течение первой фазы процесса, с 1945 по 1948 год, Сталин заложил основы советской сферы влияния, превратив страны Восточной Европы в государства-сателлиты и, соответственно, угрожая Западной Европе. Во время второй фазы, с 1949 по 1956 год, демократии отреагировали тем, что создали НАТО, консолидировали свои оккупационные зоны в Федеративную Республику и начали процесс западноевропейской интеграции.
В продолжение периода консолидации каждым лагерем периодически делались попытки нарушить границы сфер влияния друг друга — в свою, понятно, пользу. Все эти планы потерпели неудачу. Сталинская «мирная нота» 1952 года, целью которой было выманить Федеративную Республику из западного лагеря, повисла в воздухе — отчасти из-за смерти Сталина. Бессодержательность даллесовской стратегии «освобождения» Восточной Европы была наглядно продемонстрирована во время неудачного Венгерского восстания 1956 года. Хрущевский берлинский ультиматум 1958 года представлял собой еще одну попытку отделить Федеративную Республику от Запада. Но в итоге Советы вынуждены были довольствоваться тем, что окончательно прибрали к рукам восточногерманского сателлита. А после Кубинского ракетного кризиса Советы сконцентрировали свои усилия на проникновении в мир развивающихся стран. Результатом стала биополярная стабильность в Европе, парадоксальный характер которой был резюмирован в 1958 году великим французским философом и ученым-политологом Раймоном Ароном:
«Нынешняя ситуация в Европе ненормальна, а то и абсурдна. Зато она имеет четкий облик, причем все знают, где проходит демаркационная линия, и никто особенно не боится того, что может произойти. Если что-нибудь случится по ту сторону „железного занавеса" — а мы уже испытали подобный опыт год назад, — на этой стороне не произойдет ничего. Таким образом, четкое разделение Европы воспринимается, независимо от истины, как менее опасное, чем какое бы то ни было иное устройство»[820].
Именно эта стабильность и позволила латентным разногласиям внутри так называемого Атлантического сообщества всплыть на поверхность. Сразу же по окончании Берлинского кризиса Макмиллан в Великобритании, де Голль во Франции и Кеннеди в Соединенных Штатах вынуждены были примирить друг с другом свои столь несхожие планы и прогнозы по поводу будущего характера сообщества, роли ядерных вооружений и перспектив для Европы.
Макмиллан был первым британским премьер-министром, четко осознавшим ту болезненную реальность, что его страна более не является мировой державой. Черчилль имел дело с Америкой и Советским Союзом на равных. Несмотря на то, что его поведение не отражало истинного соотношения сил, Черчилль благодаря своей гениальности и способности возглавить героические усилия Великобритании в годы войны сумел заполнить брешь между возвышенными мечтаниями и действительностью. Когда Черчилль настаивал на проведении переговоров с Москвой непосредственно по окончании войны, будучи лидером оппозиции, и вновь после смерти Сталина в 1953 году, став опять премьер-министром, то выступал от имени великой державы, которая пусть и не стояла в самых первых рядах, но тем не менее была способна повлиять на расчеты других. На протяжении Суэцкого кризиса Иден все еще вел себя так, как глава правительства в достаточной мере автономной великой державы, способной на односторонние действия. Но к тому моменту, когда Макмиллан очутился перед лицом Берлинского кризиса, иллюзию, будто Великобритания может сама по себе менять стратегические расчеты сверхдержав, поддерживать более было уже невозможно.
Элегантный, светски-изысканный скептик Макмиллан представлял собой последнего из тори прежних времен, он был продуктом эпохи короля Эдуарда, когда Великобритания была доминирующей державой мира, а «Юнион Джек» развевался буквально в каждом уголке земного шара. Несмотря на то, что Макмиллан обладал весьма нелицеприятным чувством юмора, в его облике присутствовала какая-то меланхолия, неотделимая от необходимости соучаствовать в неуклонном падении роли Англии, начиная с болезненного опыта первой мировой войны, испытанного, когда страна находилась еще в зените славы. Макмиллан имел обыкновение трогательно вспоминать встречу четверых уцелевших из его класса в колледже Крайстчерч Оксфордского университета. Во время забастовки работников угольной промышленности в 1984 году Макмиллан, уже двадцать лет как отошедший от дел, говорил мне, что, хотя он в высшей степени уважает миссис Тэтчер и понимает, чего она добивается, он никогда не был бы в состоянии вести войну до победного конца с сыновьями людей, которых он вынужден был посылать в горнило первой мировой войны и которые проявили чудеса самопожертвования.
Макмиллана в дом номер десять по Даунинг-стрит вознес позор Суэца, события, послужившего отправной точкой падения глобальной роли его страны. Он играл свою партию щегольски, но не без определенной неохоты. Как бывший канцлер казначейства, Макмиллан великолепно знал, что экономика Великобритании идет к упадку, а военная роль страны несопоставима с огромными ядерными арсеналами сверхдержав. Первое предложение о вступлении в «Общий рынок» Великобритания отвергла. Когда Чемберлен назвал в 1938 году Чехословакию маленькой, отдаленной страной, о которой британцы почти ничего не знали, это было нормальным парадоксом; держава, ведшая в течение полутора столетий колониальные войны на другом конце света, взирала на кризисы в Европе в нескольких сотнях миль от себя, как на нечто, весьма далекое.
Но к концу 50-х годов Великобритания больше не могла взирать на Европу с почтительного расстояния и видеть в ней лишь место, куда время от времени направлялись британские вооруженные силы, чтобы избавиться от очередного потенциального тирана. Макмиллан отказался от позиции стороннего наблюдателя и обратился с просьбой о принятии Великобритании в члены Европейского экономического сообщества. И все же, несмотря на суэцкое поражение, главной заботой его оставалось сохранение и упрочение «особых отношений» Великобритании с Соединенными Штатами.
Великобритания не воспринимала себя как исключительно европейская держава. В конце концов; в Европе чаще всего зарождались угрожавшие ей опасности, а спасение приходило с того берега Атлантического океана. Макмиллан не признавал воззрений голлистов, будто бы европейская безопасность становится надежнее по мере дистанцирования от Соединенных Штатов. Когда все уже было сказано и сделано, Великобритания была, по меньшей мере, готова точно так же воевать за Берлин, как и Франция, хотя мотивом была бы не защита весьма зыбкой концепции оккупационных прав союзников, а поддержка Америки в силу истинности ее точки зрения о наличии угрозы глобальному равновесию сил.
После Суэца Франция и Великобритания сделали диаметрально противоположные выводы из перенесенного ими унижения со стороны Америки. Франция ускорила обретение независимости; Великобритания выбрала укрепление партнерских отношений с Америкой. Раздумья о возможности англо-американского партнерства, по правде говоря, относятся еще к периоду, предшествовавшему второй мировой войне, и с тех пор находили благодатную почву. Еще в 1935 году премьер-министр Стэнли Болдуин обрисовал их следующим образом, выступая в Альберт-холле:
«Я всегда полагал, что наибольшая безопасность в случае войны в любой части света, будь то в Европе, на Востоке или где-либо еще, обеспечивалась бы тесным сотрудничеством Британской империи и Соединенных Штатов Америки... Пока не будет достигнута желанная цель, может пройти сотня лет; а может быть, все это так и останется чем-то недостижимым. Но иногда мы предаемся своим мечтам. Я вглядываюсь в будущее и вижу, как возникает союз сил мира и справедливости, и я не могу не думать, что в один прекрасный день, пусть даже сегодня подобное еще нельзя пропагандировать открыто, настанет время, когда те, кто будут жить после нас, возможно, увидят это...»[821]
Для того, чтобы мечта Стэнли Болдуина стала былью, сотни лет не понадобилось. Начиная со второй мировой войны Великобритания и Соединенные Штаты были связаны общей нуждой, даже если эта нужда прошла через фильтры различного исторического опыта.
Важнейшим фактором, позволившим выковать столь прочную связь между двумя нациями, была исключительная способность Великобритании приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Быть может, как подчеркивал Дин Ачесон, Великобритания слишком долго цеплялась за имперскую иллюзию и не могла определить для себя соответствующей времени роли внутри Европы[822]. С другой стороны, в своих взаимоотношениях с Вашингтоном Великобритания демонстрировала практически повседневно, что, какой бы старой страной она ни была, по поводу фундаментальных проблем она не обманывалась. Трезво рассчитав, что она не может более надеяться формировать американскую политику традиционными методами уравновешивания выгод и рисков, британские лидеры предпочли — особенно после Суэца — вымостить иной путь к расширению собственного влияния. Британские лидеры, принадлежащие к обеим партиям, сумели сделать себя до такой степени незаменимыми как элемент процесса принятия Америкой решений, что президенты и их окружение стали рассматривать консультации с Лондоном не как особое снисхождение по отношению к более слабому союзнику, а как жизненно важный компонент осуществления ими функций управления.
Это, однако, вовсе не означало, что Великобритания соглашалась с американскими философскими воззрениями по поводу международных отношений. Британцы никогда не разделяли американской точки зрения на человека как на совершенное творение и вовсе не предавались пропаганде моральных абсолютов. С философской точки зрения, британские лидеры, как правило, придерживались взглядов Гоббса. Ожидая от человека худшего, они редко бывали разочарованы. В международной политике Великобритания все время имела тенденцию применять на практике удобную для себя форму этического эгоизма: что хорошо для Великобритании, считалось хорошим и для всего остального мира.
Для того чтобы проводить в жизнь подобную концепцию, нужна была значительная доля самоуверенности, не говоря уже о врожденном чувстве превосходства. Когда в XIX веке один французский дипломат заявил британскому премьер-министру Пальмерстону. что тот в последний момент дипломатической игры вынимает карту из рукава, отважный англичанин ответил: «Карты туда положил Господь». И все же Великобритания претворяла национальный эгоизм в жизнь с таким интуитивным чувством умеренности, что часто возникало ощущение, будто она и впрямь является носителем всеобщего добра.
Именно при Макмиллане завершился переход Великобритании от могущества к влиянию. Он решил ввести британскую политику в русло американской политики и расширить для Великобритании рамки выбора, умело строя отношения с Вашингтоном. Макмиллан никогда не спорил по философским или концептуальным вопросам и редко бросал открытый вызов ключевым направлениям американской политики. Он с готовностью уступал Вашингтону центральное место на сцене, но зато стремился влиять на ход драмы из-за кулис. Де Голль часто вел себя довольно вызывающе, и игнорировать его становилось весьма болезненно; Макмиллан же сделал для Соединенных Штатов процесс выяснения мнений Великобритании столь легким, что игнорировать его было бы просто неприличным.
Тактика Макмиллана в период Берлинского кризиса включала в себя и этот подход. Доступ в Берлин не стоил для него ядерной катастрофы. С другой стороны, риск потери связей с Америкой оказался бы еще большим проклятием. Он встал бы плечом к плечу с Америкой даже в случае ядерного противостояния, чего большинство союзников явно не могли бы гарантировать. Однако прежде чем пришлось бы сделать окончательный выбор, Макмиллан был преисполнен решимости выявить все имеющиеся в наличии альтернативы. Претворив необходимость в достоинство, он принял на себя роль главного на Западе глашатая мира, стал сдерживать чересчур поспешные американские действия, демонстрируя британской публике, что «ее лидеры не пожалели усилий, чтобы достигнуть взаимопонимания и договоренности»[823].
Средство превратилось в самоцель. Макмиллан был в достаточной степени уверен в собственной ловкости и попытался вырвать жало у советского вызова путем вовлечения предъявившей требования стороны в умело организованные переговоры. Образ мыслей Макмиллана подсказывал ему, что сам по себе дипломатический процесс может послужить обезвреживанию содержащихся в хрущевском ультиматуме угроз посредством смены одной серии не приведших к окончательному итогу встреч последующей их серией, позволяющей отодвинуть любые крайние сроки, назначенные нетерпеливым советским лидером.
К крайнему неудовольствию Аденауэра, Макмиллан предпринял одиннадцатидневную поездку в Советский Союз в феврале — марте 1959 года, даже несмотря на то, что к этому моменту Хрущев уже отодвигал несколько раз крайний срок своего ультиматума. Макмиллан не добился ничего существенного, зато Хрущев воспользовался его приездом, чтобы повторить изначальные угрозы. Тем не менее премьер-министр неутомимо и целенаправленно добивался установления графика проведения серии совещаний в качестве наиболее практичного средства обхода установленных Хрущевым крайних сроков. Он вспоминает в своих мемуарах:
«Я стремился претворить в жизнь концепцию серии встреч, последовательно переходящих от рассмотрения одного пункта к рассмотрению другого пункта, чтобы „мирное сосуществование" (пользуясь жаргоном того времени) — если не мир как таковой — безраздельно царствовало в мире»[824].
Однако когда переговоры становятся самоцелью, то отдаются на милость той стороны, которая в наибольшей степени готова их прервать, а точнее, той стороны, которая способна создать подобное впечатление. Именно таким образом Хрущев оказался в состоянии определять, что конкретно может «быть предметом переговоров». Желая не прекращать диалога, Макмиллан проявлял чудеса изобретательности, умело выискивая в советской повестке дня темы, которыми можно было бы относительно безопасно заниматься. На следующий день после получения официальной хрущевской ноты по Берлину от 27 ноября 1958 года Макмиллан писал своему министру иностранных дел Селвину Ллойду: «Мы не сумеем избежать переговоров. Как их следует вести? Обязательно ли они сосредоточатся на вопросах будущего объединенной Германии и, быть может, „плане разъединения"?»[825]
Общей чертой различных планов разъединения было установление зон ограничения вооружений в Центральной Европе, куда по определению входили Германия, Польша и Чехословакия, и вывод из этих стран ядерного оружия. Для Макмиллана и в меньшей степени для американских руководителей размещение такого оружия носило в первую очередь символический характер. Поскольку в основе ядерной стратегии лежало положение об использовании американского ядерного арсенала (подавляющая часть которого располагалась вне Европейского континента), обсуждение плана разъединения сил с Советами представлялось для Макмиллана относительно безобидным способом выигрыша времени.
Аденауэр выступал против любой из этих схем, поскольку стоило вывести ядерное оружие из Германии, как оно вернулось бы в Америку, и тем самым разрывалось бы, по мнению Аденауэра, критически важное политическое звено ядерной обороны между Европой и Америкой. Его доводы — или, по крайней мере, доводы его экспертов по вопросам обороны — сводились к тому, что, пока ядерное оружие размещено на немецкой земле, Советский Союз не рискнет напасть на Центральную Европу; ведь для этого потребуется ядерная атака, на которую американский ответный удар последовал бы автоматически.
А вот если бы американское ядерное оружие было вывезено в Америку, это открывало бы возможность нападения на Германию при помощи классического оружия. И Аденауэр не был уверен, ответят ли американские руководители в таком случае ядерной войной в свете возможных опустошений в собственной стране. И проверка переговорных возможностей становилась применительно к Берлину суррогатом непрекращающихся дебатов относительно военной стратегии Атлантического союза.
Стоило как Макмиллану, так и Эйзенхауэру единолично предпринять какую-либо политическую инициативу, как реакция партнера часто становилась наглядной иллюстрацией того, что государственным деятелям тщеславие никогда не было чуждо. Хотя они оба были настоящими друзьями, но в начале 1959 года Эйзенхауэр был раздражен вылазкой Макмиллана в Москву; а осенью того же года Макмиллан точно с цепи сорвался, когда узнал, что Эйзенхауэр пригласил Хрущева в Кемп-Дэвид:
«Президент, ранее связавший себе руки доктриной „никакой встречи на высшем уровне, если не будет прогресса на встрече министров иностранных дел", теперь, похоже, хочет от этой доктрины отделаться. И придумал для этого единственный способ: заменить дискуссии приятным времяпровождением. А потому пригласил Хрущева побыть с ним в Америке, пообещав в ответ прокатиться к нему в Россию. Все это с точки зрения дипломатии выглядит довольно странно»[826].
Не столько странно, сколько неизбежно. Ибо как только Хрущев понял, что Великобритания неотделима от Америки, он сконцентрировал все свое внимание на Эйзенхауэре. С точки зрения Хрущева, Макмиллан сыграл свою роль, побудив Вашингтон вести переговоры. Ибо окончательный анализ показывал, что единственным собеседником, способным дать то, чего жаждал Хрущев, являлся американский президент. И потому главными и существенными оказались дискуссии между Хрущевым и Эйзенхауэром в Кемп-Дэвиде и между Хрущевым и Кеннеди в Вене. И все же чем больше Америка и Советский Союз монополизировали международный диалог, тем инициативнее члены НАТО пытались обеспечить себе определенную свободу маневра. Поскольку советская угроза Западной Европе становилась все слабее по мере исчезновения всеобщего страха перед Москвой, разногласия внутри Атлантического союза стали таить в себе меньший риск, а де Голль попытался использовать сложившееся положение вещей для проведения более независимой европейской политики.
Но для Великобритании выбор ведущего не представлял проблемы. Поскольку Макмиллан предпочитал подчинение Америке подчинению Европе, у него не было побудительных мотивов поощрять замыслы де Голля, и он никогда не поддерживал шаги, направленные на отделение Европы от Америки, не важно, под каким предлогом. Тем не менее, защищая жизненно важные британские интересы, Макмиллан был до мозга костей столь же стоек и упорен, как и де Голль. Это стало очевидным во время так называемого «дела со „Скайболтом».
Чтобы продлить жизнь своему устаревающему бомбардировочному флоту, Великобритания решила закупить «Скайболт» — американскую ракету дальнего радиуса действия, запускаемую в воздухе, которая тогда находилась в стадии разработки. Осенью 1962 года без предварительного предупреждения администрация Кеннеди прекратила работу над «Скайболтом» якобы по техническим соображениям, на самом же деле чтобы уменьшить зависимость от авиации, которую тогда полагали более уязвимой, чем ракеты, и почти наверняка для того, чтобы не способствовать развитию автономных ядерных возможностей Великобритании. Одностороннее американское решение, принятое без предварительных консультаций с Великобританией, обрекало британскую бомбардировочную авиацию на быстрое моральное старение. Похоже, сбывались французские предупреждения относительно зависимости от Вашингтона.
Однако последующая фаза «дела со „Скайболтом» продемонстрировала выгоды наличия «особых отношений» с Америкой. Макмиллан бросил на игорное поле приобретенные им за время пестования связей с Америкой фишки и не особенно при этом церемонился:
«Если трудности, возникшие при разработке „Скайболта", используются или представляются используемыми как метод принуждения Британии отказаться от развития собственных независимых ядерных возможностей, результаты будут весьма и весьма серьезными. Они будут встречены с неодобрением как теми у нас, кто благожелательно относится к наличию независимых ядерных возможностей, так и теми, кто выступает против. Это будет воспринято как удар по чувству национальной гордости, и этому будут сопротивляться всеми имеющимися у нас в наличии средствами»[827].
Кеннеди и Макмиллан встретились в Нассау, и там 21 декабря они договорились усовершенствовать англо-американское ядерное партнерство. Америка взялась компенсировать Великобритании отсутствие ракет «Скайболт» путем продажи пяти подводных лодок «Поларис» с комплектом ракет, для которых Великобритания разработает собственные боеголовки. А чтобы пойти навстречу озабоченности Америки по поводу сохранения централизованного контроля над ядерной стратегией, Великобритания дала согласие «передать» эти подводные лодки НАТО, исключая, однако, случаи, когда «на карту ставятся высшие национальные интересы»[828].
Интеграция британских сил в составе НАТО оказалась в основном чисто символической. Поскольку Великобритания была вольна пользоваться подводными лодками, коль скоро речь шла о «высших национальных интересах», и поскольку, по сути дела, о применении ядерного оружия речь могла пойти только в том случае, когда действительно ставились на карту высшие национальные интересы, Нассауское соглашение на деле передало Великобритании посредством консультаций те же самые права на свободу действий, какие Франция пыталась выторговать путем конфронтации. Различие в отношении Великобритании и Франции к ядерному оружию заключалось в том, что Великобритания была готова пожертвовать формой ради сущности, в то время как де Голль, стремясь вновь подчеркнуть самостоятельность Франции, ставил между формой и содержанием знак равенства.
Франция, конечно, была в совершенно иной ситуации, ибо не имела ни малейших перспектив обретения такого же влияния на американские решения, каким обладала Великобритания. Поэтому под руководством де Голля Франция поднимала философский вопрос относительно характера атлантического сотрудничества таким образом, который превращал все это в соперничество за лидерство в Европе, а для Америки — в повторное знакомство с историческим стилем европейской дипломатии.
Соединенные Штаты с конца второй мировой войны фактически правили миром таким способом, который прежде не был доступен ни одной из наций: они производили почти треть мирового количества товаров и объема услуг. Опираясь на огромный прорыв в области ядерной технологии, Америка сохраняла подавляющее превосходство над любым мыслимым соперником или комбинацией соперников.
На протяжении нескольких десятилетий сочетание благоприятных обстоятельств побуждало американских руководителей не вспоминать о том, насколько отличается поведение опустошенной, временно бессильной, а потому склонной к уступкам Европы от Европы тех времен, когда она в продолжение двух столетий играла доминирующую роль в мировых делах. Они не вспоминали о европейском динамизме, позволившем дать толчок промышленной революции, о политической философии, породившей понятие суверенитета отдельной нации; или о дипломатии европейского стиля, на протяжении почти трех столетий позволявшей дирижировать сложнейшей системой равновесия сил. По мере возрождения Европы — при неоценимой помощи Америки — некоторые из традиционных моделей дипломатии обязательно должны были возродиться, особенно во Франции, где при Ришелье и возникло современное представление о внешней и внутренней государственной политике.
Никто не ощущал этой потребности более остро, чем Шарль де Голль. В 60-е годы, в период наибольшего обострения противоречий с Соединенными Штатами, стило модным обвинять французского президента в мании величия. На самом деле стоявшая перед ним проблема была прямо противоположного характера: как восстановить ощущение собственной значимости у страны, охваченной чувством проигрыша и уязвимости. В отличие от Америки Франция не обладала всеподавляюшей мощью; в отличие от Великобритании она не рассматривала вторую мировую войну как опыт национального сплочения, и даже как опыт поучительного характера. Мало какая страна оказывалась в столь же трудном положении, как Франция, потерявшая значительную часть молодежи во время первой мировой войны[829]. Пережившие катастрофу осознавали, что Франция второго такого испытания не перенесет. И в этом смысле вторая мировая война стала овеществленным кошмаром, превратив крушение Франции в 1940 году в несчастье не только военного, но и психологического характера. И хотя формально Франция вышла из войны в качестве одного из победителей, французские руководители слишком хорошо знали, что в основном страна оказалась спасена благодаря усилиям других.
Мир не стал передышкой. Четвертая республика характеризовалась точно такой же нестабильностью правительств, как и Третья, и в довершение к этому ей надо было пройти иссушающий душу путь деколонизации. После унижений 1940 года французская армия едва-едва была воссоздана, и тут же ей пришлось в течение двух десятилетий вести безнадежные колониальные войны, вначале в Индокитае, а затем в Алжире. Обе закончились поражением. Благодаря наличию стабильного правительства и благословенной уверенности в себе, подкрепленной победой тотального характера, Соединенные Штаты могли безоглядно предаваться выполнению любой задачи, продиктованной их ценностями. Управляя страной, на протяжении целого поколения разрываемой конфликтами и пережившей десятилетия унижения, де Голль избирал образ действий, руководствуясь не столько прагматическими критериями, сколько тем, можно ли будет подобным образом способствовать восстановлению у Франции самоуважения.
Возникший в результате этого конфликт между Францией и Соединенными Штатами наполнился еще большей горечью от того, что при наличии глубочайшего взаимного непонимания обе стороны, казалось, никогда не говорили на одну и ту же тему. Хотя как личности американские руководители обычно не были людьми с претензиями, они страдали избытком самоуверенности в отношении практических рецептов. Де Голль, поскольку народ его страны стал скептиком после стольких разбитых вдребезги надежд и стольких мечтаний, рассеявшихся словно дым, счел необходимым компенсировать глубоко укоренившееся в обществе чувство непрочности и неуверенности высокомерно-властным поведением. Взаимодействие между личной скромностью американских руководителей и их историческим высокомерием, с одной стороны, и личным высокомерием и исторической скромностью де Гол-ля, с другой, стало определяющим фактором возникновения барьера между Америкой и Францией.
Поскольку Вашингтон считал не вызывающей сомнений предпосылкой членства в Атлантическом союзе полное совпадение интересов входящих в него стран, то рассматривал консультации как панацею при любых разногласиях. С точки зрения Америки, союз представлялся как нечто подобное корпорации на паях; влияние внутри нее определялось долей имущественного владения, которой обладала каждая из сторон-участниц, и оно должно было рассчитываться в прямой пропорции к материальному взносу каждой из стран на общее дело.
Многовековая французская традиция дипломатической деятельности никоим образом не могла привести к подобному выводу. Еще со времен Ришелье Франция всегда основывала собственные инициативы на сопоставлении выгод и риска. Будучи порождением традиции, де Голль в наименьшей степени интересовался механизмом консультаций, а в наибольшей — обретением возможностей выбора на случай возникновения разногласий. Де Голль был уверен, что наличие такого рода возможностей укрепляет переговорные позиции. Для де Голля здоровые отношения между нациями зависели от расчета взаимных интересов, а не от формальных процедур урегулирования споров. Он не считал гармонию естественным состоянием, но чем-то выкристаллизовывающимся из столкновения интересов:
«Человек, „ограниченный по своей природе", одновременно „безграничен в своих желаниях". Мир, таким образом, раздираем противостоящими друг другу силами. Конечно, человеческая мудрость часто не позволяет подобному соперничеству деградировать в чреватые убийством конфликты. Но столкновение усилий является условием жизни... Итоговый анализ, как всегда, показывает, что лишь равновесие в этом мире обеспечивает мир»[830].
В период своего краткого знакомства с де Голлем я имел возможность в весьма решительной форме приобщиться к его принципам. Наша первая встреча состоялась во время визита Никсона в Париж в марте 1969 года. В Енисейском дворце, где де Голль устроил большой прием, его помощник специально разыскал меня в толпе и сказал, что французский президент желает со мной поговорить. Несколько потрясенный, я приблизился к возвышающейся над всеми фигуре. Завидев меня, он отошел от собравшейся вокруг него группы и, не поздоровавшись и не обменявшись со мной какими бы то ни было общепринятыми приветствиями, встретил меня вопросом: «Почему вы не уходите из Вьетнама?» Я ответил не вполне уверенно, что односторонний уход подорвет доверие к Америке. На де Голля это не произвело впечатления, и он спросил, в какой именно области может произойти утрата доверия. А когда я назвал Ближний и Средний Восток, недоверие сменилось меланхолией, и он заметил: «Как странно! А я-то думал, что как раз на Ближнем и Среднем Востоке проблема доверия возникла именно у ваших врагов».
На следующий день после встречи с французским президентом Никсон позвал меня к себе, чтобы обсудить со мной заявление де Голля относительно видения им Европы как целого, состоящего из национальных государств, — знаменитой «Европы из отдельных стран». Во время очередной встречи я спросил сдуру — ибо де Голль не снисходил до споров с помощниками или, в данном конкретном случае, до споров в присутствии помощников, — как Франция намеревается предотвратить господство Германии в Европе его мечты. Де Голль явно счел этот вопрос не заслуживающим дельного ответа. «Par la guerre» («Путем войны») — коротко ответил он. И это через Какие-то шесть лет после подписания им договора о вечной дружбе с Аденауэром.
Прямолинейная преданность национальным интересам Франции окрашивала отчужденно-бескомпромиссный стиль дипломатии де Голля. В то время как американские руководители подчеркивали принцип партнерства, де Голль делал упор на обязанности государств самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. В то время как Вашингтон хотел бы разложить на всех членов союза выполнение этой задачи общего характера, де Голль был убежден в том, что подобное разделение низведет Францию до роли подчиненного и разрушит чувство самоуважения.
«Для великого государства нетерпимо оставлять собственную судьбу на усмотрение иного государства, принимающего решения и осуществляющего действия, каким бы дружественным оно ни было... Интегрированная страна теряет интерес к национальной обороне, поскольку она не несет за нее ответственность».[831]
Этим объясняется почти стереотипная для де Голля дипломатическая процедура выдвижения предложений при минимуме объяснений. Если они отвергались, Франция стремилась реализовать их в одностороннем порядке. Для де Голля ничто не представляло из себя большей значимости, чем возможность для французов видеть себя своими глазами и глазами других как совершающих любое действие исключительно по собственной воле. Де Голль воспринимал унижение 1940 года как временное отступление, которому подведет черту суровое и бескомпромиссное руководство. Согласно его принципам мышления, Франция никогда не согласится ни с малейшим намеком на подчиненность, пусть даже столь уважаемому американскому союзнику, наводящему на всех страх:
«В отношении Соединенных Штатов — богатых, деятельных и могущественных — Франция оказалась в положении подчинения. Франции постоянно требовалось их содействие, чтобы избежать краха собственной валюты. Именно из Америки она получила вооружение для своих солдат. Безопасность Франции целиком и полностью зависела от их защиты... Мероприятия такого рода под маской интеграции автоматически превращали авторитет Америки в аксиому. Это относится и к проекту создания так называемой наднациональной Европы, в которой бы Франция как таковая исчезла... Возникла бы Европа без политической реальности, без экономических стимулов, без способности обороняться и, следовательно, обреченная перед лицом советского блока на неизбежное подчинение великой западной державе, имеющей и собственную политику, и собственную экономику, и собственную систему обороны, — Соединенным Штатам Америки»[832].
Де Голль не был антиамериканцем в принципе. Он был готов к сотрудничеству в любой момент, когда, как ему казалось, французские и американские интересы совпадают на самом деле. Так, во время Кубинского ракетного кризиса американские официальные лица были потрясены безоговорочностью поддержки де Голля — самой неограниченной по сравнению с остальными западными лидерами союзных стран. Он также решительно выступал против любого из планов разграничения в Центральной Европе, в первую очередь потому, что в результате американские вооруженные силы оказывались далеко, а советские вооруженные силы — очень близко:
«...Этот „вывод войск" или „разграничение" как таковые для нас бессмысленны, ибо не несут в себе ничего ценного. Ибо если разоружение не распространяется на зону, столь же близкую к Уралу, как и к Атлантике, как может Франция считать себя в безопасности? Что же тогда в случае конфликта остановит агрессора от прыжка или перелета через незащищенную германскую нейтральную полосу?»[833]
Настойчивая приверженность де Голля идее независимости оставалась бы теоретической, если бы он ее не связывал с рядом предложений, практическим последствием которых было бы ослабление роли Америки в Европе. Первым из них было утверждение, что нельзя положиться на вечное американское присутствие в Европе. Европа обязана готовить себя — под французским руководством — к самостоятельному взгляду на будущее. Де Голль не утверждал, что такой выход предпочтительнее, и, казалось, оставался равнодушен к трактовке подобного предсказания, носящего характер автоматически действующего пророчества.
Во время визита в Париж в 1959 году президент Эйзенхауэр взял быка за рога, спросив французского руководителя: «Почему вы сомневаетесь в том, что Америка свяжет свою судьбу с Европой?»[834] В свете поведения Эйзенхауэра во время Суэцкого кризиса этот вопрос звучал довольно странно и чересчур самоуверенно. Де Голль вежливо ответил, напомнив Эйзенхауэру о более отдаленных уроках истории. Америка пришла на помощь Франции во время первой мировой войны только по истечении трех лет смертельной опасности для страны, а во время второй мировой войны — только тогда, когда Франция была уже оккупирована. В ядерный век такого рода вмешательство выглядело бы безнадежно запоздалым.
Де Голль не упускал ни единой возможности лишний раз показать, что по конкретным вопросам суждения Америки были менее европейскими, чем Франции, и он безжалостно эксплуатировал берлинский ультиматум Хрущева. Де Голль хотел, чтобы Бонн воспринимал его как более надежного союзника, чем Америка, и постепенно признал французское, а не американское лидерство. А когда вследствие односторонних американских инициатив отдельные до того неприкосновенные аспекты послевоенной политики западных держав по Берлину становились предметом дипломатических переговоров, растущее беспокойство Аденауэра представляло собой не только опасность, но и исключительные возможности для Франции. Опасность потому, что, «если германский народ перейдет на другую сторону, европейское равновесие окажется нарушено, а это может стать сигналом для войны»: возможности потому, что германские опасения могли бы увеличить французское влияние в Европе[835].
То, что имел в виду де Голль, представляло из себя Европу, организованную по принципам бисмарковской Германии, то есть объединение на базе государств, одно из которых (Франция) будет играть ведущую роль, обладая теми же функциями, как и Пруссия внутри императорской Германии. Каждый исполнял бы какую-то роль в деголлевском возрождении старинной мечты Ришелье о преобладающей Франции: Советский Союз обеспечивал бы разделение Германии; Соединенные Штаты — безопасность Западной Европы по отношению к Советскому Союзу: Франция — переориентацию германских национальных чаяний в направлении европейского единства. Но, в отличие от Пруссии. Франция не была самым сильным государством Западной Европы; у нее не было достаточной экономической мощи, чтобы доминировать над другими, и, в конце концов, она не была в состоянии регулировать соотношение сил между сверхдержавами и тем их сдерживать.
Эти разногласия вполне можно было бы оставить на суд времени, тем более что Аденауэр отчаянно жаждал быть как можно ближе к Соединенным Штатам. А поскольку все германские руководители отдавали себе отчет в том, до какой степени велик разрыв в силе между Францией и Соединенными Штатами, то они и не собирались менять американскую ядерную защиту на большую преданность Франции вопросам политического характера.
Однако существовала одна проблема, где национальное несогласие между Францией и Америкой составило ее суть, и дело не терпело отлагательств: речь идет о контроле над военной стратегией в ядерный век. Здесь американское настоятельное требование относительно интеграции и французский призыв к автономии точек соприкосновения вообще не имели, и никакого буфера для сглаживания разногласий не существовало. Поскольку мощь ядерного оружия оказалась беспрецедентной, история не в состоянии была предложить надежной аналогии для формулирования ядерной стратегии. Для любого из политических деятелей полетом с завязанными глазами являлась попытка оценить влияние новой технологии как на политику, так и на стратегию; выводы на эту тему носили чисто академический, теоретический характер, ибо эмпирический опыт или конкретные данные отсутствовали.
В первое десятилетие послевоенной эры представлялось, что ядерная монополия превратила мечты Америки о всемогуществе в явь. Но к концу 50-х годов становилось очевидно, что любая из ядерных сверхдержав вскоре окажется в состоянии навлечь на другую такой уровень опустошения, какое не способно было вообразить ни одно из прежде существовавших обществ. Само сохранение цивилизации, таким образом, оказывалось под угрозой.
Осознание этого стало первоосновой грядущих революционных перемен сущности международных отношений. Хотя вооружение постоянно совершенствовалось, разрушительный эффект его вплоть до конца второй мировой войны все еще оставался довольно ограниченным. Войны требовали широчайшей мобилизации ресурсов и живой силы, для накопления и собирания которых требовалось время. Потери росли относительно постепенно. Теоретически войну можно было остановить задолго до того, как она выйдет из-под контроля.
Поскольку военный потенциал можно было увеличивать в относительно малых пропорциях, само предположение, будто в распоряжении государства может образоваться мощь, избыточная для достижения разумных политических целей, представилось бы невероятным. И все же в ядерный век произошло именно это. Центральной стратегической дилеммой сверхдержав стало не накопление дополнительной мощи, а подчинение конкретным целям находящегося в их распоряжении арсенала. Ни одной из сторон так и не удалось развязать этот гордиев узел. Политические трения, которые ранее почти обязательно привели бы к войне, сдерживались страхом ядерного столкновения, что создавало порог риска, благодаря которому полстолетия сохранялся мир. Но подобное положение дел также влекло за собой чувство политической безнадежности и делало вызов неядерного характера более реальным и более частым. Никогда еще разрыв между сверхдержавой и неядерным государством не был столь велик; и никогда еще он не был столь «бумажным». Ни Северной Корее, ни Северному Вьетнаму американский ядерный арсенал Не помешал достигнуть поставленных целей, даже в ходе противостояния американским вооруженным силам; да и афганским партизанам не мешали ядерные возможности Советского Союза.
Впервые в истории наступление ядерной эры позволило изменять соотношение сил посредством прогресса, имевшего место исключительно в пределах территории одного суверенного государства. Приобретение одной конкретной страной атомной бомбы меняло соотношение сил более существенно, чем любые территориальные завоевания прошлого. И все же, за единственным исключением израильского удара по иракскому ядерному реактору в 1981 году, ни одна страна за всю историю «холодной войны» не прибегала к силе, чтобы предотвратить такого рода нарастание мощи противника.
Ядерный век превратил стратегию в устрашение, а устрашение — в эзотерическое интеллектуальное упражнение. Поскольку устрашение проявляется только негативно — посредством событий, которые на самом деле не происходят, и поскольку никогда невозможно продемонстрировать, почему именно не произошло то или иное событие, становится исключительно трудно оценить, является ли нынешняя политика наилучшей из возможных или просто достаточно эффективной. Ибо, быть может, устрашение было даже ненужно, поскольку невозможно доказать, собирался ли противник атаковать вообще. И наличие столь бесконечно малых, не поддающихся учету факторов заставляет внутригосударственные и международные споры колебаться в диапазоне от пацифизма до непреклонности, от парализующих сомнений до безграничной уверенности в собственных силах и от недоказуемых оборонительных теорий до нереализуемых теорий контроля над вооружениями.
Потенциальный источник напряжения любого союза — возможность расхождения интересов — лишь усиливается подобной неопределенностью. С исторической точки зрения нации в общем и целом, хотя и далеко не всегда, старались держаться заключенных союзов, ибо отказаться от союзника считалось гораздо более рискованным, чем выполнить взятые на себя обязательства. В ядерный век это правило более не было аксиомой: отказ от союзника означал лишь потенциальную опасность, зато участие в ядерной войне на стороне союзника гарантировало немедленную катастрофу.
Чтобы сделать ядерное устрашение еще эффективнее, Америка и ее союзники имели все основания подчеркивать как неотвратимость, так и свирепость реакции на вызов. Как сделать угрозу более достоверной, но вместе с тем уменьшить масштабы опустошения, если стратегия устрашения не сработает? Америка обрела еще больший стимул найти способ сделать ядерную войну более предсказуемой по конкретным показателям и менее катастрофичной. Конкретное определение целей, централизованное командование и управление, а также стратегия гибкого реагирования стали в высшей степени модными в среде американских интеллектуалов от обороны. И все же все американские союзники отвергли эти меры, ибо опасались, что, если ядерная война станет более предсказуемой в цифровом плане и более терпимой, это лишь поощрит агрессию. И вдобавок в последний момент Америка может все отыграть назад, так и не разрешив пустить в ход свой ядерный арсенал, несмотря на ограниченный стратегический выбор, так что Европа может оказаться лицом к лицу с обоими худшими из зол: снижением уровня устрашения для противника и отказом от воплощения в жизнь ядерной стратегии. Страхи эти были далеко не тривиальны. Вряд ли тривиальными были и опасения, связанные с озабоченностью американских руководителей проблемой множества пусковых кнопок в связи с наличием автономных французских и английских ядерных сил. Если европейские силы надумают ударить по Советскому Союзу, то могут тем самым вовлечь Америку в ядерную войну. Ибо в высшей степени возможно нанесение Советами удара возмездия по Америке, чтобы та не извлекла выгоды из ущерба, нанесенного им. Однако еще более вероятным сценарием оказался бы тот, когда ответ Советского Союза на удар американских союзников оказался бы столь мощным, что встал бы вопрос, может ли Америка сидеть сложа руки, когда опустошают территорию ее ближайших союзников, независимо от того, чем это спровоцировано.
И потому американские лидеры были преисполнены решимости избежать вовлечения США в ядерную войну против их воли. Решение пойти на риск уничтожения собственного общества было и так достаточно одиозным, чтобы в дополнение к нему беспокоиться, не будет ли оно навязано союзниками. С другой стороны, американское «решение» подобной дилеммы — отказ союзникам в самостоятельности действий — противоречило всем историческим кошмарам европейской истории. Европейские лидеры были слишком знакомы с ситуацией, когда либо им самим приходилось оставлять собственных союзников, либо те бросали их, причем по причинам, намного менее уважительным, чем ядерное опустошение. С их точки зрения, само их выживание зависело от того, удастся ли им предотвратить в максимальной степени выбор Америкой варианта отмежевания от Европы в случае реальной перспективы возникновения ядерной войны, или, если таковое не удастся, от наличия в их распоряжении дополнительной подстраховки в форме национальных ядерных сил. Разница в американском и европейском подходе к вопросам ядерной стратегии представляла собой неразрешимую дилемму. Желание Великобритании и Франции сохранить определенный контроль над принятием решений, влияющих на их судьбу, было понятно и находилось в соответствии с их историческим опытом. Но и американская озабоченность возможностью нагнетания ужасов ядерного века посредством изолированной инициативы союзников имела под собой также весьма веские основания. С точки зрения устрашения, было, бесспорно, определенное достоинство в том, что британцы и французы оказались преисполнены решимости создать дополнительные центры принятия решений; положение агрессора окажется более сложным, если в расчет придется принимать существование независимых ядерных сил. С точки зрения наличия терпимой стратегии ведения войны, настойчивое требование Америки относительно объединенного контроля в равной степени имело смысл. Конфликтный характер озабоченности каждой из сторон исключал примирение и отражал попытку наций предопределить собственную судьбу в беспрецедентных обстоятельствах и перед лицом непредсказуемых опасностей. Реакцией Америки на дилемму была попытка «разрешить» ее; де Голль же. полагая ее неразрешимой, стремился укрепить французскую независимость.
Американская политика распадается на два существенных этапа, каждый из которых отражал личностные особенности президента, управлявшего в данный момент. Подход Эйзенхауэра заключался в том, чтобы убедить непреклонного де Голля в ненужности французских независимых ядерных сил и трактовать попытки создать таковые как символ недоверия. С характерной для американца смесью легализма и идеализма Эйзенхауэр искал формальный способ преодоления кошмарной для Америки ситуации, когда ядерная война окажется развязанной ее союзниками. В 1959 году, по случаю визита в Париж, он спросил у де Голля, как различные национальные ядерные силы внутри союза будут интегрированы в рамках единого военного планирования. В этот момент Франция уже объявила ядерную программу, но еще не проводила испытаний.
Этим вопросом Эйзенхауэр напросился на ответ, который не готов был еще принять. Ибо для де Голля интеграция являлась политической, а не формально-юридической проблемой. Симптоматичным для наличия разрыва между двумя концепциями было то, что Эйзенхауэру, похоже, не было известно, что де Голль уже ответил на этот его вопрос годом ранее, когда было сделано предложение относительно Директората. Эйзенхауэр стремился к стратегическим решениям; де Голль искал политические. Эйзенхауэра в первую очередь интересовала эффективная командная структура военного времени. Де Голля в значительно меньшей степени интересовали планы ведения всеобщей войны (которую он заранее считал все равно проигранной), чем накопление многовариантности в дипломатической сфере, обеспечивающей для Франции свободу действий до начала какой бы то ни было войны.
17 сентября 1958 года де Голль направил Эйзенхауэру и Макмиллану меморандум, содержащий идеи относительно наиболее подходящей структуры НАТО. Он предложил создание внутри Атлантического союза политического Директората, состоящего из глав правительств Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Директорат будет встречаться периодически, иметь совместный штат и планировать совместную стратегию, особенно в отношении кризисов за пределами территории НАТО:
«...Политико-стратегические вопросы мировой важности следует доверить новому органу, состоящему из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Этот орган должен взять на себя ответственность за принятие совместных решений по всем политическим вопросам, влияющим на безопасность во всем мире, и за составление, а при необходимости воплощение в жизнь стратегических планов, особенно тех, что связаны с применением ядерного оружия. Он также должен будет нести ответственность за возможную организацию обороны отдельных оперативных регионов, таких, как Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Эти регионы могли бы, если возникнет нужда, разделиться на отдельные подрайоны».
Чтобы подчеркнуть степень серьезности этих предложений, де Голль сопроводил их угрозой выхода Франции из НАТО. «Французское правительство, — отмечал он, — считает наличие подобной организации безопасности абсолютно необходимым. И потому нынешнее участие в НАТО как таковое зависит от этого»[836].
Внешне де Голль как будто требовал для Франции статус, равный «особым отношениям» Соединенных Штатов с Великобританией. На глубинном уровне, однако, он предлагал такую организацию безопасности, которая больше всего напоминала идею Рузвельта относительно «четырех полицейских», где Франция в качестве участника заменяла Советский Союз, — потрясающая концепция глобальной коллективной безопасности, базирующаяся на наличии ядерного оружия, хотя, конечно, на данный момент французские ядерные возможности существовали лишь в зародыше.
Де Голль проник в самую глубину ядерной проблемы: в мерный век не могло существовать никаких технических стимулов обеспечения координации. Потенциальный риск использования любого ядерного оружия был столь огромен, что его отсутствие представляло бы собой тенденцию обеспечить отдельным участникам игры возможность достижения в высшей степени национальных и замкнутых на самих себя целей. Единственной надеждой на совместные действия могло бы стать наличие политических отношений, до такой степени тесных, что различные участники процесса консультаций воспринимали бы друг друга как единое целое. И все же как раз подобные отношения и являются наиболее труднодостижимыми для суверенных наций, а дипломатический стиль де Голля делал их достижение почти невозможным.
Не смотрел ли де Голль на Директорат, как своего рода затычку, пока французские ядерные силы не станут достаточно мощными, чтобы угрожать автономными действиями? Или он ставил целью добиться нового, беспрецедентного сотрудничества, благодаря которому Франция бы обрела роль особого лидера на континенте? Ответа мы так никогда и не узнаем, ибо идея создания Директората встретила весьма холодный отклик со стороны как Эйзенхауэра, так и Макмиллана. Великобритания не была готова обесценить «особые отношения» с Соединенными Штатами; Америка не имела ни малейшего желания стимулировать распространение ядерного оружия путем создания Директората, состоящего из одних только ядерных держав, да еще к тому же потенциальных. Остальные члены НАТО отвергли идею на том основании, что тогда создаются две категории членства: одна для ядерных держав, а другая для всех прочих. А американские лидеры воспринимали НАТО как единое целое, хотя с недавними разногласиями по Суэцу и Берлину это совмещалось плохо.
Официальная реакция Эйзенхауэра и Макмиллана была уклончивой. Привыкнув к относительно сговорчивым, исключительно недолговечным премьер-министрам Четвертой республики, они ответили на предложение де Голля выдвижением в высшей степени бюрократических по сути схем в надежде на то, что по прошествии времени оно само собой уйдет в небытие. Они приняли принцип регулярных консультаций, но постарались снизить их уровень, чтобы эти встречи происходили не между главами правительств, а также указали, что предпочтительнее всего было бы, если бы повестка дня такого рода совещаний ограничивалась чисто военными вопросами.
Тактика Эйзенхауэра и Макмиллана — то есть стремление утопить суть в процедуре — только тогда имела бы смысл, если бы верным оказалось предположение, что де Голль — человек болтливый и легкомысленный, которому некуда деваться. Но обе эти предпосылки оказались в корне неверны. Ощутив желание с ними не считаться, де Голль прибег к тактике подписания документов, дававших его собеседникам понять, что у него на самом деле есть и другие варианты выбора. Он распорядился убрать с французской территории американское ядерное оружие, вывел французский флот целиком и полностью из-под объединенного командования НАТО, а в 1966 году вообще вывел Францию из военной организации НАТО. Но прежде чем совершить столь судьбоносный шаг, де Голль успел вступить в стычку с молодым, динамичным американским президентом Джоном Ф. Кеннеди.
Кеннеди олицетворял новое поколение американских лидеров. Они воевали во вторую мировую войну, но не на командных постах; они поддерживали создание послевоенного мирового порядка, но не входили в число его творцов. Предшественники Кеннеди, «присутствовавшие в момент творения», концентрировали свои усилия на сохранении того, что было ими выстроено. А администрация Кеннеди была сторонником нового архитектурного стиля. Ибо Трумэн и Эйзенхауэр полагали, что целью Атлантического союза является отражение советской агрессии; Кеннеди же хотел, чтобы родилось атлантическое сообщество, которое бы проложило дорогу к тому, что позднее стало именоваться «новый мировой порядок».
Ради достижения этой цели администрация Кеннеди разработала двухсторонний подход, пытаясь одновременно найти и рациональное применение ядерному оружию, и точное в политическом смысле понимание сущности будущего атлантического содружества. Кеннеди был потрясен носящими характер катаклизма последствиями господствовавшей тогда военной доктрины «массированного возмездия». Под руководством блистательного министра обороны Роберта Макнамары он стремился разработать такую стратегию, которая способна была бы предусмотреть иные варианты развития военных событий, кроме Армагеддона и капитуляции. Администрация Кеннеди сделала больший упор на классические виды вооружений и попыталась найти формулу дифференцированного применения ядерного оружия. Растущая уязвимость Америки по отношению к ядерному нападению со стороны Советского Союза привела к появлению так называемой стратегии «быстрого реагирования», система управления при которой и варианты действий были запроектированы таким образом, чтобы Соединенные Штаты смогли определиться, до какой степени противник готов пойти на сотрудничество, как и каким оружием будет вестись война и на каких условиях она может закончиться.
Но для того, чтобы такого рода система сработала, ядерное оружие должно было находиться, под централизованным, то есть американским, управлением. Кеннеди отозвался о французской ядерной программе, как «враждебной» принципам НАТО, а его министр обороны заклеймил самое идею европейских ядерных сил, включая сюда и Великобританию, причем с применением ряда эмоционально окрашенных прилагательных, среди которых были и такие, как «опасный», «дорогой», «быстро устаревающий», «недостаточно надежный». Заместитель министра Джордж Балл подкрепил это тезисом, будто «дорога к распространению ядерных вооружений не имеет логического конца»[837].
Поэтому администрация Кеннеди настаивала на «интеграции» всех ядерных сил НАТО и выступила с проектом для достижения этой цели — создания многосторонних ядерных сил НАТО (МСЯС). Несколько сот ракет среднего радиуса действия с дальностью полета от 1500 до 2000 миль должны были быть установлены на суда под командованием НАТО. Чтобы подчеркнуть союзный характер этих сил, команды судов должны были быть многонациональными, из различных стран-участниц[838]. Но поскольку за Соединенными Штатами сохранялось право вето, МСЯС не решали основополагающей ядерной дилеммы НАТО; они оказывались бы либо избыточны, либо бесполезны.
4 июля 1962 года Кеннеди провозгласил величественную Декларацию взаимозависимости Соединенных Штатов и объединенной Европы. Политически и экономически интегрированная Европа стала бы равным партнером Соединенных Штатов, разделяя с ними бремя и обязанности мирового лидера[839]. Развивая далее столь преисполненную символизма тему во время более поздней по времени речи во франкфуртской Паульскирхе, где в 1848 году собиралась либеральная Германская национальная ассамблея, Кеннеди объединил перспективы атлантического партнерства с европейской интеграцией:
«Только слившаяся воедино Европа может предохранить нас от дробления союза. Только такая Европа способна обеспечить полнейшую взаимность в трактовке по обе стороны океана вопросов, находящихся в атлантической повестке дня. Только при наличии такой Европы для нас возможна полная взаимная самоотдача, равенство в распределении ответственности и равный уровень самопожертвования»[840].
Красноречивый вызов Кеннеди угодил в трясину двусмысленного положения Европы, рост экономического могущества у которой сочетался с ощущением военного бессилия, особенно в ядерной области. Как раз те самые качества, которые делали «гибкое реагирование» столь привлекательным и столь необходимым для Соединенных Штатов, порождали сомнения среди их союзников по НАТО. Практические последствия применения стратегии «гибкого реагирования» заключались в том, что она обеспечила бы Вашингтону большую свободу политического выбора применительно к решению о начале войны, — то есть была бы достигнута та самая желанная для де Голля цель, которой он пытался добиться при помощи «ударных сил», как он называл французские ядерные силы, когда они наконец появились на свет в 60-е годы. Само сочетание решимости и гибкости, столь желанное для Америки, подкрепляло французские доводы в пользу автономии в ядерном отношении в качестве преграды на пути пересмотра Америкой своих решений в момент кризиса. Хотя целью Америки было сделать «устрашение» наглядным, чтобы ядерная угроза выглядела еще более достоверно, большинство союзников предпочитало строить стратегию «устрашения» на иной основе — посредством повышения для противника степени риска благодаря выбору стратегии «массированного возмездия» независимо от нигилистичности последствий. Что делать, если блеф не сработает, так никогда и не обсуждалось, хотя вариант сдачи не мог исключаться.
Дебаты относительно военной интеграции приобрели прямо-таки теологические свойства. В мирное время командование НАТО представляет собой по преимуществу орган военного планирования: в операционном смысле вооруженные силы каждого из союзников остаются под национальным командованием, и право вывода сил из-под командования НАТО до такой степени само собой разумеется, что никогда не оспаривалось. Это продемонстрировал вывод французских войск для использования их в Алжире, неоднократный вывод американских войск во время ряда ближневосточных кризисов: в 1958 году в Ливане, в 1973 году во время очередной арабо-израильской войны и в 1991 году в период «войны в Заливе». Обсуждая священную суть и достоинства интеграции», ни Соединенные Штаты, ни Франция так и не определили, какие совместные действия возможны под вывеской «интеграции», а какие не вписываются даже в весьма расширительное толкование Францией понятия «сотрудничества». Никакая договоренность относительно порядка осуществления командования не способна разрешить политическую по сути проблему, сформулированную де Голлем:
«Американцы, наши союзники и друзья, в течение длительного времени одни обладали ядерным арсеналом. Пока они были единственными его обладателями и пока проявляли волю к немедленному его использованию в случае нападения на Европу... американцы действовали таким образом, что для Франции в принципе не вставал вопрос вторжения, ибо такого рода атака лежала за пределами вероятности... Но затем Советы также обзавелись ядерным арсеналом, и этот арсенал достаточно мощен, чтобы поставить под угрозу само существование Америки. Естественно, я не делаю цифровых сравнений, ибо вряд ли возможно найти соотношение между значимостью одной из смертей и значимостью другой — но новый, гигантский фактор уже присутствует»[841].
Спор по поводу «Скайболта» вывел все эти латентные конфликты на поверхность. В продолжение всей своей политической жизни де Голль выступал против наличия «особых отношений» между Америкой и Великобританией именно потому, что символический статус Великобритании как великой державы, равной Соединенным Штатам, сводил Францию на уровень державы второстепенной. Не будем грешить против истины: Кеннеди предложил Франции точно такую же помощь в осуществлении ракетной программы, как и Великобритании. Но для де Голля нюанс между интеграцией и координацией и определял сущность истинно независимой политики. В любом случае, тот факт, что Нассауское соглашение англо-американскими руководителями обсуждалось, а до сведения де Голля было лишь доведено, предопределял гарантированный отказ последнего. Не желал он и привязывать свою страну в отношении ядерных ее возможностей к технологии, разработка которой, как в случае со «Скайболтом», в любой момент может быть прекращена. На пресс-конференции 14 января 1963 года де Голль в публичном порядке, то есть точно так же, как получил сведения о предложении Кеннеди, от него отказался, при этом едко заметив: «Конечно, я говорю об этом предложении и соглашении лишь потому, что они опубликованы и их содержание известно»[842].
Проводя черту, де Голль также воспользовался этой возможностью, чтобы наложить вето на вступление Великобритании в «Общий рынок», и отверг мнение Кеннеди относительно того, что европейская часть двойной опоры союза должна быть организована на сверхнациональной основе:
«Любая система, сущность которой будет состоять в передаче нашего суверенитета августейшим международным ассамблеям, являлась бы несовместимой с правами и обязанностями Французской Республики. И в довершение к этому такая система, без сомнения, оказалась бы бессильной возобладать и повести за собой народы, в первую очередь наш собственный народ, в такие дали, где само существование их души и тела оказалось бы под вопросом»[843].
Сущность вызова де Голля, брошенного американскому руководству, стала ясна через несколько дней. Де Голль и Аденауэр подписали договор о дружбе, предусматривающий постоянные взаимные консультации по всем главным вопросам:
«Оба правительства будут консультироваться друг с другом до принятия каких бы то ни было решений по всем важным вопросам внешней политики, и в первую очередь по вопросам, представляющим взаимный интерес, имея в виду выработку в максимально возможной степени аналогичной позиции»[844].
Содержание договора не представляло собой ничего примечательного. По правде говоря, документ напоминал порожний сосуд, который можно было заполнить чем угодно в продолжение последующих лет по воле французских и германских руководителей. Символична, однако, существенная значимость этого договора. С момента удаления Бисмарка от власти в 1890 году во время всех международных кризисов Франция и Великобритания выступали против Германии. А теперь, когда Франция не допустила Великобританию в «Общий рынок», несмотря на сильное давление со стороны Америки, именно германский канцлер оказал содействие в выведении Франции из состояния изоляции. Возможно, Франция не была достаточно сильной, чтобы навязывать по нерешенным вопросам собственное мнение, но при поддержке Германии оказывалась достаточна сильна, чтобы блокировать варианты решения, предложенные другими.
В конце концов, дело касалось того, почему нации сотрудничают друг с другом. С американской точки зрения, все разумные люди в итоге приходят к одним и тем же выводам, потому общность целей более или менее принимается за аксиому, и упор делается на механизм, при помощи которого можно воплощать на практике изначальную гармонию. Европейский же подход имеет в своей основе продолжительную историю конфликтов между национальными интересами; примирение этих интересов друг с другом и являлось сущностью европейской дипломатии. Европейские руководители воспринимали гармонию, как нечто, нуждающееся время от времени в извлечении из окружающего хаоса посредством конкретных шагов в области межгосударственных отношений. И именно это лежало в основе вопроса об управлении ядерными силами, вставшего в 60-е годы; он явился стержнем отказа де Голля от национальной Европы и возник вновь во время дебатов по Маастрихтскому договору в 90-е. Без сомнения, де Голль был влеком не только столь философско-возвышенными мотивами. Будучи учеником Ришелье, он видел во вступлении Англии в «Общий рынок» угрозу руководящей роли Франции в Европейском экономическом сообществе, причем как из-за веса Великобритании, так и из-за теснейшей ее близости к Соединенным Штатам.
И потому, сколь бы эгоистичными ни были ответы де Голля, вопросы эти касались самой сути роли Америки в международном плане, ставшие особенно актуальными в эпоху после окончания «холодной войны». Ибо один из труднейших уроков, который Америке еще предстоит усвоить, заключается в том, что нации сотрудничают друг с другом в течение длительного периода лишь тогда, когда они разделяют общие политические цели, и что американская политика должна сосредоточиваться преимущественно на этих целях, а не на одних лишь механизмах их достижения. Функциональный международный порядок должен обеспечивать достаточно места разнообразным национальным интересам. И хотя в его рамках должны делаться попытки их объединения, от них нельзя просто-напросто отмахиваться.
Возвышенные представления Кеннеди об атлантическом партнерстве базировались на наличии двух опор у крыши единого дома — Европы и Америки, и именно это представление вызывало отчаянное противодействие со стороны де Голля, выдвигавшего гораздо более изощренную, пусть даже менее одухотворенную, систему отношений. Обе концепции имели в своей основе конкретные исторические ценности каждой отдельно взятой страны. Кеннеди осовременивал наследие Вильсона и Франклина Делано Рузвельта; де Голль выступал с весьма сложно-многоплановой версией классического европейского равновесия сил, в основе которого лежало наличие разделенной Германии, западногерманское экономическое преобладание, французское политическое господство в Европейском экономическом сообществе и, в качестве подстраховки, американская ядерная защита.
Но когда все было сказано и сделано, де Голль оказался побежден самим фактом безграничной приверженности старомодным национальным интересам, столь мощно выведенным им на поверхность. И у мудрого государственного руководства имеются свои пределы. Блестящие аналитические расчеты де Голля оказались перечеркнуты нежеланием принять во внимание несовместимость французских национальных интересов с продолжающимся отчуждением от Соединенных Штатов до такой степени, что это могло побудить Америку отъединиться от Европы, притом тогда, когда Советский Союз все еще представлял собой единое целое. Да, Франция обладала способностью нанести ущерб тем или иным американским планам, но никогда не была до такой степени сильной, чтобы навязать свои собственные.
Пренебрегал ли де Голль истиной или был чересчур горд, чтобы признать ее, но он нередко превращал чисто теоретические построения в конкретный удар по американским намерениям, точно внесение систематического недоверия внутрь союза и являлось сущностью французской политики. Однако по ходу дела де Голль свел на нет свой же собственный замысел. Его исходный постулат, заключавшийся в том, что решения по вопросу войны и мира в глубочайшем смысле слова носят политический характер, был изначально верен. А его идея Директората правильно обращала внимание на настоятельную необходимость наличия «концерта» политических целей, особенно за пределами территории деятельности Атлантического союза.
И все же у де Голля преобладала тенденция возводить весомые доводы в ранг самоотрицающих крайностей. Одно дело — отвергать структуры, превращавшие договоренность в нечто обязательное, а также имевшие целью процедурными средствами предотвращать автономные действия, и совсем другое — вести атлантические взаимоотношения в форме перманентной конфронтации между Европой и Америкой. Его высокомерная тактика чересчур противоречила американскому представлению о международных отношениях, особенно союзах, и оказалась несопоставима с поведением других членов НАТО, и когда тем пришлось выбирать между Вашингтоном и Парижем, они всегда делали выбор в пользу Вашингтона.
Это с особенной ясностью проявилось применительно к взаимоотношениям Франции и Германии. Де Голль сделал франко-германское сотрудничество стержнем внешней политики. Но хотя он обеспечил себе поддержку Германии по вопросу политики в отношении Берлина и значительную симпатию с ее стороны применительно к взглядам по поводу контроля над ядерными силами, существовал предел, далее которого ни один германский государственный деятель не мог бы и не хотел бы пойти в смысле отчуждения от Соединенных Штатов. Какие бы у них ни существовали возражения по поводу конкретных политических шагов Америки, германские лидеры не имели ни малейшего желания оставаться лицом к лицу с Советским Союзом при наличии одной лишь поддержки со стороны Франции. Независимо от того, как германские руководители оценивали относительные достоинства англо-американской позиции по поводу контроля за ядерными вооружениями и европейской интеграции, никто из них на деле не рискнул бы полагаться на сравнительно малые французские силы, а не на обширный американский ядерный арсенал, не предпочел бы политическую поддержку Франции поддержке Соединенных Штатов. Таким образом, существовал внутренний предел тому, чего де Голль в состоянии был достигнуть, избирая антиамериканский курс; его усилия по предотвращению появления националистической Германии могли породить риск искушения для германского национализма избрать путь многовариантных маневров.
Особенностью кризисов 60-х годов было то, что все они уходили в песок. После Берлинского кризиса 1958 — 1963 годов более не было фронтальных советских вызовов западным интересам в Европе. После внутриатлантического кризиса I960 — 1966 годов вопросы, связанные с НАТО, превратились в мирное сосуществование американской и французской концепции. В 70-е годы администрация Никсона во время так называемого «Года Европы» попыталась оживить хотя бы частично дух подхода Кеннеди на базе более скромных предложений. Однако она наткнулась на ту же самую скалу голлистской оппозиции, причем по аналогичным причинам. Время от времени Франция пыталась создавать независимые на деле европейские военные возможности, но американская сдержанность и двусмысленность германского поведения не давали этим планам обрести значительность. Шли годы, десятилетия, и как американский, так и французский подход оказались перечеркнуты реальным развитием событий.
По иронии судьбы в мире, существующем после окончания «холодной войны», оба политических оппонента оказались в окружении, в условиях которого обязательность сотрудничества между ними явилась ключом к продуктивным атлантическим и внутриевропейским отношениям. Вильсоновские представления относительно сообщества демократических государств, действующего на основе единства целей и разделения труда, подходили к международному порядку 50 — 60-х годов, характеризовавшемуся преобладанием внешней угрозы со стороны тоталитарной идеологии и наличием американской почти полной ядерной монополии и американского экономического превосходства. Однако исчезновение единой, объединяющей угрозы и идеологический крах коммунизма вместе с появлением более равного распределения экономической мощи налагали на международный порядок требование более тонкого балансирования национальных и региональных интересов. Коммунизм действительно рухнул, как это предсказывали Кеннан, Ачесон и Даллес. Однако в конце пути оказался не мир, построенный по законам вильсоновского идеализма, но заразная форма того самого национализма, который Вильсоном и его последователями был назван «старомодным». Де Голля этот новый мир бы не удивил. Да и вряд ли он счел бы его «новым». Он бы утверждал, что мир этот наличествовал все время, только был какой-то период прикрыт тоненькой оболочкой преходящего феномена гегемонии двух держав.
Однако в то же самое время крах коммунизма и объединение Германии перечеркнули большинство деголлевских постулатов. Скептически относившийся ко всему, кроме международной роли собственной страны, де Голль переоценивал возможности Франции самостоятельно управлять ходом исторического процесса. «Новый мировой порядок» оказался не более милостив к мечтаниям де Голля относительно французского политического преобладания в Европе, чем к идее неоспоримого американского глобального лидерства. Объединенная Германия более не нуждалась в подтверждении со стороны союзников своей исконной законности применительно к восточногерманскому сопернику. А по отношению к Советскому Союзу прежние его восточноевропейские сателлиты стали равноправными участниками игры на международной сцене, причем Франция обнаружила, что не обладает достаточными силами, чтобы в одиночку обеспечить новое европейское равновесие. Традиционный французский политический выбор сближения с Россией как способ сдерживания Германии исключен любым из возможных вариантов эволюции бывшего Советского Союза: если результатом ее будет хаос и развал, то Россия окажется слишком слабой, чтобы выступать в роли противовеса Германии; если возобладает русский национализм и произойдет ре-централизация, то новое государство, все еще обладающее тысячами единиц ядерного оружия, может оказаться слишком сильным, чтобы ограничиваться ролью партнера Франции. Как минимум, столь же привлекательным для нее был бы союз с Америкой или Германией. Кроме того, любая попытка окружения Германии вызвала бы к жизни тот самый национализм, который германским лидерам удавалось сдерживать и который в прошлом являлся для Франции вечным кошмаром. В этом случае Америка становится наиболее надежным, пусть даже концептуально наиболее трудным, партнером Франции, а также единственной ее подстраховкой в деле проведения абсолютно необходимой политики дружбы с Германией.
Итак, в конце пути, первоначально задуманного де Голлем, чтобы сделать отношения с Америкой необязательными, в то время как Америка считала этот путь средством более полной своей интеграции в составе НАТО, сотрудничество между столь давними друзьями-оппонентами — чем-то напоминающее «особые отношения» Америки с Великобританией — выкристаллизовалось в качестве ключевого элемента равновесия сил, каким оно должно было стать двумя поколениями ранее, когда Вильсон появился во Франции, чтобы освободить Старый Свет от прежнего безрассудства и расширить его кругозор за рамки государства-нации.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. Вьетнам: прямиком в трясину; Трумэн и Эйзенхауэр
Все началось с наилучшими намерениями. В продолжение двух десятилетий по окончании второй мировой войны Америка приняла на себя ведущую роль в строительстве нового международного порядка из осколков разбитого вдребезги мира. Она вернула к жизни Европу, восстановила Японию, стеной встала на пути коммунистического экспансионизма в Греции, Турции, Берлине и Корее, впервые связала себя в мирное время договорами союзного свойства и запустила программу технического содействия развивающемуся миру. Страны, находящиеся под американским зонтиком, наслаждались миром, процветанием и стабильностью.
Однако в Индокитае потерпели крах все прежние принципы, предопределявшие действия Америки за рубежом. Впервые в XX веке Америку подвел накопленный прежде опыт внешнеполитической деятельности, когда отношения между ценностями нации и ее достижениями носили прямой, чуть ли не причинно-следственный характер. Чересчур универсальное применение этих ценностей вынудило американцев задаться вопросом, а ценности ли это вообще и почему в первую очередь эти ценности должны были привести американцев во Вьетнам. Разверзлась пропасть между верой американцев в исключительность их национального опыта и сомнительностью компромиссов, являющихся неотъемлемой частью геополитической деятельности, связанной со сдерживанием коммунизма. В горниле Вьетнама американская исключительность обратилась против самой себя. В американском обществе, в отличие от других, возникли не споры по поводу практических недостатков в политике страны, но по поводу морального права Америки играть какую-бы то ни было роль на международной арене. Именно этот аспект споров относительно Вьетнама оказался столь болезненным и повлек за собой столь труднозаживающие раны.
Редко когда последствия действий той или иной нации оказались бы столь далекими от первоначальных намерений. Во Вьетнаме Америка утеряла связь с основополагающим принципом внешней политики, сформулированным Ришелье еще три столетия назад: «...Дело заключается в том, что предмет поддержки и силы, при помощи которых его поддерживают, должны находиться в геометрической пропорции друг к другу» (см. гл. 3). Геополитический подход применительно к анализу национальных интересов должен был бы дать дифференцированный ответ, что является стратегически важным, а что носит лишь периферийный характер. Следовало бы задать вопрос, почему Америка сочла для себя безопасным стоять в стороне, когда в 1948 году коммунисты завоевали значительную часть Китая, и восприняла как проблему национальной безопасности ситуацию в гораздо меньшей азиатской стране, лишившейся независимости сто пятьдесят лет назад и никогда не обладавшей независимостью в нынешних границах.
Когда в XIX веке Бисмарк, признанный мастер «Realpolitik», обнаружил, что два ближайших его союзника, Австрия и Россия, готовы столкнуться лбами из-за беспорядков на Балканах, находившихся в нескольких сотнях миль от германских границ, то четко и ясно заявил, что Германия в связи с Балканами воевать не собирается, ибо Балканы, по его словам, не стоили того, чтобы там сложил кости даже один-единственный померанский гренадер. Но Соединенные Штаты в своих внешнеполитических расчетах подобными алгебраическими формулами не пользовались. В XIX веке столь трезвый и искушенный политик, как президент Джон Квинси Адаме, предостерегал своих соотечественников, что им незачем устраивать вылазки за рубеж в поисках «чудовищ». И все же вильсонианский подход к вопросам внешней политики не делал различия между подлежащими уничтожению чудовищами. Универсалистски трактуя мировой порядок как таковой, Вильсон и его последователи не снисходили до конкретного анализа сравнительной важности отдельных стран. Америка была обязана сражаться за то, что являлось правым делом, независимо от местных обстоятельств и в отрыве от геополитики.
На протяжении всего XX века один президент за другим провозглашал отсутствие У Америки «эгоистических» интересов; получалось, что ее основной, если не единственной, целью в области мировой политики является достижение всеобщего мира и прогресса. В этом плане Трумэн в инаугурационном обращении 20 января 1949 года широковещательно поставил перед своей страной задачу построения мира, где бы «все нации и все народы были бы свободны избирать для себя наиболее, с их точки зрения, подходящую систему правления...». Не преследовалось ничего похожего на национальный интерес в чистом виде: «Мы не искали для себя новых территорий. Мы никому не навязывали свою волю. Мы не просили для себя привилегий, которые мы бы не предоставили другим». Соединенные Штаты «крепили» бы «мощь свободолюбивых наций, дающую возможность противостоять опасностям агрессии» путем предоставления «военных консультаций и имущества свободным нациям, желающим сотрудничать с нами в деле поддержания мира и обеспечения безопасности»[845]. Свобода каждой взятой в отдельности независимой нации становится национальной задачей для Соединенных Штатов, независимо от ее стратегической важности для Америки.
В обоих инаугурационных обращениях Эйзенхауэр разрабатывал ту же тему, причем в еще более возвышенных выражениях. Он говорил о мире, где опрокидывались троны, сметались с лица земли обширные империи и возникали новые нации. И посреди всего этого хаоса сама судьба возложила на Америку задачу защищать свободу независимо от географических соображений и расчета национальных интересов. Более того, Эйзенхауэр настаивал на том, что подобные расчеты шли бы вразрез с системой американских ценностей, в рамках которой все нации й народы трактуются одинаково: «Понимая, что дело защиты свободы, как и сама свобода, едино и неделимо, мы относимся ко всем странам и народам с равным уважением и почестями. Мы отвергаем любые инсинуации на тот счет, будто та или иная раса, тот или иной народ в каком бы то ни было смысле ниже или являются лишними»[846].
Эйзенхауэр говорил о внешней политике Америки, как о явлении, не свойственном ни одной из наций; она ему представлялась как следствие моральных обязательств Америки, а не как результат сопоставления рисков и выгод. Лакмусовой бумажкой американской политики была не ее рациональность — считавшаяся само собой разумеющейся, — а осмысленность. «Ибо история не вверит на долгий срок защиту свободы нерешительным и слабым»[847]. Лидерство уже само по себе является моральным воздаянием; выгода Америки определялась как привилегия помогать другим стать в состоянии помочь самим себе. Подобным образом трактуемый альтруизм не мог иметь ни политических, ни географических границ.
В единственном своем инаугурационном обращении Кеннеди разрабатывал тему свободных от эгоизма обязанностей Америки в общемировом плане еще дальше и глубже. Объявляя свое поколение прямыми наследниками первой в мире демократической революции, он возвышенным языком призывал собственную администрацию не допустить «медленного и последовательного обесценения тех самых прав человека, делу которых наша нация была предана всегда и которому мы преданы теперь как дома, так и по всему свету. Пусть это станет известно каждой из наций, независимо от того, желает ли она нам добра или зла, что мы заплатим любую цену, возложим на себя любое бремя, вынесем любые тяготы, поддержим любого друга и выступим против любого врага, чтобы обеспечить сохранение и триумф свободы»[848]. Всеобъемлющие обязательства Америки, носящие глобальный характер, не были привязаны к каким-то конкретным интересам национальной безопасности и не делали исключений для какой-либо страны или региона. Красноречивые утверждения Кеннеди были прямо противоположны девизу Пальмерстона, гласившему, что у Великобритании нет друзей, а имеются только интересы. Америка же в деле защиты свободы не имела интересов, а имела только друзей.
К моменту инаугурации Линдона Б. Джонсона 20 января 1965 года общественное мнение утвердилось в том предположении, что обязательства Америки за рубежом, естественным образом вытекающие из демократической системы правления, полностью стерли грань между внутренней и внешней политикой в плане ответственности. Для Америки, утверждал Джонсон, не существует посторонних, лишившихся надежды: «Ужасающие опасности и беды, которые мы когда-то называли „чужими", постоянно живут теперь среди нас. И если должны быть принесены в жертву американские жизни, если должны быть истрачены американские сокровища, причем в странах, о которых нам почти ничего не известно, то лишь потому, что такова цена перемен, потребных в силу нашей убежденности и наличия у нас бремени моральных обязанностей высшего плана»[849].
Гораздо позднее стало модным цитировать подобные заявления как примеры силовой бравады или как лицемерный предлог для предъявления Америкой претензии на мировое господство. Столь бездумный цинизм выворачивает наизнанку сущность американского символа политической веры, который, будучи по сути как бы «наивен», самой своей наивностью создает стимул для исключительного подвижничества. Большинство стран вступает в войну ради отражения конкретных, четко определяемых угроз собственной безопасности. В нынешнем столетии Америка вступала в войну — начиная с первой мировой войны и кончая войной 1991 года в Персидском заливе — в основном ради того, что ей виделось в форме морального обязательства по отражению агрессии или ликвидации несправедливости в качестве доверенного лица, действующего во имя коллективной безопасности.
Это обязательство особенно остро ощущалось тем поколением американских руководителей, которое в юности стало свидетелем трагедии Мюнхена. Глубоко в душу запал им урок, суть которого сводится к тому, что неспособность отразить агрессию — где и когда бы она ни свершилась — предопределяет с абсолютной точностью, что ее придется отражать позднее и при гораздо худших обстоятельствах. Начиная от Корделла Хэлла, все государственные секретари, как один, высказывались на эту тему. Это был единственный пункт, по которому существовало согласие между Дином Ачесоном и Джоном Фостером Даллесом[850]. Геополитический анализ конкретных опасностей порождаемых коммунистическим завоеванием отдаленной страны, считался второстепенным перед лицом двух лозунгов: абстрактного противостояния агрессии и предотвращения дальнейшего распространения коммунизма. Победа коммунистов в Китае подкрепила убежденность творцов американской политики в том, что дальнейшее распространение коммунизма не может быть терпимо.
Документы по вопросам внешней политики и официальные заявления того периода показывают, что такого рода постулат воспринимался в основном без возражений. В феврале 1950 года, за четыре месяца до начала корейского конфликта, в документе 64 Совета национальной безопасности был сделан вывод, что Индокитай является «ключевым районом Юго-Восточной Азии и находится под непосредственной угрозой»[851]. Этот меморандум представлял собой дебют так называемой «теории домино», гласившей применительно к данному случаю, что если падет Индокитай, за ним вскоре последуют Бирма и Таиланд, и тогда «равновесие сил в Юго-Восточной Азии подвергнется серьезнейшей опасности»[852].
В январе 1951 года Дин Раек заявил, что «следование нынешнему курсу не на пределе возможностей окажется губительным для наших интересов в Индокитае, а вследствие этого — и во всей остальной части Юго-Восточной Азии»[853] В апреле предшествовавшего года в документе 68 Совета национальной безопасности делался вывод, что Индокитай ставит под угрозу глобальное равновесие сил: «...Любое дальнейшее значительное расширение господства Кремля в данном районе обусловило бы невозможность создать коалицию, противостоящую Кремлю превосходящими силами»[854].
Но соответствовало ли истине утверждение документа, будто бы любое достижение коммунизма в данном районе оказывалось в интересах Кремля, особенно с учетом наличия «югославской модели»? И имелся ли смысл в том, что включение Индокитая в состав коммунистического лагеря могло само по себе опрокинуть глобальное равновесие сил? Поскольку подобные вопросы не ставились, Америка так и не осознала той геополитической реальности, что в Юго-Восточной Азии она подходила к точке перехода глобальных обязательств в перенапряжение сил — то есть там происходило как раз то самое, против чего ранее предостерегал Уолтер Липпман (см. гл. 18).
На деле, однако, существовали различия в характере угрозы. В Европе главная угроза порождалась советской сверхдержавой. В Азии угроза американским интересам исходила от держав второстепенных, обладавших в лучшем случае лишь слабым подобием советской мощи, контроль СССР над которыми был — или должен был быть — весьма сомнительным. На самом же деле, как только разразилась война во Вьетнаме, Америке пришлось воевать с подобием подобия, каждое из которых глубочайшим образом не доверяло старшему партнеру. Согласно американскому анализу, глобальному равновесию сил угрожал Северный Вьетнам, предположительно контролируемый Пекином, а тот, в свою очередь, как представлялось, контролировался Москвой. В Европе Америка защищала исторически сложившиеся государства; в Индокитае Америка имела дело с обществами, которые в данных масштабах создавали государства впервые. Европейские нации имели давние традиции сотрудничества в области защиты сложившегося равновесия сил. В Юго-Восточной Азии государственность только возникала, концепция «равновесия сил» представлялась чуждой, а прецедента сотрудничества среди имеющихся государств попросту не существовало.
Столь фундаментальные геополитические различия между Европой и Азией, а также между американскими интересами в каждой из этих частей света, оказались погребенными под универсалистским, идеологизированным подходом Америки к вопросам внешней политики. Заговор в Чехословакии, блокада Берлина, испытания советской атомной бомбы, победа коммунистов в Китае и коммунистическое нападение на Южную Корею — все это было свалено американскими руководителями в одну кучу и воспринималось как единая угроза глобального характера, а то и как контролируемый из единого центра глобальный заговор. Согласно принципам «Realpolitik», Корейская война трактовалась бы в максимально узких рамках; зато манихейское восприятие этого конфликта Америкой срабатывало в противоположном направлении. Придавая Корее глобальное значение, Трумэн в дополнение к отправке туда американских войск объявил о значительном увеличении военной помощи Франции, которая вела тогда собственную войну против коммунистических партизан в Индокитае (именовавшихся тогда Вьет-Минем), и о направлении Седьмого флота на защиту Тайваня. Американские политики проводили аналогию между одновременным ударом Германии и Японии во второй мировой войне соответственно по Европе и Азии и маневрами Москвы и Пекина в 50-е годы, причем Советский Союз выступал в роли Германии, а Китай подменял Японию. В 1952 году треть французских расходов в Индокитае субсидировалась Соединенными Штатами.
Обращение Америки к Индокитаю вызвало к жизни совершенно новую с моральной точки зрения постановку вопроса. НАТО защищало демократические страны; американская оккупация Японии привела к появлению у этой нации демократических институтов; Корейская война велась для того, чтобы неповадно было покушаться на независимость малых стран. В Индокитае же, однако, сдерживание первоначально носило почти исключительно геополитический характер, что делало еще более затруднительным увязать этот случай с господствовавшей в Америке идеологией. С одной стороны, защита Индокитая откровенно противоречила американской традиции антиколониализма. В юридическом смысле все еще французские колонии, государства Индокитая не были ни демократическими, ни тем более независимыми. Хотя в 1950 году Франция преобразовала все эти три колонии — Вьетнам, Лаос и Камбоджу — в «ассоциированные государства, входящие во Французский Союз», новое их обозначение еще не свидетельствовало о наличии у них реальной независимости, поскольку Франция опасалась, что если этим территориям предоставить полный суверенитет, придется сделать то же самое и для трех североафриканских владений: Туниса, Алжира и Марокко.
Американские антиколониальные настроения времен второй мировой войны особенно остро сфокусировались на Индокитае. Рузвельт терпеть не мог де Голля и потому не принадлежал к числу обожателей Франции, особенно после ее краха в 1940 году. В продолжение войны Рузвельт носился с идеей передать Индокитай под опеку Организации Объединенных Наций[855], хотя, начиная с Ялты, он об этом плане молчал. А администрация Трумэна полностью от него отказалась, ибо жаждала французской поддержки в деле создания Атлантического союза.
В 1950 году администрация Трумэна решила, что для безопасности свободного мира требовалось не допустить попадания Индокитая в руки коммунистов, что на практике означало подчинение американских антиколониалистских принципов необходимости поддержки французской борьбы в Индокитае. Трумэн и Ачесон не видели иного выбора, ибо Объединенный комитет начальников штабов пришел к выводу, что американские вооруженные силы напряжены до предела вследствие одновременного выполнения ими обязательств по НАТО и Корее, и ничего нельзя выделить на защиту Индокитая, даже если туда вторгнется Китай[856]. И потому оставалось полагаться на Французскую армию, которая обязана была сдерживать индокитайских коммунистов при материальной и финансовой поддержке Америки. После победы в этой борьбе Америка намеревалась вернуться к собственным стратегическим и антиколониальным принципам и оказать давление в отношении предоставления этим территориям независимости.
Как потом выяснилось, первоначальная вовлеченность Америки в дела Индокитая еще в 50-е годы заложила основы для будущих обязательств: достаточно масштабных, чтобы Америка оказалась ими связана, но недостаточно существенных по объему, чтобы вмешательство Америки оказалось решающим. На ранних стадиях головоломки это было в основном результатом незнания реальных условий и почти полной невозможности проводить операции при наличии двух слоев французской колониальной администрации, а также бесчисленных местных властей, которые было позволено создавать так называемым ассоциированным государствам — Вьетнаму, Лаосу и Камбодже.
Не желая носить клеймо пособников колониализма, Объединенный комитет начальников штабов и государственный департамент старались защитить моральные линии обороны собственной страны путем оказания нажима на Францию, с тем чтобы та дала клятвенное обещание о предоставлении независимости[857]. Столь деликатный акробатический номер закончился тем, что дело целиком и полностью попало в руки государственного департамента, который выказал свою полную осведомленность обо всех связанных с этим сложностях тем, что назвал свою программу по Индокитаю операцией «Яичная скорлупа». К несчастью, в это название оказалось заложено гораздо больше пророческого смысла, ибо содержание ее приближало желанное решение весьма медленно. Идея заключалась в том, чтобы побудить Францию действовать в направлении предоставления независимости Индокитаю, в то же время настаивая на продолжении антикоммунистической войны[858]. Никто не способен был объяснить, с какой стати Франции рисковать жизнями своих граждан в войне, рассчитанной на то, чтобы сделать ее присутствие в этом районе необязательным.
Дин Ачесон, как всегда едко, прокомментировал эту дилемму. С одной стороны, заявил он, Соединенные Штаты могут «все растерять», если будут продолжать поддерживать «старомодные колониальные устремления» Франции; с другой стороны, если нажим окажется чересчур силен, Франция может полностью самоустраниться, приводя, к примеру, такой довод: «Ну, ладно, забирайте всю страну себе. Нам она не нужна»[859]. «Решение», избранное Ачесоном, оказалось лишь подтверждением уже наличествующих в американской политике противоречий: увеличить размер американской помощи Индокитаю и одновременно требовать от Франции и от поставленного ею местного правителя Бао Дая «привлечь националистов на свою сторону»[860]. Для разрешения этой дилеммы Ачесон никакого плана не предложил.
К тому времени как истекал срок пребывания у власти трумэновской администрации, уклонение от решительных действий превратилось в официальную политику. В 1952 году в документе Совета национальной безопасности «теория домино» получила формальное подтверждение и обрела максимально широкую трактовку. Называя военное нападение на Индокитай опасностью, «являющейся неотъемлемой частью самого факта существования враждебного и агрессивного коммунистического Китая»[861], документ настоятельно утверждал, будто потеря даже одной южноазиатской страны приведет «к относительно быстрому подчинению коммунистам или присоединению к коммунизму оставшихся стран Юго-Восточной Азии. Более того, скорее всего произойдет последовательное присоединение к союзу коммунистических стран не только прочих стран Юго-Восточной Азии и Индии, но и, в долгосрочном плане, стран Среднего Востока (где возможными исключениями могли бы стать разве что Пакистан и Турция)»[862].
Само собой разумеется, если бы этот расчет носил реалистический характер, крах такого рода обязательно представил бы угрозу для безопасности и стабильности Европы, а также «создал бы исключительные трудности для предотвращения постепенного приспособления Японии к коммунизму»[863]. Меморандум Совета национальной безопасности не содержал анализа, доказывающего, почему крах произойдет автоматически и будет носить столь глобальный характер. Самое главное, в нем не делалось попытки проработать вопрос, как можно было бы воздвигнуть брандмауэр на границах Малайи и Таиланда, стран, обладающих гораздо большей стабильностью, чем Индокитай, причем британских лидеров это обстоятельство приводило в восторг. Увы, европейские союзники Америки не разделяли ее перспективного видения грядущих опасностей и потому в будущем систематически отказывались от участия в защите Индокитая.
Вслед за этим анализом, из которого следовало, что в Индокитае зреет потенциальная катастрофа, началось использование средства, даже отдаленно не сопоставимого с сущностью проблемы, — да и вряд ли в данном случае этот образ действий можно было бы назвать «средством». Ибо патовая ситуация в Корее уничтожила — хотя бы на время — готовность Америки вести еще одну наземную войну в Азии. «Мы не можем позволить себе еще одной Кореи, мы не можем ввести сухопутные войска в Индокитай», — настаивал Ачесон. Ибо будет «напрасным и ошибочным защищать Индокитай в Индокитае»[864]. Столь загадочное по смыслу замечание должно было бы, по-видимому, означать, что коль скоро Индокитай и впрямь является препятствием на пути достижения глобального равновесия сил и коль скоро возмутителем спокойствия, по существу, является Китай, то Америке следует атаковать как раз Китай, по крайней мере, при помощи военно-воздушных и военно-морских сил, то есть совершить то самое, против чего Ачесон столь рьяно выступал применительно к Корее. При этом оставался открытым вопрос, как следует Америке поступать, если французы и их индокитайские союзники потерпят поражение от местных коммунистических сил, а не вследствие вступления в войну Китая. Если Ханой был подставным лицом Пекина, а Пекин — слугой Москвы, как в это верили и законодательная и исполнительная ветви власти, Соединенным Штатам придется делать выбор между геополитическим подходом и антиколониальными принципами.
Сегодня нам известно, что вскоре после победы в гражданской войне коммунистический Китай стал рассматривать Советский Союз как самую серьезную угрозу своей независимости и что исторически Вьетнам испытывал точно такой же страх перед Китаем. Поэтому победа коммунистов в Индокитае в 50-е годы, по всей вероятности, обострила бы все эти линии соперничества. Это также явилось бы вызовом Западу, но вовсе не как глобальный заговор, руководимый из единого центра.
С другой стороны, аргументы, содержавшиеся в меморандуме Совета национальной безопасности, были вовсе не столь легковесны, как это представлялось позднее. Даже в отсутствие заговора, носившего централизованный характер, «теория домино» все равно могла оказаться правильной. Мудрый и сообразительный премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю полагал именно так, а он благодаря ясности мышления обычно оказывался прав. В эпоху, непосредственно следовавшую после мировой войны, коммунизм все еще обладал значительным идеологическим динамизмом. Наглядная демонстрация банкротства его экономических идей, воплощенных на практике, состоится поколением позднее. Многие в демократических странах, не говоря уже о государствах, только что обретших независимость, полагали, что коммунистический мир неминуемо превзойдет мир капиталистический в экономическом отношении. Правительства многих только что обретших независимость стран были неустойчивы и находились под угрозой внутренних беспорядков и мятежей. В тот самый момент, когда был подготовлен меморандум Совета национальной безопасности, в Малайе коммунисты начали партизанскую войну.
Вашингтонские политики имели все основания опасаться захвата Индокитая движением, которое уже захлестнуло Восточную Европу и подчинило себе Китай. Независимо от того, была ли коммунистическая экспансия организована из единого центра или нет, она, похоже, обладала достаточной движущей силой, чтобы смести новые хрупкие нации Юго-Восточной Азии в антизападный лагерь. Вопрос на самом деле заключался не в том, выпадут ли определенные костяшки домино в Юго-Восточной Азии, что было бы вполне вероятно, но в том, можно ли отыскать лучшие места в регионе, где реально было бы провести ограничительную черту, — к примеру, вокруг тех стран, где политика и безопасность шли в большей степени рука об руку, как в Малайе и Таиланде. И конечно, вывод политического характера, сделанный Советом национальной безопасности, а именно, будто бы падение Индокитая заставит даже Европу и Японию поверить в то, что приливный натиск коммунизма нельзя повернуть вспять и соответственно ввести в русло, оказался чересчур далеко идущим.
Наследием Трумэна, доставшимся его преемнику Дуайту Д. Эйзенхауэру, оказались программа военной помощи Индокитаю на сумму порядка 200 миллионов долларов (то есть свыше миллиарда в долларах 1993 года) и стратегическая теория, все еще не имевшая под собой политической базы. Администрация Трумэна не была обязана обращать внимание на потенциальный разрыв между стратегической доктриной и моральными убеждениями или делать выбор между рациональной геополитикой и американскими возможностями. На Эйзенхауэра легла ответственность применительно к первой части дилеммы; на Кеннеди, Джонсона и Никсона — применительно ко второй.
Администрация Эйзенхауэра не ставила под сомнение унаследованные ею обязательства по обеспечению Америкой безопасности Индокитая. Она стремилась примирить стратегическую доктрину с собственными моральными принципами посредством усиления давления в сторону реформ в Индокитае. В мае 1953 года, то есть через четыре месяца после принятия президентской присяги, Эйзенхауэр настоятельно потребовал от американского посла во Франции Дугласа Диллона оказать нажим на французов, чтобы те назначили новых руководителей, достаточно авторитетных, чтобы «добиться победы» в Индокитае, и одновременно сделали «четкие и недвусмысленные заявления публичного характера, повторяемые по мере надобности», что независимость будет предоставлена, «как только налицо будет победа над коммунизмом»[865]. В июле Эйзенхауэр пожаловался сенатору Ральфу Фландерсу, что обещания французского правительства в отношении предоставления независимости сделаны «в столь туманной и обтекаемой манере — вместо того чтобы прозвучать смело, прямо и настойчиво»[866].
Ибо для Франции вопрос давно уже вышел за рамки политической реформы. Ее вооруженные силы в Индокитае уже давно увязли в изматывающей партизанской войне, опыта ведения которой у них вообще не было. В обычной войне с установившейся линией фронта превосходящая огневая мощь обычно играет первую скрипку. В противоположность этому партизанская война, как правило, не ведется на заранее подготовленных позициях, а партизанская армия растворяется среди населения. В обычной войне речь идет о территории, в партизанской — о безопасности людей. Поскольку партизанская армия не привязана к защите конкретной территории, она вправе сама определять для себя потенциальное поле боя со значительной степенью широты выбора и регулировать людские потери с обеих сторон.
В традиционной войне семидесятипятипроцентный успех является гарантией победы. В партизанской войне защита населения в течении 75 % времени равняется поражению. Стопроцентная защита на семидесяти пяти процентах территории значительно лучше семидесятипроцентной защиты на ста процентах территории страны. Если обороняющиеся силы не могут обеспечить практически полной безопасности для населения — хотя бы на тех территориях, которые они считают для себя жизненно важными, — партизаны рано или поздно победят.
Базовое уравнение партизанской войны столь же просто, сколь сложно его воплотить на практике: партизанская армия побеждает столько раз, сколько раз она не терпит поражения; обычная армия обречена на поражение, если не одержит решительной победы. Патовая ситуация почти никогда не имеет места. Любая страна, вовлеченная в партизанскую войну, должна приготовиться к длительной схватке. Партизанская армия может применять тактику кратковременных набегов в течение достаточно продолжительного времени, даже если ее силы все время убывают. Наглядная и безоговорочная победа случается крайне редко; успешная партизанская война обычно продолжается достаточно долго. Наиболее примечательными являются примеры победы над партизанскими силами в Малайе и Греции, где обороняющиеся одержали верх, поскольку партизаны оказались отрезаны от источников снабжения (в Малайе — в силу причин географического характера, в Греции — вследствие разрыва Тито с Москвой).
Ни французская, ни американская армии так и не разрешили загадку партизанской войны. И та и другая вели, каждая в свое время, единственно понятную для себя войну, которой их обучали и для которой их оснащали, — классическую, обычную войну, боевые действия в которой основывались на наличии четко очерченных линий фронта. Обе эти армии, полагаясь на превосходство огневой мощи, стремились вести войну на истощение. Но обе увидели, как эта стратегия обернулась против них самих по воле противника, который, ведя боевые действия в собственной стране, способен был измотать их своей стойкостью и выдержкой и побудить к прекращению конфликта. Потери росли, а критерии успеха оставались зыбкими.
Франция признала поражение гораздо быстрее, чем Америка, поскольку ее войска были распределены более или менее равномерно и потому весьма неплотно. Она не могла охватить ими территорию всей страны, причем по численности эти войска составляли треть сил, направленных потом Америкой для зашиты лишь половины этой территории. Франция металась точно так же, как через десять лет Америка: стоило сконцентрировать армию вокруг крупных населенных пунктов, как коммунисты овладевали почти всей сельской местностью; когда же войска направлялись на защиту сельской местности, коммунисты начинали нападения на города и форты по очереди. Во Вьетнаме было что-то такое, отчего туманился разум у попадавших туда иностранцев. По странной прихоти судьбы для французов развязка вьетнамской войны наступила на пересечении дорог в местечке, именуемом Дьенбьенфу, расположенном в отдаленном северо-западном уголке Вьетнама неподалеку от лаосской границы. Франция направила туда отборные войска в надежде заставить коммунистов вести войну на истощение, но по ходу дела загнала себя в тупик и исключила возможность победы. Если бы коммунисты пренебрегли французскими маневрами, войска понапрасну бы очутились на позициях, отдаленных от районов, имеющих хотя бы какое-то стратегическое значение. Если бы коммунисты ухватили приманку, единственной мотивацией подобного поведения оказалась бы вера в возможность решительной победы. Франция свела все варианты выбора к неопределенности или поражению.
Французы в значительной степени недооценили стойкость и изобретательность своих противников, точно так же, как и американцы десятилетием позднее. 13 марта 1954 года северовьетнамцы начали общее наступление на Дьенбьенфу, и уже в ходе начальной стадии атаки им удалось овладеть двумя передовыми фортами, предположительно господствовавшими над возвышенностью. Им удалось это сделать благодаря использованию артиллерии, о существовании которой никто не подозревал и которая была поставлена Китаем по окончании Корейской войны. С этого момента стало лишь вопросом времени, когда остатки французских сил будут уложены навек. Истощенное собственноручно развязанной войной на измор, не видящее смысла в военных действиях лишь ради того, чтобы потом под давлением американцев уйти из страны, французское правительство в конце концов приняло советское предложение провести в апреле того же года в Женеве конференцию по Индокитаю.
Неминуемость конференции заставила коммунистов усилить военный натиск и вынудила администрацию Эйзенхауэра сделать выбор между теорией и возможностями. Падение Дьенбьенфу вынуждало Францию уступить значительную часть Вьетнама, если не всю его территорию, коммунистам. Ибо Дьенбьенфу можно было бы спасти лишь такого рода эскалацией военных усилий Франции, на которое у страны уже не было ни ресурсов, ни воли. Теперь Соединенным Штатам предстояло решить, подкрепить ли «теорию домино» непосредственным военным вмешательством.
И когда начальник Генерального штаба Франции генерал Поль Эли посетил 23 марта Вашингтон, адмирал Артур Рэдфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, дал ему понять, что он бы рекомендовал нанести массированный удар с воздуха по коммунистическим позициям в окрестностях Дьенбьенфу—возможно, даже с применением ядерного оружия. Даллес, однако, был слишком большим приверженцем идеи коллективной безопасности, чтобы рассматривать подобный шаг, не подкрепив его в какой-то мере дипломатически. В программной речи 29 марта 1954 года он на деле настаивал на совместных военных действиях по спасению Индокитая от коммунизма, приводя при этом классический довод школы противников умиротворения, а именно, что отказ от немедленных действий повлечет за собой гораздо дороже обходящиеся действия в процессе разворота событий:
«...Навязывание Юго-Восточной Азии политической системы коммунистической России и ее китайского коммунистического союзника представляло бы собой острейшую угрозу всему свободному миру. Соединенные Штаты ощущают, что подобного рода возможность не может быть воспринята пассивно, но должна быть встречена совместными действиями. Это может повлечь за собой рискованнейшие последствия, но они намного слабее, чем те, перед лицом которых мы окажемся через несколько лет, если не осмелимся на решительные действия сегодня...»[867]
Под знаменем «совместных действий» Даллес предложил организовать коалицию в составе Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Австралии и объединенных государств Индокитая для прекращения коммунистического распространения в Индокитае. Его поддержал Эйзенхауэр в деле призыва к коллективным действиям, хотя он, бесспорно, отвергал интервенцию, а не пропагандировал ее. Начальник штаба у Эйзенхауэра Шерман Адаме так описывал поведение президента: «Уже избежав одной тотальной войны с Красным Китаем год назад в Корее, где он [Эйзенхауэр] пользовался поддержкой Организации Объединенных Наций, он был не в настроении провоцировать подобного же рода войну в Индокитае... при отсутствии опоры в виде британского и других западных союзников»[868].
Эйзенхауэр явился живым воплощением странного феномена американской политики, когда президенты, внешне выглядевшие наиболее цельными, на поверку выступают, как личности наиболее сложные и противоречивые. В этом смысле Эйзенхауэр был предшественником Рональда Рейгана, ибо ему удавалось скрыть исключительное умение манипулировать под покровом простоты и доступности. Как это будет через два года в связи с Суэцем и позднее в связи с Берлином, слова Даллеса как бы намекали на проведение жесткой линии — в данном случае на воплощение в жизнь плана воздушных ударов, предложенного Рэдфордом, или какого-либо его варианта. Эйзенхауэр же почти наверняка предпочел бы обойтись без военного вмешательства вообще. Он слишком хорошо знал военное дело, чтобы поверить, будто единичный воздушный удар может иметь решающее значение, а к идее массированного возмездия по отношению к Китаю (что являлось официальной стратегией) относился более чем сдержанно. И у него не было настроения вести продолжительную наземную войну в Юго-Восточной Азии. Более того, Эйзенхауэр обладал достаточным опытом коалиционной дипломатии, чтобы понимать, насколько невероятно добиться договоренности о «совместных действиях» за то время, когда еще можно было бы решить судьбу Дьенбьенфу. Эйзенхауэру это обстоятельство, бесспорно, обеспечивало удобный вариант выхода, ибо он предпочитал потерю Индокитая клейму приверженца колониализма, которое бы было наложено на Америку. В неопубликованном разделе мемуаров он писал:
«...Положение Соединенных Штатов как самой мощной антиколониальной державы является бесценным активом для всего свободного мира... И потому моральную позицию Соединенных Штатов следовало защищать гораздо сильнее, чем Тонкинскую дельту, а то и Индокитай в целом»[869].
Но, независимо от личных предубеждений, Даллес и Эйзенхауэр предприняли всевозможные усилия, чтобы договориться о совместных действиях. 4 апреля 1954 года Эйзенхауэр в пространном письме обращался к Черчиллю, бывшему тогда последний год премьер-министром:
«Если они [во Франции] проморгают все это и Индокитай попадет в руки коммунистов, итоговые последствия для нашей и вашей глобальной позиции стратегического плана с учетом последующего сдвига в соотношении сил как по всей Азии, так и на Тихом океане, могут оказаться катастрофическими и, насколько мне известно, неприемлемыми ни для вас, ни для меня. Трудно представить себе, как тогда можно будет предотвратить переход Таиланда, Бирмы и Индонезии в руки коммунистов. Этого мы допустить не можем. Угроза Малайе, Австралии и Новой Зеландии станет непосредственной. Разорвется цепь прибрежных островов. Экономическое давление на Японию, которая лишится некоммунистических рынков и источников сырья и продуктов питания, окажется через некоторое время таким, что трудно будет предугадать, как Японии удастся уйти от сотрудничества с коммунистическим миром, который тогда в состоянии будет объединить людские ресурсы и природные богатства Азии с промышленным потенциалом Японии»[870].
Черчилля, однако, это не убедило, и Эйзенхауэр больше не делал попыток привлечь его на свою сторону. Даже будучи ревностным приверженцем так называемых «особых отношений» с Америкой, Черчилль был прежде всего англичанином и видел в связи с Индокитаем больше опасностей, чем грядущих выгод. Он не признавал истинности предположения, будто костяшки домино откроются с неумолимой обязательностью или будто потеря одной колониальной территории автоматически повлечет за собой глобальную катастрофу.
Черчилль и Антони Иден полагали, что наилучшим местом для защиты Юго-Восточной Азии являются границы Малайи; Черчилль потому направил ни к чему не обязывающий ответ, что Иден передаст решение кабинета Даллесу, намеревавшемуся вылететь в Лондон. Уход Черчилля от сути дела не оставлял ни малейших сомнений относительно того, что Великобритания ищет способы смягчить удар в связи с отказом участвовать в совместных действиях. Если бы новости были благоприятны, Черчилль бы, безусловно, сообщил их сам. Более того, нелюбовь Идена к Даллесу уже стала притчей во языцех. Еще до прибытия государственного секретаря Иден «полагал нереалистичным ожидать, будто непобежденному противнику могут быть навязаны условия, какие мог бы выработать только победитель»[871].
26 апреля Черчилль выразил свою озабоченность лично адмиралу Рэдфорду, прибывшему в Лондон. Согласно официальным отчетам, Черчилль сделал предупреждение относительно «войны на окраинах, где русские сильны и способны пробудить энтузиазм националистически настроенных угнетенных народов»[872]. И действительно, не существовало политически разумных побудительных мотивов для участия Великобритании в мероприятии, которое Черчилль обрисовал следующим образом:
«На британский народ не произведет особенного впечатления то, что происходит в отдаленных джунглях Ю.-В. Азии; но зато им известно, что существует мощная американская база в Восточной Англии и что война с Китаем, которая приведет в действие китайско-советский пакт, может означать удар водородными бомбами по этим островам»[873].
Что самое главное, такая война обратила бы в прах заветную мечту старого воина, осуществление которой он задумал воплотить в жизнь в последний год своего пребывания у власти, — провести встречу на высшем уровне с постсталинским руководством, «рассчитанную на то, чтобы довести до сознания русских полное представление о силе Запада и чтобы до них дошло, каким безумием явилась бы война»[874] (см. гл. 20).
Но к этому моменту уже прошло достаточно времени, так что, независимо от решения Великобритании, совместные действия уже не могли спасти Дьенбьенфу, ибо он пал 7 мая, хотя в это время дипломаты уже вели переговоры по поводу Индокитая в Женеве. Как это часто бывает в тех случаях, когда заходит речь о коллективной безопасности, организация совместных действий превратилась в своеобразное алиби для ничегонеделания.
Дебаты по поводу интервенции в Дьенбьенфу показали прежде всего, что вьетнамская политика начинает становиться путаной и возрастают трудности сведения воедино геополитического анализа, стратегической доктрины и моральных убеждений. И если действительно коммунистическая победа в Индокитае заставит костяшки домино раскрыться на всем пространстве от Японии до Индонезии, как Эйзенхауэр предсказывал в письме Черчиллю и на пресс-конференции 7 апреля, Америке пришлось бы подвести черту независимо от реакции других стран, тем более что военный вклад потенциальных участников совместных действий все равно оказался бы в значительной степени чисто символическим. Хотя коллективные усилия были бы предпочтительнее, они, безусловно, не были предварительным условием для зашиты глобального равновесия сил, если бы таковое на самом деле оказалось под угрозой. С другой стороны, примерно тогда же, когда администрация пыталась организовать коллективные действия, она сменила военную доктрину, выдвинув принцип «массированного возмездия». Предполагая удар по источнику агрессии, эта доктрина на практике означала войну с Китаем по поводу Индокитая. И все же не было в наличии ни морального, ни политического обоснования воздушным ударам против страны, лишь косвенно участвующей во вьетнамской войне, причем ради дела, которое Черчилль назвал в беседе с Рэдфордом периферийным по масштабу, но достаточно опасным. Какой же в таком случае смысл излишне долго занимать им общественное мнение?
Вне всякого сомнения, постсталинские лидеры Кремля с огромной неохотой ввязались бы, находясь первый год у власти, в конфронтацию с Америкой из-за Китая. Однако поскольку военные руководители Америки были не в состоянии либо назвать примерные цели массированного возмездия против Китая (или в данном случае против Индокитая), либо обрисовать возможный результат и поскольку независимость Индокитая была только в проекте, не существовало никакого реалистического обоснования для интервенции. Эйзенхауэр мудро откладывал военное противостояние на потом, пока не будет достигнута гармония между отдельными линиями американского подхода к этому вопросу. К сожалению, и через десять лет гармония не была достигнута, и все же Америка, пренебрегая масштабностью стоящей перед нею задачи, уверенно взялась за осуществление предприятия, которое Франция провалила столь позорно. Поскольку американской интервенции опасались как Советский Союз, так и Китай, проводимая Эйзенхауэром — Даллесом дипломатия скрытых угроз способствовала принятию на Женевской конференции таких решений, которые на поверку оказались гораздо лучше, чем могла бы диктовать ситуация, сложившаяся на полях наземных сражений. Женевские соглашения, подписанные в июле 1954 года, предусматривали разделение Вьетнама по линии семнадцатой параллели. Чтобы держать путь к объединению страны открытым, линия разделения была названа не «политической границей», но административной мерой для облегчения перегруппировки вооруженных сил перед проведением выборов под международным контролем. Они должны были состояться в течение двух лет. Все посторонние силы надлежало вывести с территорий трех индокитайских государств в течение трехсот дней; запрещалось создавать на этих территориях иностранные базы, а также вступать с другими странами в военный союз.
Если раскладывать по полочкам различнейшие условия и положения, то может создаться ложное впечатление, будто бы Женевские соглашения носили официальный и жесткий характер. Различные части соглашения были скреплены множеством подписей, но там не было договаривающихся сторон, а следовательно, «коллективных обязательств»[875]. Ричард Никсон так суммарно охарактеризовал всю эту кашу: «Девять стран собрались на конференцию и произвели на свет шесть односторонних деклараций, три двухсторонних соглашения о прекращении огня и одно неподписанное заявление».[876]
Все это вместе взятое означало, что найден способ покончить с военными действиями, разделить Вьетнам и оставить политические решения на будущее. Любительский анализ часто трактует двусмысленность подобных соглашений как наглядное доказательство непоследовательности или двоедушия участников переговоров — подобное обвинение позднее было навещено в качестве ярлыка на Парижские мирные соглашения 1973 года. Увы, в большинстве случаев двусмысленные документы, подобные Женевским соглашениям, являются отражением реального положения дел; они урегулируют лишь то, что можно урегулировать, причем стороны полностью отдают себе отчет в том, что дальнейшая шлифовка договоренностей возможна лишь при новом повороте событий. Иногда интерлюдия позволяет новому политическому созвездию воссиять на небесах безо всяких конфликтов; иногда конфликт разгорается вновь, и это вынуждает каждую из сторон пересмотреть принятые на себя обязательства.
В 1954 году возникла неловкая пауза, которую пока что ни одна из сторон не в состоянии была прервать. Советский Союз не был готов к конфронтации так скоро после смерти Сталина, и национальные интересы его в Юго-Восточной Азии были чисто символическими; Китай опасался новой войны с Америкой менее чем через год по окончании корейского конфликта (особенно в свете новой американской доктрины «массированного возмездия»); Франция находилась в процессе ухода из региона; Соединенным Штатам недоставало ни разработанной стратегии, ни поддержки со стороны общественного мнения, чтобы решиться на интервенцию; а вьетнамские коммунисты еще не были достаточно сильны, чтобы продолжать войну, не имея внешних источников снабжения.
В то же время достигнутое на Женевской конференции соглашение ничуть не изменило основополагающие взгляды ее участников. Администрация Эйзенхауэра так и не отказалась от прежнего убеждения, будто Индокитай является ключом к азиатскому — а возможно, и глобальному — равновесию сил; не отказалась она и от самой идеи интервенции как таковой, не устраивала ее только интервенция на стороне колониальной Франции. А Северный Вьетнам не отказался от ранее поставленной перед собой цели объединить весь Индокитай под властью коммунистов, ради чего его руководители сражались два десятилетия. Новое советское руководство продолжало приносить клятвы верности делу классовой борьбы в международном масштабе. С точки зрения доктрины, Китай выступал как самая радикальная из коммунистических стран, хотя, как стало известно через несколько десятилетий, его идеологические убеждения преломлялись через призму собственных национальных интересов. Китайское же понимание собственных национальных интересов таило в себе глубинные противоречия, ибо речь шла о возникновении на южной границе крупной державы, пусть и вследствие объединения Вьетнама под коммунистическим руководством.
Даллес умело маневрировал среди всех этих хитросплетений. Почти наверняка он предпочел бы военное вмешательство и разгром коммунизма даже на Севере. К примеру, 13 апреля 1954 года он заявил, что «удовлетворительным» результатом был бы полный уход коммунистов из Вьетнама[877]. Вместо этого он очутился на конференции, стремящейся придать законность правлению коммунистов в Северном Вьетнаме, что, в свою очередь, позволило бы коммунистическому влиянию распространиться на весь Индокитай. Ведя себя, как «пуританин, попавший в дом с дурной славой»[878], Даллес попытался выработать такое урегулирование, которое, «будучи предметом наших забот и раздумий», оказалось бы, однако, «свободным от французского колониального клейма»[879]. Впервые за все время американской вовлеченности во Вьетнаме совпали стратегический анализ и моральная убежденность. Даллес определил задачу, стоящую перед Америкой, как «выработку решений, которые помогут нациям региона мирно пользоваться плодами территориальной целостности и политической независимости при стабильных и свободно избранных правительствах, имея при этом возможность развивать и укреплять собственную экономику»[880].
Непосредственная трудность, само собой, заключалась в том, что Соединенные Штаты отказались принять официальное участие в Женевской конференции. Они пытались одновременно присутствовать и отсутствовать — в достаточной степени пребывать на сцене, чтобы подкреплять свои принципы, и в то же время в достаточной степени находиться в стороне, чтобы избежать домашних упреков по поводу отказа хотя бы от некоторых из них. Двусмысленность поведения Америки лучше всего проявляется в заключительном заявлении, где провозглашалось, что Соединенные Штаты «принимают к сведению» положения окончательных деклараций и «воздержатся от угрозы применения силы, равно как и от собственно ее применения, ради их нарушения». Одновременно заявление предостерегало, что «они будут рассматривать любое возобновление агрессии в нарушение вышеуказанных договоренностей с серьезной озабоченностью и будут полагать это серьезной угрозой международному миру и безопасности»[881]. Я не знаю другого такого случая за всю историю дипломатии, когда бы нация гарантировала урегулирование, под которым она отказалась подписаться и по поводу которого имела столь серьезные оговорки.
Даллес не сумел предотвратить коммунистическую консолидацию в Северном Вьетнаме, но понадеялся, что предотвратит выпадение соответствующих костяшек домино в остальном Индокитае. Перед лицом того, что он с Эйзенхауэром называл двойной угрозой колониализма и коммунизма, он выбросил за борт французский колониализм и с той поры развязал себе руки в деле сдерживания коммунизма. Он считал достоинством Женевских соглашений создание политической основы, позволившей найти гармонию между политическими и военными задачами Америки и обеспечившей правовой фундамент для отражения дальнейших атак коммунизма.
Со своей стороны коммунисты были озабочены созданием собственной системы правления к северу от семнадцатой параллели, причем эту задачу они решали с характерным для себя остервенением, убив по меньшей мере 50 тыс. человек и заключив еще 100 тыс. в концентрационные лагеря. От 80 до 100 тысяч коммунистических партизан переместились на Север, а почти миллион северовьетнамцев обратились в бегство, направившись в Южный Вьетнам, где Соединенные Штаты открыли в Нго Динь Дьеме лидера, которого можно поддерживать. У него оказалась ничем не запятнанная репутация националиста; к сожалению, преданность демократии к числу его достоинств не относилась.
Мудрое решение Эйзенхауэра не связываться в 1954 году с Вьетнамом оказалось тактическим, а не стратегическим. После Женевы и он и Даллес оставались при своем мнении, будто бы Индокитай имеет решающее стратегическое значение. В то время как Индокитай сам собою отпал, Даллес навел последний глянец на систему коллективной безопасности, которая так и не сработала в начале года. Организация Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), появившаяся на свет в сентябре 1954 года, состояла, в дополнение к Соединенным Штатам, из Пакистана, Филиппин, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и Франции. Зато у нее не было ни общей политической цели, ни средств для взаимной поддержки. Да и страны, отказавшиеся вступить в СЕАТО, были гораздо значительнее, чем члены этой организации. Индия, Индонезия, Малайя и Бирма предпочли обрести безопасность посредством нейтрализма, а Женевские соглашения запрещали всем трем государствам Индокитая вступать в какие бы то ни было союзы. Что же касается европейских союзников Америки — Великобритании и Франции, — то они не стремились рисковать ради региона, откуда их только что вытеснили. И наверняка Франция, а в меньшей степени и Англия потому вступили в СЕАТО, чтобы приобрести право вето на случай, как они полагали, потенциально опрометчивых американских инициатив.
Формальные обязательства, предусмотренные договором о создании СЕАТО, носили весьма туманный характер. Требуя от договаривающихся сторон ответить на «общую опасность» при помощи своих «конституционных процедур», договор вовсе не устанавливал ни критериев определения общей опасности, ни механизма, обеспечивающего совместные действия в отличие от НАТО. Тем не менее СЕАТО отвечало намерениям Даллеса, обеспечивая юридические рамки для зашиты Индокитая. Вот почему, как это ни странно, СЕАТО гораздо более конкретно трактует понятие коммунистической агрессии против трех наций Индокитая — которым участие в договоре запрещено Женевскими соглашениями, чем понятие коммунистического нападения на страны — участницы договора. Отдельным протоколом угрозы Лаосу, Камбодже и Южному Вьетнаму определялись, как угрожающие миру и безопасности договаривающихся сторон, что, по сути дела, являлось односторонней гарантией[882].
Теперь все зависело от того, превратятся ли новые государства Индокитая, особенно Южный Вьетнам, в полноценно функционирующие нации. Ни одна из них еще никогда не управлялась, как политически единое образование, в рамках существующих границ. Древней столицей империи был город Гуэ. Французы разделили Вьетнам на три области: Тонкий, Аннам и Кохинхину, — соответственно управляемые из Ханоя, Гуэ и Сайгона. Территории вокруг Сайгона и в дельте реки Меконг были колонизованы вьетнамцами сравнительно недавно, лишь в XIX веке, причем почти одновременно с приходом французов. Существующая власть представляла собой комбинацию из чиновников, прошедших обучение во Франции, и мешанины тайных обществ — так называемых сект, — часть которых обладала религиозными связями, но которые все без исключения занимались самообеспечением и поддержкой автономного статуса за счет вытряхивания средств из населения.
Новый правитель Дьем был сыном чиновника при императорском дворе в Гуэ. Получив образование в католических учебных заведениях, он в течение ряда лет работал чиновником колониальной администрации в Ханое, но ушел в отставку, когда французы отказались проводить в жизнь некоторые из предложенных им реформ. Последующие два десятилетия он провел в собственной стране, как ученый-отшельник, а также в качестве добровольного изгнанника за рубежом, в основном в Америке, отказываясь от предложений японцев, коммунистов • и поддерживаемых французами вьетнамских лидеров войти в состав различных правительств.
Лидеры так называемых освободительных движений, как правило, не обладают демократическими устремлениями, ибо они в течение долгих лет изгнания и тюрем поддерживали себя видениями будущих преобразований, которые они осуществят, стоит только им прийти к власти. Смирение редко принадлежит к числу их личных качеств; ибо тогда они бы не были революционерами. Создание правительства, руководитель которого был бы сменяем — а в этом и состоит сущность демократии, — представляется для большинства из них неразрешимым противоречием. Лидеры борьбы за независимость стремятся быть героями, а в обществе героев, как правило, неуютно.
Черты личности Дьема сформировались под влиянием конфуцианской политической традиции Вьетнама. В отличие от теории демократии, согласно которой истина рождается в столкновении мнений, конфуцианство утверждает, что истина объективна и может быть познана лишь путем упорных занятий и посредством получения образования, на что способны лишь весьма немногие. При поиске истины противоречащие друг другу идеи вовсе не рассматриваются как равнозначные, что характерно для теории демократии. Поскольку существует одна-единственная истина, то, что не является истиной, не может претендовать на признание и не может обрести силу, соперничая с другими мнениями. Конфуцианство по сути иерархично и элитарно, оно делает упор на верность семье, лояльность по отношению к государственным установлениям и авторитету. Ни одно из обществ, находящихся под влиянием этой идеологии, пока еще не породило нормально функционирующей плюралистической системы (ближе всего к ней в 90-е годы подошел Тайвань).
В 1954 году в Южном Вьетнаме почти не существовало фундамента для формирования нации и еще меньше — для демократии. Но ни в американских стратегических расчетах, ни в проектах спасения Южного Вьетнама посредством демократических реформ эти реалии не были приняты во внимание. С энтузиазмом невинных младенцев администрация Эйзенхауэра с головой окунулась в дело защиты Южного Вьетнама от коммунистической агрессии и в организацию национального строительства ради того, чтобы дать возможность обществу, культура которого резко отличается от американской, сохранить только что обретенную независимость и воплотить на практике принципы свободы в американском смысле слова.
Даллес настаивал на безоговорочной поддержке Дьема на том основании, что это «единственная годная лошадка». В октябре 1954 года Эйзенхауэр, превратив необходимость в добродетель, написал Дьему, пообещав ему помощь, обусловленную уровнем «мероприятий... по проведению необходимых реформ». Американская помощь «будет соотноситься» со степенью независимости Вьетнама, в зависимости от «наличия у него сильного правительства... идущего навстречу националистическим чаяниям своего народа» и вызывающего уважение к себе как внутри страны, так и за рубежом[883].
В течение ряда лет все, казалось, встало по местам. К концу срока пребывания у власти администрации Эйзенхауэра Соединенные' Штаты передали Южному Вьетнаму в виде помощи свыше одного миллиарда долларов; в Южном Вьетнаме находился американский персонал в количестве 1500 человек, а посольство Соединенных Штатов в Сайгоне стало одной из крупнейших дипломатических миссий мира. Американская военно-консультативная группа, состоявшая из 692 человек, превзошла все лимиты, установленные Женевскими соглашениями для иностранного военного персонала[884].
Вопреки ожиданиям и благодаря массивной американской помощи разведывательного характера, Дьем подавил деятельность тайных обществ, стабилизировал экономику и сумел поставить все под контроль центральной власти — то есть добился потрясающих достижений, что было хорошо воспринято в Америке. После поездки во Вьетнам в 1955 году сенатор Майк Мэнсфилд докладывал, что Дьем олицетворяет «неподдельный национализм» и взялся «за, казалось бы, проигранное дело свободы, вдохнув в него новую жизнь»[885]. Сенатор Джон Ф. Кеннеди согласился с тем, что Америка строит свою вьетнамскую политику, опираясь на двойной фундамент, — безопасность и демократию, и называл Вьетнам не просто краеугольным камнем безопасности Юго-Восточной Азии, но «испытательным полигоном демократии в Азии»[886].
События вскоре показали, что Америка праздновала лишь затишье перед новой коммунистической бурей. Предположение Америки относительно того, что ее уникальный сорт демократии вполне годится на экспорт, оказалось ложным. На Западе политический плюрализм достиг своего расцвета в многосоставных обществах, где общественный консенсус уверенно и прочно присутствует уже в течение достаточно длительного времени, обеспечивая терпимость к оппозиции и не ставя этим под угрозу жизнеспособность государства. Но там, где нацию только предстоит создать, оппозиция может оказаться угрозой самому национальному существованию, особенно когда отсутствует гражданское общество, выступающее в роли страховочной сетки. При данных обстоятельствах сильным, и даже всеподавляющим, является искушение ставить знак равенства между оппозицией и предательством.
Все тенденции такого рода в партизанской войне усиливаются многократно. Ибо стратегия партизан заключается в том, чтобы подорвать единство, уже достигнутое при помощи институтов управления. Во Вьетнаме партизанская деятельность никогда не прекращалась, а в 1959 году она вышла на новые рубежи. Любимыми объектами нападения стали худшие и лучшие правительственные чиновники. Нападения на худших производились ради завоевания популярности и симпатий посредством «наказания» продажных или притесняющих население чиновников; нападения на лучших производились потому, что это был наиболее эффективный путь помешать правительству приобрести облик законности и сорвать эффективное функционирование гражданских служб общенационального характера.
По состоянию на 1960 год, ежегодно уничтожалось 2500 южновьетнамских официальных лиц[887]. Лишь небольшое количество подвижников идеи и гораздо большее количество самых продажных готовы были пойти на риск. И так как для реформ требовалось значительно больше времени, чем для того, чтобы погрузить страну в хаос, то, даже если бы Дьем был реформатором американского типа, сомнительно, успел бы он осуществить свои начинания. Но, по правде говоря, даже если бы его страна не погрязла в пучине партизанской войны, Дьем не смог бы себя показать демократичным лидером. Будучи мандарином, он брал за образец правителя-конфуцианца, правящего в силу добродетели, а не консенсуса, и благодаря успеху добившегося законности собственного правления, то есть «мандата небес». Дьем инстинктивно отшатывался от самой концепции наличия законной оппозиции, как, впрочем, и все руководители китайского стиля, от Пекина до Сингапура, и почти все руководители в Юго-Восточной Азии, испытывавшие гораздо меньшие внутренние затруднения. Какое-то время достижения Дьема в области национального строительства уводили на задний план медленные темпы проведения демократических реформ. Однако по мере того, как снижался уровень внутренней безопасности в Южном Вьетнаме, скрытый конфликт между американскими ценностями и южновьетнамскими традициями не мог не обостриться.
Несмотря на строительство под эгидой Америки южновьетнамских вооруженных сил, степень безопасности внутри страны все более и более снижалась. Американские военные, как и все американские политические реформаторы, исходили в своей деятельности из уверенности в собственных силах. И те и другие не сомневались, что найдут какую-нибудь панацею успеха для этой разрываемой на части страны, географически и культурно далекой от Соединенных Штатов. Вьетнамскую армию они создавали наподобие собственной. Американские вооруженные силы были подготовлены к войне в Европе; единственным их опытом в развивающемся мире была Корея, где перед ними стояла задача сражаться при всеобщей поддержке населения с армией в обычном смысле слова, пересекшей международно признанную демаркационную линию, то есть ситуация была весьма похожа на предполагаемое специалистами по военному планированию положение в Европе. Но во Вьетнаме война велась в отсутствие четких линий фронта; враг, снабжаемый из Ханоя, ничего не защищал и нападал по собственному усмотрению; он был одновременно везде и нигде.
С того момента, как американский военный истэблишмент обосновался во Вьетнаме, начали применяться знакомые ему методы ведения войны: акцент делался на огневой мощи, механизации и мобильности. Все эти методы во Вьетнаме были неприменимы. Обученная американцами южновьетнамская армия вскоре оказалась в той же ловушке, в которой десятилетие назад очутились французские экспедиционные силы. Война на истощение срабатывает лишь против такого противника, который принужден защищать что-то для себя ценное. Но партизаны редко обладают чем-то ценным, что стоило бы защищать. Механизация и дивизионная структура делали вьетнамскую армию почти непригодной для вооруженной защиты собственной страны.
На ранней стадии американского присутствия во Вьетнаме партизанская война находилась еще во младенчестве, и военные проблемы не приобрели пока что господствующего характера. И потому казалось, что имеет место подлинный прогресс. И лишь к концу срока пребывания администрации Эйзенхауэра у власти Ханой запустил партизанскую войну на полную мощность. Причем должно было еще пройти определенное время, прежде чем северовьетнамцы сумели создать и наладить систему снабжения, питающую крупномасштабную партизанскую войну. Для достижения этой цели они вторглись в Лаос, маленькую, мирную, нейтральную страну, через которую они проложили то, что стало потом называться «тропой Хо Ши Мина».
Когда Эйзенхауэр готовился к передаче дел, главным предметом его забот был Лаос. В своей книге «Борьба за мир» он называл эту страну стержнем «теории домино»:
«...Падение Лаоса вследствие захвата коммунистами означало бы последовательное падение — по мере выпадания сочетающихся друг с другом костяшек домино — все еще свободных соседей: Камбоджи и Южного Вьетнама, а также, по всей вероятности, Таиланда и Бирмы. Такая цепь событий открыла бы дорогу коммунистическому захвату всей Юго-Восточной Азии»[888].
Эйзенхауэр полагал независимость Лаоса до такой степени критически важным фактором, что готов был «воевать... совместно с союзниками или без них»[889]. Защита Лаоса была самой конкретной из рекомендаций, данных вновь избранному президенту Кеннеди во время переходного периода вплоть до января 1961 года.
Во время смены администрации уровень и характер американской вовлеченности в Индокитае еще не достигли такого масштаба, который ставил бы под сомнение доверие к Америке как таковое, причем пути назад бы не было. Американские усилия пока что в какой-то мере еще соотносились с реальными задачами обеспечения региональной безопасности; тогда они еще не достигли такого размаха, при котором их защита станет актом самооправдания.
«Теория домино» стала расхожей истиной и редко ставилась под сомнение. Но, как и само вильсонианство, «теория домино» была не столько неверна, сколько применялась недифференцированно. Поднятые Вьетнамом вопросы на самом деле заключались вовсе не в том, надо ли коммунизм сдерживать в Азии, а в том, является ли семнадцатая параллель тем самым местом, где проходит черта; не в том, что случится в Индокитае, если выпадет вьетнамская костяшка домино, но в том, не следует ли провести иную оборонительную линию, допустим, вдоль границы Малайи.
Вопрос этот в рамках геополитики никогда тщательно не изучался. Поскольку для данного поколения американских политиков самым горьким уроком явился Мюнхен, отступление считалось лишь действием, усугубляющим трудности, да еще вдобавок моральной ошибкой. Именно подобным образом Эйзенхауэр защищал вовлеченность Америки во Вьетнаме в 1959 году:
«...Наши собственные национальные интересы диктуют нам необходимость оказания определенной помощи для поддержания во Вьетнаме высокого морального духа, обеспечения экономического прогресса, а также создания военной мощи, достаточной для неуклонного пребывания в состоянии свободы... [Цена] продолжительного пренебрежения этими проблемами оказалась бы гораздо большей, чем мы сейчас обязаны платить, — гораздо большей, чем мы бы сумели выдержать»[890].
Американская универсалистская традиция просто не позволила бы делать выбор между потенциальными жертвами на базе стратегической необходимости. Когда американские лидеры говорили о бескорыстии собственной нации, они искренне в это верили; они скорее пошли бы защищать чужую страну, чтобы утвердить собственные принципы, чем ради обеспечения национальных интересов Америки.
Избрав Вьетнам местом, где пролегает грань между Америкой и коммунистическим экспансионизмом, Соединенные Штаты тем самым предопределили появление в будущем дилемм самого серьезного свойства. Если политическая реформа была средством одержания победы над партизанами, означал ли рост их сил, что американские рекомендации неправильно претворяются в жизнь, или эти рекомендации попросту оказывались неподходящими, по крайней мере, на данном этапе борьбы? А если Вьетнам действительно был настолько важен для глобального соотношения сил, как это утверждали почти все американские руководители, то означало ли это, что геополитическая необходимость в конечном счете перевесит все прочее и вынудит Америку вступить в войну на расстоянии двенадцати тысяч миль от дома? Ответы на эти вопросы пришлись на долю преемников Эйзенхауэра — Джона Ф. Кеннеди и Линдона Б. Джонсона.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. Вьетнам: на пути к отчаянию; Кеннеди и Джонсон
Став третьим по счету президентом, обязанным заниматься Индокитаем, Джон Ф. Кеннеди получил в наследство набор укоренившихся политических истин. Как и его предшественники, Кеннеди рассматривал Вьетнам как ключевое звено глобальной геополитической позиции Америки. Он точно так же, как и Трумэн и Эйзенхауэр, верил в то, что предотвращение победы коммунистов во Вьетнаме отвечает американским интересам высшего характера. И, подобно своим предшественникам, он рассматривал коммунистическое руководство в Ханое как представителей Кремля. Короче говоря, он полностью соглашался с точкой зрения двух предыдущих администраций, будто бы защита Южного Вьетнама жизненно важна для осуществления всемирной стратегии глобального «сдерживания».
Хотя во многих отношениях вьетнамская политика Кеннеди была продолжением политики Эйзенхауэра, имели место и существенно важные отличия. Эйзенхауэр рассматривал конфликт с точки зрения солдата — как войну между двумя различными обществами, Северным и Южным Вьетнамом. Для команды Кеннеди нападения Вьетконга на Южный Вьетнам не выглядели традиционной войной, как, впрочем, и псевдогражданский конфликт, характерной чертой которого стало сравнительно новое явление: боевые действия партизанского характера. Предпочтительным для команды Кеннеди решением было строительство при помощи Соединенных Штатов южновьетнамского государства — в социальном, политическом, экономическом и военном плане — так, чтобы оно смогло нанести поражение партизанам, не ставя под угрозу жизни американцев.
В то же время команда Кеннеди воспринимала военный аспект конфликта в еще более апокалиптических тонах, чем ее предшественники. В то время как Эйзенхауэр рассматривал военную угрозу Вьетнаму сквозь призму войны обычного типа, команда Кеннеди полагала — как выяснилось, преждевременно, — что между Соединенными Штатами и Советским Союзом уже существует ядерный паритет, что, по словам министра обороны Макнамары, делает всеобщую войну немыслимой. Администрация была убеждена, что наращивание вооружений исключит для коммунистов возможность развязывать ограниченные войны типа Корейской. Методом исключения она пришла к выводу, что партизанская война является предвестником будущего, а противостояние ей представляет собой решительное испытание способности Америки осуществлять «сдерживание» коммунизма.
6 января 1961 года, за две недели до инаугурации Кеннеди, Хрущев объявил «национально-освободительные войны» «священными» и гарантировал им свою поддержку. С точки зрения родившейся при Кеннеди политики «новых рубежей», эта гарантия воспринималась, как объявление войны надеждам Америки на концентрацию усилий ради придания нового смысла отношениям с миром развивающихся стран. Сегодня речь Хрущева в самом широком смысле воспринимается, как нацеленная против идеологических мучителей из Пекина, которые обвиняли его в пренебрежении ленинизмом, ибо он только что в третий раз продлил срок действия ультиматума по Берлину и часто высказывал серьезнейшие оговорки в отношении ядерной войны. Но в тот момент Кеннеди — в своем первом послании «О положении страны» 31 января 1961 года — рассматривал речь Хрущева как доказательство наличия у Советского Союза и Китая поползновений на мировое господство — поползновений, отчетливо провозглашенных почти только что[891].
В сентябре 1965 года точно такое же недоразумение имело место уже при Джонсоне применительно к Китаю, когда министр обороны Китая Линь Бяо в своем манифесте по поводу «народной войны» объявил в высокопарном стиле об «окружении» промышленных держав мира при помощи революций в странах «третьего мира»[892]. Администрация Джонсона истолковала это как предупреждение относительно возможности китайской интервенции на стороне Ханоя, игнорируя подтекст, имеющийся у Линя, а именно, упор на «собственные силы» революционеров. Подкрепленное утверждением Мао относительно того, что китайские войска не будут направляться за границу, это заявление одновременно еще и означало, причем достаточно отчетливо, что Китай не намерен вновь участвовать в коммунистических освободительных войнах. Похоже, обе стороны извлекли из войны в Корее один и тот же урок; и они преисполнились решимости больше подобных вещей не повторять.
Толкование коммунистических пророчеств администрациями Кеннеди и Джонсона заставляло рассматривать Индокитай как нечто большее, чем просто одну из многочисленных битв «холодной войны». С точки зрения политики «новых рубежей», Индокитай являлся той самой решающей схваткой, которая позволит установить, можно ли прекратить партизанские действия и выиграть «холодную войну». Восприятие Кеннеди этого конфликта как скоординированного глобального заговора заставило его прийти к выводу, что именно в Юго-Восточной Азии следует восстановить веру в Америку после того, как над ним взял верх Хрущев на Венской встрече в июне 1961 года. «Теперь перед нами стоит проблема, — заявил Кеннеди Джеймсу Рестону, бывшему тогда ведущим обозревателем „Нью-Йорк тайме", — заставить поверить в нашу силу всерьез, и Вьетнам для этого, как представляется, самое лучшее место»[893].
Словно в классической трагедии, где герой незаметно, шаг за шагом влеком роком посредством на первый взгляд незначительных событий, администрация Кеннеди была приведена к Вьетнаму посредством кризиса, незнакомого ее предшественникам, — кризиса по поводу будущего Лаоса. Мало можно найти народов, которые в меньшей степени заслужили бы выпавшие на их долю страдания, чем добрые, миролюбивые лаотяне. Укрытые неприступными горными хребтами, обращенными к Вьетнаму, и огражденные широкой рекой Меконг, обозначающей собой границу с Таиландом, народы Лаоса хотели от своего воинственного соседа только одного: чтобы их оставили в покое. Но именно этого их желания Северный Вьетнам не исполнял никогда. Стоило Ханою начать в 1959 году партизанскую войну в Южном Вьетнаме, как его давление на Лаос стало неизменно усиливаться. Если бы Ханой попытался переправлять партизанские силы на Юг, ограничиваясь вьетнамской территорией, им бы пришлось заниматься инфильтрацией через демилитаризованную зону — так называлась демаркационная полоса, шириной примерно в сорок миль, пролегавшая вдоль семнадцатой параллели. Это пространство могла при американском содействии наглухо закрыть армия Южного Вьетнама. Другим вариантом могло бы быть одно лишь непосредственное военное нападение через семнадцатую параллель силами регулярной армии, что наверняка повлекло бы за собой вмешательство Америки и, возможно, СЕАТО, — но идти на подобный риск Ханой не желал вплоть до 1972 года, то есть до заключительной стадии войны во Вьетнаме.
Путем хладнокровных логических построений, характеризовавших коммунистическую стратегию на протяжении всей войны, Ханой пришел к выводу, что инфильтрация в Южный Вьетнам через нейтральные Лаос и Камбоджу повлечет за собой меньшие отрицательные последствия в международном плане, чем прямой прорыв через семнадцатую параллель. Даже несмотря на то, что нейтралитет Лаоса и Камбоджи был гарантирован Женевскими соглашениями 1954 года и подкреплен договором об образовании СЕАТО, Ханой твердо придерживался принятого им решения. По существу, Ханой аннексировал узкую полосу суверенного Лаоса и организовал на этой территории, как и в Камбодже, базы, не встретив значительного противодействия со стороны мирового сообщества. Более того, за мировое общественное мнение стали выдавать безумные логические конструкции Ханоя: именно попытки Америки и Южного Вьетнама прервать ведущуюся с размахом инфильтрацию через нейтральную территорию стали осуждать, как «расширение масштабов войны».
Узкая полоса лаосской земли обеспечивала северовьетнамцев маршрутами подхода под прикрытием джунглей на протяжении примерно 650 миль южновьетнамской границы с Лаосом и Камбоджей. Свыше 6000 северовьетнамских солдат вошли в 1959 году в Лаос под предлогом оказания поддержки коммунистическому движению Патет-Лао, навязанному Ханоем после подписания Женевских соглашений 1954 года северовосточным провинциям вдоль вьетнамской границы.






