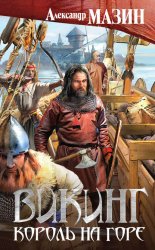Рядом с тобой Лав Тея
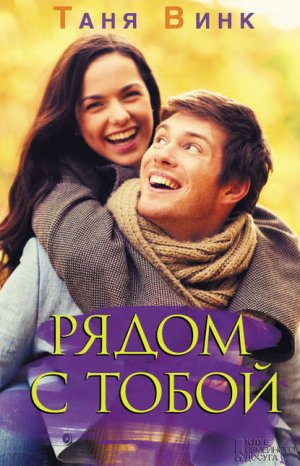
– Буду ждать тебя день и ночь, слышишь? Я люблю тебя!
Он снял ее руку с плеча и вышел во двор.
Удочки лежали на месте. Через полчаса он поймал щуку, и эти полчаса выветрили из его головы случившееся. Бросив щуку в ведро, он искупался – дома его будет обнимать Верочка, а он чувствовал себя грязным.
* * *
– Мы скоро придем, а ты пока картошку почисти, – сказала мама, поправляя у зеркала прическу, – мы к Марковне на пять минут. Юрка вернется – пусть соленые огурцы принесет из погреба.
И они с папой ушли. Галя уже и картошку почистила, и Никита уже захрапел, а храпел он не хуже папы, и программа «Время» закончилась, а ни Юрка, ни родители не возвратились. Вдруг ветви сирени ударили по стеклу и сумеречное небо расколола молния. Никита спрыгнул с дивана и бросился наутек из комнаты. В непогоду он обычно под печкой прячется.
– Что же это такое? – Галка смотрела в окно и от страха готова была расплакаться. – Ну, чего они не идут?
А там дождь разгулялся не на шутку – деревья гнутся к земле, ветер воет, весь двор в лужах. Громыхнуло, снова вспыхнула молния, звякнула калитка, и в коридор вошел папа. Вода стекала по нему ручьями, и на полу быстро образовалась лужа.
– Галя, дай мне полотенце и сухую рубаху.
– А мама где?
– У Марковны. – Голос отца дрожал.
Предчувствуя недоброе, Галя метнулась в спальню. Вернувшись с чистой рубашкой и полотенцем, она отдала их отцу:
– Папа, что случилось?
Папа ответил не сразу, а после того, как снял мокрую насквозь рубаху:
– Юра куда-то уплыл на лодке.
– Как это уплыл? – Галя растерянно посмотрела в окно. – Там же ливень! Лодка потонуть может…
– Не знаю, – наклонившись, папа вытирал полотенцем голову, – люди сказали.
Папа надел рубаху.
– Сиди дома, вдруг Юра придет, – сказал он, застегивая пуговицы.
Его руки заметно дрожали. Он снял с вешалки дождевик и пошел в кладовку. Там он взял два фонарика.
– Я с тобой. Я не хочу одна, мне страшно…
– Галя, сейчас не до капризов! – резко оборвал ее папа. – Сиди дома!
Оставшись одна, Галя включила свет во всех комнатах. Она звала Никиту, но он из-под печки не вылез.
Юрку искали всем селом. Больше всего боялись, что лодка утонет. Или в нее попадет молния. Часть селян перебралась на другую сторону реки и с фонарями прочесывала берег. Оставшиеся на этом берегу обследовали причал, катера и баржи, бегали по дворам, заглядывали в сараи и на сеновалы. Дождь не утихал, лил как из ведра – казалось, молнии хотят испепелить землю. Из Слободы тоже прибежали люди и подключились к поискам. Участковый позвонил в отделения милиции в селах вниз по течению и в Бобруйск тоже позвонил. За километр до Бобруйска подняли сети – в этом месте русло реки сужалось. Сети там стояли с незапамятных времен, и если кто-то тонул выше по течению, сети поднимали лебедкой и ждали. Дождь закончился, и те, у кого не было фонариков, обзавелись факелами. До рассвета люди обшарили болота, село, лес и речку до пищекомбината – и тут дали отбой: проснувшийся с бодуна истопник общественной бани обнаружил в своей котельной незваного гостя. Юрка спал прямо на полу, завернувшись в пальто истопника.
Эту ночь потом вспоминали со смехом и слезами.
Со смехом, потому что одна селянка, насквозь мокрая, бегала вдоль берега так: пробежит несколько метров, присядет посмотреть на водную гладь, крикнет: «Юрка!» – и дальше бежит. Она была в фуфайке поверх байковой ночной рубашки, а когда присаживалась, то задирала ее почти что до лопаток. Мужики и парни были в восторге, потому как девка была молодая и крепкая, да еще без нижнего белья. Вспоминали, что один дед забыл челюсти вставить, а Плеся потащила с собой любовника из Слободы. Мужика этого сын увидел и через речку поинтересовался, что папа тут делает, он же в районе должен быть. Папа шмыгнул в кусты, а селяне сказали, что парень обознался. Утром жена заявилась, но любовника не выдали – мол, обознался сынок.
А со слезами потому, что через два дня Юра пропал – пошел гулять и не вернулся. Эти два дня он молчал. Ребята звали гулять, но он не шел. Закрывался в своей комнатке и выходил, чтобы поесть и посмотреть телевизор. Черты его лица заострились, под глазами появились темные круги, хоть он и продолжал пить молоко с батоном и вареньем. Галя заходила к нему, а он ее прогонял. Она могла поклясться: он часто плакал, это было видно по глазам. Один парень шепнул Гале, будто Юрке кто-то сказал, что он приемный, что его нашли в лесу. Галя рассмеялась:
– Все знают, что Юрку нашли в кормушке для лосей.
Она хотела поделиться разговором с родителями, но маму застала в слезах и промолчала. Пришел Костик, сельский милиционер, стали что-то искать, вернее, обыскивать дом.
– Вы деньги проверяли? – спросил Костик.
Мама бросилась в спальню и как закричит:
– Ой! Двести сорок рублей пропали! Он уехал! – и в слезы.
Папа пошел к маме, а Костик стал приставать к Гале:
– Признайся, он же сказал тебе, куда едет?
Галка разозлилась:
– Ничего он мне не говорил! Он со мной вообще не разговаривал!
– А ты как думаешь, куда он поехал?
Галя задумалась. Странно, брат не хотел куда-то уезжать, он даже мыслей таких не высказывал. Никогда. Ему всегда нравилось место, где они живут. Он любил дом, свою комнату, кровать, подушку, чашку. Он быстро привязывался к вещам и подолгу носил одно и то же, до дыр на локтях или коленках. Он любил тишину, любил наблюдать за птицами, за облаками. Он терпеть не мог шумные места и никогда не ездил в пионерский лагерь.
– Он любит лес, – сказала она.
– В лесу не нужны деньги, – заключил Костик и сделал в блокноте какую-то пометку карандашом с обкусанным концом.
Юркину фотографию с подробным описанием внешности, одежды и особых примет повесили на доске объявлений возле милиции. Особой приметой была родинка на правой лопатке и пряжка на ремне.
В воскресенье утром, подоив корову, мама упала прямо в хлеву и перевернула ведро с молоком. Дядя Сурэн повез маму и папу в район на своей машине. Из района ее отвезли на скорой в Минск. Перепуганная Галя сидела во дворе, пытаясь осознать, что же происходит, пока не замычала корова, вернувшаяся с выгона, не подал голос голодный поросенок и не замяукал Никита, тыкаясь мордой в Галкины руки. Так она осталась на хозяйстве, а помогала ей Марковна. Папа звонил Марковне на работу, и она передавала новости Галке – мол, мама выздоравливает, но медленно, а папа пока ночует в больнице, там в подвале есть кровати для иногородних.
Но она не сказала, что Петя объездил все вокзалы Минска и показывал фотографию Юрки кассирам, милиционерам и буфетчикам. Что был на приеме у заместителя министра внутренних дел. Тот вяло выслушал и сказал, что каждый год в СССР пропадают тысячи детей, что они делают все возможное и т. д. «Если бы вы, товарищ Гармаш, знали, куда мог поехать ваш сын, мы бы его нашли». Товарищ Гармаш ответил, что если б он это знал, он бы к нему не пришел.
Она только сказала, что Петя позвонил Абу – у того в Москве есть влиятельный родственник. Кем он работал, Абу не уточнил, а только сказал:
– Этот человек может все.
Через неделю похолодало – в Молдавии в это время, в конце сентября, еще в сарафанах ходят, – и Марковна растопила печь. Уходя домой, она предупредила Галю, что перед сном надо открыть вьюшку, а то за ночь можно отравиться угарным газом. Галя хмыкнула – она это с детства знает. Утром в хате было настолько холодно, что невозможно из-под одеяла нос высунуть. Корову и поросенка Галя кормила сваренными с вечера мелкой картошкой и свеклой и шла в школу. Корову доила Марковна. Что Галя не могла сделать и Марковну не просила, так это затопить баню, но из положения вышла: грела воду на плите, а потом мылась в кухне. Так прошли две томительные недели. Когда Марковна уходила, Галя садилась на кровать в спальне родителей и шептала свою молитву:
– Боженька, сделай так, чтобы мама выздоровела. Сделай так, чтоб Юрочка вернулся. За это я обещаю научиться доить корову и варить борщ.
Хотела сказать, что будет мыть окна, но не сказала, потому что она ненавидела эту работу. Она с удовольствием подметала, вытирала пыль, мыла пол, но окна мыть – нет! Ни за что! Почему? Она и сама не могла объяснить.
– …Обещаю никогда не вспоминать, как Юрка обзывался, как мама отлупила меня крапивой.
Спустя много лет воспоминания о крапиве вызывали в ее сердце не обиду, а нежность. Ей было четыре года, и она пошла на речку постирать кукольные платья. Стоит в воде, намыливает, а мама сзади подкралась – и хвать за юбку: «Ты что это над обрывом стоишь?!» Нарвала крапивы и так отстегала! По попе, по ногам и по рукам. Было так больно, что Галя идти не могла и села на траву. Мама почему-то тоже не могла идти – расплакалась и села рядом. Галя уже давно перестала плакать, а мама все рыдала, обнимала ее, целовала и просила прощения.
С обещаниями Галя решила не тянуть и попросила Марковну научить варить борщ, потому что мама всегда отказывалась – мол, еще успеешь стать к вечному огню. Галя не поняла, о каком вечном огне идет речь, она знала только один – в Москве на могиле неизвестного солдата, а мама показала на керогаз. Теперь у них уже есть газовая печка с баллоном. Баллон меняют раз в месяц, но иногда не сразу привозят, и мама снова включает керогаз. Доить корову Галка так и не научилась – пальцы скользили по вазелину, и она даже каплю молока ни разу не выдавила. Марковна сердилась, кричала, что Вера панькается с дочкой, что она уже должна полное ведро надаивать, и прогоняла:
– Иди к своему пианино!
Под звон молочных струек, бьющих в дно ведерка, Галя покидала хлев, но к пианино не шла. Новое, только что купили, но она его ненавидела, хоть и училась в музыкальной школе с первого класса. Первый инструмент ей купили в шесть лет и определили в музыкалку к строгой фашистке Нелли Адольфовне – так ее называли из-за отчества. Галя ее страшно боялась, потому что за каждую фальшивую ноту она била по рукам не простой линейкой, а логарифмической. Галя жаловалась маме, а толку? Мама заставляла учить гаммы и этюды. Галка проклинала тот день, когда узнала, что такое терцоктава.
…Она тихонько наблюдала за тем, как папа с соседом играют в шахматы, и тут сосед передвигает фигуру и говорит:
– Петя, ты на руки дочки посмотри.
– А что такое? – подперев щеку кулаком, папа уставился на Галкины руки.
– Ее надо музыке учить, у нее длинные пальцы, широкая кисть, она терцоктаву возьмет.
– А что такое терцоктава? – спросили папа и Галя одновременно.
Сосед достал из кармана химический карандаш, послюнявил и на краю газеты нарисовал клавиши пианино:
– Терцоктава от «до» первой октавы до «ми» второй. Приложи руку.
Галя приложила.
– Вот, Петя, видишь? – Он растянул Галкины пальцы в стороны. – Еще пару лет, и возьмет.
– Хочу терцоктаву! – закричала Галя.
И началось! Ей только шесть исполнилось, а мама уже таскала ее в обычную школу, потому что в классе музыки стояло пианино – на нем Галя и брала первые ноты и гаммы. А зимой лошадь привезла новенькое пианино, обложенное стружкой и запакованное в футляр из неструганых досок. Лошадь была симпатичной, а пианино не очень – черное, громадное, оно заняло половину маленькой Галкиной комнатки. Галка прозвала его «черный черт», потому что оно наводило тоску – детство заканчивалось безрадостно, – и мечтала о том, чтобы музыкальная школа сгорела вместе со всеми инструментами. Причиной этому были не только изнуряющие занятия и злюка училка Нелли Адольфовна, но и соученицы, считающие себя талантливее самого Моцарта! Из Ровно они переехали в Бендеры, пианино не забрали, но и там мама заставила ее ходить в музыкалку, а пианино взяла напрокат. Приехав в Березино, Галка категорически заявила, что в музыкалку не пойдет. И не пошла.
– Ну и характер! – сказала мама. – Вся в отца.
Почему в отца – Галя так и не поняла, но папа однажды сказал, что характер она проявила еще в три года, когда ее решили отдать в детский сад. Галя просила оставить ее дома, даже молоко пообещала пить каждый день, но мама не послушала, привела в садик, поцеловала в нос и была такова. Старенькая воспитательница с очень добрыми глазами пару раз безуспешно попыталась оттянуть сердитую Галку от шкафчика с морковкой, нарисованной на дверце, рассказывая при этом, как хорошо там, в комнате, с детьми. Из той комнаты несло молочной кашей. Галка на уговоры не поддалась и дверцу не бросила. Воспитательница вздохнула, сказала: «Раз так, будешь сидеть здесь весь день, пока мама не придет».
– И буду, – промычала Галка.
До прихода мамы она просидела на одном месте, положив руки на колени, и только три раза попросилась в туалет. Там же съела две котлеты, много вкуснее домашних, жидкое, как кисель, пюре, тоже вкусное, и выпила компот. Когда мама, сердитая на Галку не меньше, чем Галка на нее, привела ее домой и все рассказала папе в надежде, что папа тоже рассердится, он обнял дочурку, поцеловал в нос, сказал, что она домашний ребенок, и добавил:
– Ты в яслях тоже была один день. Упала с горшка, разбила нос – и больше мы тебя туда не носили.
Больше Галку в сад не водили. А если дома было сильно страшно – кто-то скрипел на чердаке или выл в печной трубе, она забиралась под кушетку, предварительно постелив туда старый папин тулуп.
Галя стояла на веранде в маминых бурках и байковом халате поверх костюма с начесом и, глядя на стаю ворон, рассевшихся на заборе, помешивала борщ. Вороны все суетились – бросались друг на друга с истошным карканьем, спихивали товарок с забора, взлетали, пикировали на землю и учинили страшную суматоху, за которой Галя не заметила, как к калитке подошел высокий мужчина. Такой высокий, что его плечи были почти вровень с забором. Держа ложку в руке, Галя вышла на крыльцо.
– Добрый вечер. – Мужчина снял шапку.
– Добрый… Ночь уже, – боязливо сказала она, но что-то в глазах незнакомца внушало ей доверие.
– Мне нужна Галя Гармаш.
– Это я.
– Я привез тебе письмо от Салмана.
Галка выронила ложку и дрожащими руками отодвинула щеколду.
– Проходите.
– Я на минуту.
– Я только борщ сварила, – сказала она и посмотрела на большущую сумку в его руке, ожидая, когда он отдаст письмо.
– Борщ – это кстати! – Он улыбнулся, сунул руку за пазуху и вынул оттуда конверт.
Галка взяла письмо и наклонилась за ложкой, чтобы гость не заметил, как ее лицо залила краска.
«…Здравствуй, Галя! Пишет тебе твой друг Салман. Как твои дела? У меня все нормально. Извини, что поздравляю тебя с опозданием. Галинка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов в учебе. Галя, письмо тебе привезет Николай, мы вместе работали на стройке, он из Гродно. Галя, я знаю, что мои родители против нашей переписки, но давай будем переписываться, пожалуйста. Ты мой друг навсегда, и никто не сможет помешать нашей дружбе. Завтра мы уезжаем домой, я опоздаю на занятия всего на неделю, это не страшно. Николай уедет десятого сентября. Он обещал отвезти тебе письмо по дороге домой. Надеюсь, он выполнит обещание. После окончания школы я приеду в Минск – хочу стать инженером. Наверное, ты написала, кем точно хочешь стать, но я твое письмо не получил. Галя, у нас все будет хорошо. Я буду писать на твой адрес, а ты пиши: Грозный, Главпочтамт, до востребования, Бисаеву Салману. От моего дома до почтамта полчаса на автобусе, я буду ездить туда каждый день после школы. Пиши, жду. Навсегда твой Салман. 2 сентября 1975 года. Передай привет твоим уважаемым родителям и Юре».
– Ой, сейчас уже шестнадцатое сентября… – Галочка заметалась по кухне. – Он ждет мое письмо!
– А ты напиши и отправь авиа, – подсказал гость.
– Авиа? – Галя прижала письмо к груди. – Да, правильно.
– Слушай, напиши письмо, а я завтра куплю конверт в Минске и брошу в ящик, получится быстрее.
– Ой, спасибо!
Галя летала по дому, готовя постель для гостя, принесшего счастливую весточку. Гость упирался, мол, он посидит, пока она напишет письмо, а потом пойдет на вокзал, там и заночует. Но потом согласился и так захрапел, что Никита выскочил на веранду. Полночи Галя писала письмо:
«…Здравствуй, Салман. Пишет тебе Галя. Как твои дела? Как здоровье? У меня все нормально. Николай передал твое письмо. Спасибо большое за поздравление, я очень рада, что ты помнишь день моего рождения. Салман, я верю тебе. Я не сомневаюсь, что ты мой настоящий друг, мы будем переписываться. Я хожу в школу. Хочу закончить десять классов и поступить в Минский университет, стать учителем истории, я очень люблю историю. Рада, что ты тоже будешь учиться в Минске…
Мы купили корову, двух поросят и десять курочек, папа привез сено. Наши мальчишки спрашивают, когда ты приедешь. Я не знаю, что им сказать.
Я не могу передать привет Юре, он куда-то уехал. Куда – не сказал, мы все волнуемся. Мама заболела, она сейчас в Минске, в больнице, папа с ней, мы с Никитой одни на хозяйстве. Каждый день приходит Марковна, очень помогает. Обои мы уже везде поклеили, осталось покрасить лестницу на чердак и потолок на веранде. Спасибо большое тебе, твоему уважаемому папе, маме и строителям за помощь, дом очень уютный и теплый…
У нас сейчас плохая погода, каждый день дожди, в хате холодно…
…Жду ответа. Навсегда твой друг Галя Гармаш. 16 сентября 1975 года.
Жаль, что не могу передать привет твоим родителям».
Последнюю фразу Галя приписала из вежливости.
Письмо получилось на четыре страницы. Закончив, Галя несколько раз перечитала его, и оно показалось ей каким-то казенным – не о том, о чем ей хотелось. Почему так получается – хочешь сказать одно, а пишешь совсем о другом? Она посмотрела на часы – половина второго. Вздохнула, сложила тетрадные листы вдвое, на клочке бумаги написала адрес и легла спать.
Спала она тревожно, все время вздрагивала, и если бы кто увидел ее, то удивился бы – сколько эмоций отражалось на лице девочки: радость сменялась тревогой, надежда – отчаянием, счастье – безграничной печалью. Переворачиваясь с боку на бок, она вздыхала и бормотала что-то невнятное, только ей известное – так она входила в новую пору жизни, еще ничего о ней не зная. Но ее маленькое сердце, уже наделенное женской интуицией, чувствовало беспощадность надвигающихся дней.
В половине седьмого Галя проводила гостя на вокзал, пожелала счастливого пути и пошла в больницу, к Марковне.
– Папа звонил? – спросила она.
– Нет еще. – Марковна раскладывала таблетки на белых бумажных прямоугольничках.
– Когда позвонит, скажите, что я получила письмо от Салмана. Скажите, что все хорошо.
– Обязательно. – Марковна подмигнула и снова принялась за таблетки.
Марковна пришла вечером. Галя пила чай, положив письмо от Салмана поверх учебника обществоведения.
– Проходите, – Галка вскочила с табуретки, – я только чай заварила.
Марковна привалилась к дверному косяку и уставилась на Галю неподвижным взглядом.
– Галочка, девочка моя… – Она сползла по косяку на табурет.
Слушая Марковну, Галя не почувствовала, как описалась. Марковна прошлась по дому, закрыла зеркала и осталась ночевать.
В школу она не пошла – не смогла встать, ноги не слушались. Папа приехал днем на грузовике. Вместе с мамой. Мама лежала в кузове в гробу. Набежали соседи, занесли маму в дом. Пахло свечками, старухи сидели возле гроба и молчали. Свечки трещали. Ночью приехала тетя Наташа, упала на колени, целовала маму и плакала. Папа не плакал и ничего не ел.
Маму отнесли на кладбище, потом были поминки. Тетя Наташа легла в спальне родителей, а папа ушел в баньку. Утром понесли маме завтрак, а потом пошли домой, но папа не пошел, сел в автобус и уехал на работу. Тетка пожила еще два дня и уехала.
Все было очень странно. Странно то, что жизнь продолжалась – приходило утро, а потом вечер. Они ели за тем же столом, из тех же тарелок, разговаривали, смотрели телевизор. Кот сидел на своем прежнем месте, лампочки светили так же ярко, и по двору бегали куры. Папа ходил на работу, Галя – в школу. К ним приходили люди, только мама не приходила. И Юрка не приходил. Их вещи висели в прихожей, обувь стояла под вешалкой.
Так бы и текла жизнь, но вдруг заболела Марковна – что-то с печенью. Что такое больная печень, Галя узнала в детстве, после того как, не отходя от прилавка продуктового магазина, выклянчила у мамы кусочек докторской колбасы. То ли колбаса была причиной, то ли еще что, но на следующий день Галя попала в больницу.
– Твоя печень увеличена, – сказал врач, показывая, где печень должна быть и где она сейчас.
Когда врач ушел, Галя стала на голову, чтобы печень стала на место, и увидела Юрку, входящего в палату. Его печень тоже была увеличена. Теперь они вдвоем становились на голову, но это не помогло – уколы все равно делали…
С утра Галя бежала в школу, потом к Марковне, хоть та и говорила, что не надо приходить, что у нее все есть, но Галя все равно приходила – рядом с Марковной она забывала, что жизнь изменилась. В доме Марковны она чувствовала себя дома, а новый, наполненный запахами краски, обойного клея и новой мебелью, так и не стал ее домом. Больная и пожелтевшая Марковна суетилась вокруг Галки, кормила, гладила по голове. Называла «моя девочка». Это хорошо, а то тетка Наташа сказала «моя сиротинушка». Какая ж она сиротинушка, если у нее есть папа?
– Ты не ссорься с теткой, – сказала Марковна, – она живет в большом городе, у нее большие связи, она много чего может. Тебе еще учиться надо.
– Я сама поступлю, – отрезала Галя.
– Это понятно, но лучше, когда есть связи.
– Не нужны мне никакие связи, я сама все могу!
В доме Гармашей повисла звонкая тишина. Такая же тишина обволакивала Галю, когда она шла по улице: никто ее не окликал, не дразнил, а только здоровались. Одна радость – письма Салмана: «…Галочка, я даже думать не могу о том, что твоя мама умерла. Если б я мог быть рядом с тобой! Если б я мог забрать твое горе!..»
Папа вдруг запил. Галя знала, что сразу после войны, после парада Победы, папа долго пил, хоть и не совсем еще вылечился после ранения. Тогда все пили от радости, что в живых остались, пропивали все заработанное, а папа за войну получил много денег. В одном ресторане он познакомился с Клавдией Шульженко, и она так хорошо говорила о Харькове, своем родном городе, что он вдруг решил туда поехать. Тем более что там был военный аэродром, летное училище. А куда еще податься комиссованному военному летчику? Много позже, увидев Шульженко по телевизору, папа сказал, что с возрастом она становится все симпатичнее.
Теперь папа пил с горя. Не с утра, конечно, а после работы. Оставался допоздна в цеху и домой приходил «на бровях». Вернее, не домой, а в баньку. Он поселился там сразу после похорон – и остался. Галя просила его ночевать дома, но он только опускал голову:
– Доченька, я громко храплю, особенно когда выпью, а тебе надо высыпаться. Не сердись.
Галя не сердилась.
– Мне бы только знать, что с Юрочкой, – говорил папа и трезвый, и пьяный. – Неизвестность – это так тяжко. Что ж это такое – войны нет, а дите пропало, – и смотрел так жалостливо, что у Гали сердце останавливалось.
Галочка не узнавала себя в зеркале – оттуда на нее смотрела худенькая девочка с остекленевшими глазами. Она дышала, ходила, ела, училась, но ничего не чувствовала. Она перестала смеяться, гулять, забросила книги. Ей нужна мама, ей страшно без мамы. Как дальше жить? Как?! И еще в память врезалось, как мама лежала в гробу, а селяне стояли вокруг и волновались, что водки и самогона мало.
Она не могла поверить, что мама оставила ее навсегда. Каждый день она бережно перелистывала томик Цвейга, касалась страничек, сохранивших тепло ее рук, с замирающим сердцем вглядывалась в строчки, тысячи раз отразившиеся в глазах мамы, а потом бежала на кладбище, читала на фанерке черные буквы «Гармаш Вера Федоровна» и… И все равно не могла поверить. Мама уехала, скоро вернется, могила чужая, мамы в ней нет, твердила она, возвращаясь домой. Приходил новый день, и Галя снова открывала книгу. Сколько она себя помнила, томик рассказов Цвейга лежал на тумбочке возле маминой кровати. Иногда там временно поселялись Бальзак, Мопассан, Диккенс и другие книжки, принесенные из библиотеки, но Цвейг никогда никуда не исчезал – мама читала его на ночь. Если мама уходила в лес, иногда на три, а то и четыре дня, особенно весной, Галя хватала Цвейга, и ей казалось, что мама рядом. Она погружалась в мир взрослых, в любовь, предательство, преданность, ненависть, и незаметно для себя потихоньку взрослела. Мама возвращалась из леса, приносила «от зайчика» ягоды, грибы и кисленькие зеленые шишечки, а от жены лесника пахучий домашний хлеб в глубоких разломах с хрустящими краями, и тогда взрослость покидала Галку, уступая место сказочным мечтам, в которых зайчик просит маму передать ей все эти вкусности. Удивительно, но вера в зайчика жила в Галке очень долго и умерла вместе с мамой, оставив Галю наедине с книгой. Умерла не за один день – Галя долго сопротивлялась, как когда-то сопротивлялась принятию неизбежности смерти, пониманию, что она уже не девочка, а девушка, что все чаще «не хочу» пасует перед «надо», и Галка с горечью обнаружила, что в жизни нет места сказке. А есть место тому, о чем написал Цвейг.
Она не могла поверить, что у нее больше никогда не будет дома, такого, как в Молдавии. Он был чужим, но они так долго в нем жили! Он был чудесным, и она очень любила его, свою кроватку, куст пионов под окном. Любила скрип дверей, буфет, раскрашенный под дерево, – его папа сделал. Этот буфет был волшебным – огромный и скрипучий, он вмещал в себя множество запахов, от пасхальных куличей и банок с вареньем до семейного фотоальбома и горчичников. В верхней части стояли чайный и кофейный сервизы, мамины духи «Красная Москва», шесть тоненьких хрустальных рюмочек, пузырек ацидина-пепсина – без этого лекарства пища в папином желудке не переваривается – и картонная шкатулка с удостоверениями к папиным орденам, старыми письмами и красивыми облигациями государственного займа.
Галя была совсем маленькой, когда вся семья поехала в гости в деревню. А там, в этой деревне, не было электричества. С наступлением темноты Галя просила «оттушить» свет, а Юра – включить, и хозяева зажгли две керосиновые лампы, по одной на каждую комнату. Галка боялась керосиновой лампы – однажды дома она схватила ее за стекло, и вся ладонь сразу покрылась волдырями. Ох, и испугались они с Юркой! В их доме, в Бендерах, тоже свет выключался, но ненадолго, а тут вообще его нет. Как же в кромешной тьме спустить ноги с кровати? А если кто укусит? Галя намотала на руку бретельку маминой рубашки, чтоб мама не ушла к папе, как только она заснет, и успокоилась. А Юрка полночи плакал, и на следующий день родители повезли их домой. Выйдя из автобуса, Галка с Юркой наперегонки помчались к дому. Папа открыл дверь, и они бросились к своим кроваткам с радостными криками: «Мой дом! Моя кроватка! Моя подушка!» Они целовали металлические спинки кроватей, обнимали подушки и катались по коврику. Выплеснув радость, дети не сговариваясь вернулись в прихожую, открыли нижние дверцы буфета и сели на пол. Они вдыхали запахи родного дома, еще не зная, что это навсегда: где бы они ни были, услышав их, они со сжавшимся сердцем вспомнят родной дом и счастливое детство…
На сороковины пришло много людей. Постояли возле маминой могилы и пошли к Гармашам домой. Галя шла сзади и вдруг услышала, как мама зовет ее. Услышала отчетливо, возле самого уха, крикнула:
– Папа, мама живая! Она зовет меня, – и со всех ног пустилась обратно.
Люди посмотрели ей вслед, вздохнули: «Бедная девочка», – и двинулись дальше: их же ждали водка и закуска! Петя поручил гостей Марковне, а сам побежал за дочкой. Он нашел ее разгребающей землю руками. Она плакала от счастья и кричала:
– Мамочка, родненькая, подожди! Я сейчас!
В ее глазах плясал болезненный огонек. Петя опустился на колени и, пристально глядя в глаза дочери, тихонько произнес:
– Галочка, идем домой, мама к нам уже никогда не вернется.
Она перестала разгребать землю, медленно встала на ноги и взяла отца за руку. Постояла еще минутку, горестно вздохнула и подняла на него печальные и виноватые глаза:
– Прости, папочка, я не хотела тебя обидеть.
Когда они уже подходили к дому, она споткнулась.
– Что с тобой? – с тревогой спросил Петя.
Лицо Гали пылало. Он приложил ладонь к ее лбу:
– Да у тебя температура!
На крыльце стояли несколько человек и курили.
– Давай ее ко мне, – предложила Марковна.
Они уложили Галю на диван, сунули под мышку термометр – а там тридцать девять и восемь, и ни кашля тебе, ни хрипов, ничего.
– Доча, что у тебя болит?
– Хочу спать, – прошептала Галя, свернулась калачиком и уснула.
Домой Петя не пошел, но его отсутствие принявший на грудь народ не заметил. Галя проспала до пяти утра, а утром температура спала, осталась только страшная слабость, такая, что даже чашку держать не могла. Ее одежда была мокрой от пота. Петя сбегал домой, принес сухую одежду, Марковна переодела Галочку, и Петя отвел ее домой. Он хотел ее покормить, но она отказалась, легла на диван и уснула. Петя убирал со столов, мыл посуду и время от времени подходил к спящей дочке, прислушиваясь к ее дыханию.
Ночью Галя намочила постель. Ее ужасу не было предела – ее трусило, онемели пальцы рук. Папа обнял ее и прошептал, что такое со многими случается, и с ним такое было, мол, ничего страшного – она немножко приболела и скоро выздоровеет. На следующую ночь все повторилось. От страха намочить постель Галя перестала спать. Утром она валилась с ног, болела голова, ныло все тело. На уроках она клевала носом, но не спала – а вдруг описается у всех на глазах?! Если она погружалась в сон, ей казалось, что она в уборной, и еще секунда… Галка вскакивала как ошпаренная и дико озиралась. Дети смеялись. Вскоре на нее стало страшно смотреть. И когда она в конце концов не смогла утром встать с постели, Петя испугался не на шутку. Он не знал, что делать, и сказать никому не мог, даже Марковне. Марковна баба хорошая, но кто знает, не понесет ли она новость по поселку, а им тут жить…
И вот в одну из тревожных ночей приснился ему сон: он идет по дороге, усыпанной снегом, а навстречу ему идет Верочка в изумрудном крепдешиновом платье. Он так обрадовался, что она жива! Он рвется к ней и не может – ноги проваливаются в снег выше колен. Он зовет ее, а крика своего не слышит. И вдруг Верочка сама идет к нему, едва касаясь туфельками снежной корочки. Она протягивает к нему руки, и какая-то сила выталкивает его из снега.
– Любимая, я так скучаю по тебе… – Он обнимает ее.
Мороз, а Верочка такая теплая, такая родная.
– Нам плохо без тебя. – Он смотрит в изумрудные глаза.
Верочка улыбается и снимает с шеи крестик, старенький, на веревочке.
– Ты никогда не носила крестик, – говорит Петя.
– Это твой, ты просто забыл, – она протягивает крестик Пете, – отдай его Галочке.
Он берет крестик и… просыпается.
Он выскользнул из-под одеяла и, стараясь не скрипеть половицами, пробрался в кухню, к ящику с инструментами, стоящему под столом. Вместе с молотками, плоскогубцами, отвертками, диском для заточки ножей и пучками гвоздей, завернутыми в обрывки газеты, лежал маленький сверток из промасленной бумаги, перетянутый резинкой.
…Это случилось под Будапештом, за два дня до последнего боя, в марте сорок пятого. В жутких лохмотьях, сквозь которые было видно тощее грязное тельце, в огромных ботинках, обвязанных тряпками, прямо на него бежала девочка. За ней гналась толпа пьяных русских солдат. Вдруг метрах в пятидесяти обвалилась стена. Он выхватил девочку из пыли и побежал. Рыща глазами в поисках убежища, он приседал, прижимался к стенам, прыгал по развалинам, но ребенка не отпускал. Под ногами хрустели стекла, поднимались клубы пыли, пищали крысы. Что-то ослепило его – это было зеркало. Петя кубарем вкатился в оконный проем и присел на корточки. Они оказались в большой комнате, заваленной разбитой мебелью. Девочка закричала и попыталась вырваться. Он зажал ей рот ладонью, и она укусила, но не до крови – Петя вырвал руку.
– Замолчи! – приказал он шепотом на немецком языке.
Он уже понял, что в Венгрии многие знали этот язык. Она не послушалась и снова крикнула, а может, не поняла. Пришлось ударить по щеке, несильно, но истерика прекратилась. Петя отпустил ее и выглянул в окно – за ними никто не гнался. Сел на пол, достал из кармана шоколадку и протянул девочке. Не сводя глаз с шоколадки, она не шевелилась, а потом робко приблизилась, выхватила шоколадку из рук Пети, прыжками достигнув угла, вжалась в него спиной и зубами разорвала обертку. Глядя на него затравленным взглядом, она запихивала сладость в рот, и по ее подбородку текла коричневая слюна, оставляя кривую борозду. Петя расстегнул ремень. Девочка перестала жевать, затараторила на венгерском и, тихо скуля, упала на колени. Она не плакала, только скулила.
– Не бойся, я дам тебе свитер, тебе холодно.
Она перестала скулить, но страх из ее глаз не исчез. Петя быстро снял куртку и выдернул из штанов гимнастерку. Под гимнастеркой у него был свитер из шерстяного трикотажа – такие свитера летчики получили по ленд-лизу. Он снял свитер и протянул девочке:
– Это тебе.
Она отрицательно мотнула головой.
– Надевай. – Петя положил свитер на гору из кирпичей и сам начал одеваться. – Как тебя зовут? – спросил он, застегивая куртку.
Девочка не ответила. Быстро натянув свитер, она закатывала рукава и бросала на него пугливые взгляды.
– Ты знаешь немецкий?
Молчание.
– Где твоя мама?
Девочка оставила рукава в покое и опустила голову.
– Где твой отец?
Ее плечи напряглись.
– Где ты живешь?
Она втянула голову в плечи и смотрела на Петю исподлобья. В ее взгляде было больше испуга, нежели враждебности.
– Послушай, я не сделаю тебе ничего плохого, просто хочу отвести домой. Где ты живешь? – спросил он, понимая, что вопрос звучит глупо – жить в развалинах нельзя, в них можно только прятаться.
Она расширила глаза и еще больше стала похожа на насмерть испуганного зверька. Петя осмотрелся – ее нужно оставить здесь до темноты. Сейчас город кишит пьяными солдатами, жаждущими мести, которым все равно – венгерка она или немка, ребенок или нет, она – враг. Петя один не сможет ее защитить, еще и пулю получит.
– Здесь было ателье мод, – по-немецки сказала девочка через несколько минут и показала на большую раму с застрявшими в ней осколками зеркала.
Петя улыбнулся и, осторожно ступая, прошелся по помещению. Он вытаскивал из-под камней и щепок то, что могло послужить одеждой, но ничего не мог найти – все было изорвано в клочья. Более-менее целое, конечно, давно унесли. Он еще порыскал и нашел крошечное помещение с выбитой дверью, похожее на кладовку.
– Я ходила сюда с мамой, – сказала девочка, – здесь было красиво. Маму немцы увезли, а папа сейчас на войне.
– С кем ты живешь?
– Я живу с дедушкой. Ты отведешь меня к дедушке? Это близко. Я боюсь сама.
– Да, отведу, когда стемнеет. Сейчас опасно.
– Да, опасно. Как тебя зовут?
– Петя. А тебя?
– Илона.
– Вот что, Илона, я приду, когда стемнеет.
– Я буду ждать. – Она закивала, и на ее губах появилась доверчивая улыбка.
Они вместе стаскивали рванье, чтобы соорудить подобие спального места, и вдруг девочка радостно вскрикнула и показала Пете маленький огарок свечи. Глаза девочки светились такой радостью, что Петя решил принести ей свечи – он выпросит у интенданта. Соорудив место, он усадил ее и дал флягу с водой. Она с жадностью сделала несколько глотков – осторожно, не пролив ни капли.
– Я вернусь. – Он закрыл дверной проем сломанным шкафом, вокруг набросал кирпичей, присыпал штукатуркой и ушел…
Она его дождалась. Выйдя из здания, Илона взяла Петю за руку и потащила в темноту, освещенную слабым светом луны. Она шла легко и быстро, казалось, тоненькие ножки в огромных ботинках едва касаются земли, а Петя все время спотыкался. Они пересекли полностью разрушенный квартал, минули почти не тронутый двор и вошли в огромную дыру в кирпичной стене двухэтажного дома.
– Сюда. – Девочка потянула Петю вниз по ступенькам и, когда лестница закончилась, откинула большую тряпку.
Петю обдало подвальным холодом. На него повеяло ужасом, когда в мерцающем свете двух лучин он увидел несколько десятков огромных испуганных глаз и разноголосое «Ах!» всколыхнуло спертый воздух. Девочка что-то сказала, и все успокоились. К ней подбежал старик, стал обнимать, целовать, они тараторили на венгерском, и Петя ничего не понял. Они умолкли и посмотрели на Петю, уже привыкшего к слабому свету и с болью вглядывавшегося в серые изможденные лица. Девочка взяла старика за руку и подвела к Пете.
– Мой дедушка, – сказала она, – Михай.
– Петя. Вы говорите по-русски? – спросил Гармаш.
– Нет, только по-немецки.
– Не разрешайте Илоне выходить, – сказал Петя, – это опасно.
– Да, конечно! – старик часто закивал.
Петя вытащил из вещмешка три буханки серого хлеба и пять американских шоколадок. Все глаза уставились на его руки. Он положил хлеб и шоколад на большой круглый стол и вынул пять свечей. Илона схватила свечи, прижала к груди и, глядя на дедушку, взволнованно затараторила на своем языке.
– Она будет за вас молиться… – сказал старик. – Подождите, – и он нырнул в темноту.
Вернувшись, он протянул Пете тряпочку: