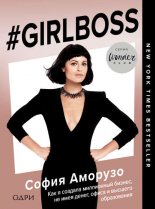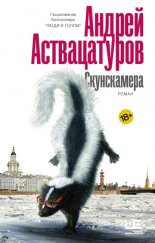Масштаб. Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний Уэст Джеффри
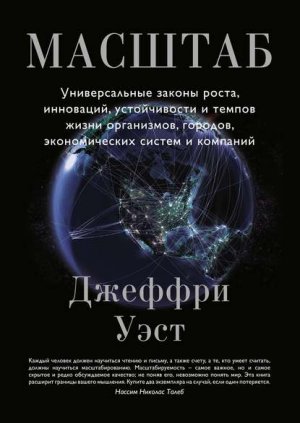
Предсказание об ускорении циклов крупных инноваций так же убедительно подтверждается данными и на более крупном масштабе. Одна из трудностей рассмотрения этого вопроса связана с выбором из огромного числа произошедших инноваций тех, которые могут представлять собой крупные смены парадигмы. В некоторой степени этот выбор остается субъективным, но, вероятно, большинство из нас согласится с тем, что некоторые открытия и изобретения – например, книгопечатание, использование угля, телефон или компьютер – это крупные «смены парадигмы», а вот насчет железной дороги или персонального компьютера можно и поспорить. К сожалению, развитой численной «теории инноваций» не существует, а потому не существует и общепризнанных критериев или данных, непосредственно относящихся к крупным инновациям и сменам парадигмы. Таким образом, чтобы сравнить теорию с данными, нам приходится полагаться на неформальные исследования и, до некоторой степени, на интуицию. Это положение вполне может измениться, так как инновации становятся предметом все более активного изучения, и исследователи пытаются определить, что такое инновации, как их можно измерить, как они происходят и как мы можем их стимулировать[169].
Рис. 79. Отклонения роста Нью-Йорка с 1790 г. от суперэкспоненциального фона, демонстрирующие последовательные циклы, частота которых систематически уменьшается в количественном согласии с теоретическими предсказаниями (кривая на врезке)
Известный изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл составил и проанализировал список кандидатур на роль крупных инноваций в формате, весьма подходящем для сравнения с нашими предсказаниями[170]. Его результаты показаны на рис. 80 и 81, на которых построена зависимость времени, проходящего между двумя последовательными инновациями, от удаленности каждой из инноваций в прошлое. На рисунках представлены два варианта одного и того же графика, в полулогарифмическом масштабе (то есть с логарифмическим масштабом по вертикальной оси и линейным по горизонтальной) и в логарифмическом масштабе по обеим осям. Чтобы сориентироваться в этих графиках, отметим, что первая точка в левом верхнем углу обоих рисунков обозначает возникновение жизни, случившееся около 4 109 (четырех миллиардов) лет назад, – это число отложено по горизонтальной оси; а следующая крупная инновация произошла лишь почти два миллиарда лет спустя – и это число отложено по вертикальной оси. Интересно отметить, что в линейном временном масштабе (на рис. 80) кажется, что все события после появления самых ранних предков человека, что случилось около миллиона лет назад, произошли одновременно. Кривая резко падает, наглядно иллюстрируя ускорение времен. Из этого графика также видно, почему применение логарифмического масштаба (рис. 81) для отображения таких данных гораздо информативнее, так как позволяет разделить события, происходящие по всей этой гигантской временной шкале. Например, при таком отображении изобретение телефона, случившееся всего сотню лет назад, можно отделить во времени от появления сельского хозяйства, произошедшего целых десять тысяч лет назад.
Теория объясняет и предсказывает такое обратное соотношение между последовательным сокращением интервалов между инновациями и временем, отделяющим их от нас, и количественно согласуется с линиями, проведенными на обоих графиках. Поспешу отметить, однако, что предсказания относятся лишь к той части графиков, которая касается инноваций, связанных с социально-экономической динамикой, которая порождает человеческую изобретательность; теория ничего не говорит о скорости возникновения инноваций биологических. Это оставляет без ответа следующий интересный вопрос: играет ли аналогичная динамика сингулярностей сходную роль в отношении биологических инноваций, или же наблюдаемое согласие и продолжение зависимости по простому степенному закону в область самого раннего времени, предшествующего появлению человека, – всего лишь случайность или результат предвзятого выбора смен парадигм Курцвейлом? Во всяком случае, согласие данных с теорией в области ее применимости выглядит убедительно и подтверждается более подробным анализом периода, ограниченного несколькими последними столетиями.
Зависимость временных интервалов между крупными инновациями от их давности, представленная в полулогарифмическом (рис. 80) и логарифмическом (рис. 81) масштабах
Общая концепция сингулярности играет важную роль в математике и теоретической физике. Сингулярностью называют точку, в которой математическая функция неким определенным образом перестает «хорошо себя вести», например становится бесконечной так, как было описано выше. Обсуждение возможностей укрощения таких сингулярностей привело к огромному прогрессу математики XIX в., и это впоследствии оказало большое влияние на теоретическую физику. Наиболее знаменитым следствием изучения сингулярностей стала концепция черных дыр, возникшая из попыток понять структуру сингулярностей общей теории относительности Эйнштейна.
До того как слово «сингулярность» было популяризовано Курцвейлом в опубликованной в 2005 г. книге «Сингулярность уже близка: когда люди выйдут за пределы биологии» (The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology), этот термин почти не употреблялся в обиходной речи. Развивая более раннюю идею «технологической сингулярности», предложенную в 1993 г. писателем-фантастом и специалистом по информатике Вернором Винджем, Курцвейл утверждал, что мы приближаемся к сингулярности, в которой наши тела и мозги будут усовершенствованы при помощи генетических изменений, нанотехнологий и искусственного интеллекта, и мы превратимся в гибридных киборгов, уже не ограниченных рамками биологии. Предполагалось, что это приведет к возникновению коллективного разума, неизмеримо более мощного, чем разум всех ныне существующих людей, вместе взятых. Или, как лаконично сформулировал эту идею Виндж: «В течение тридцати лет мы получим технические средства для создания сверхчеловеческого разума. Вскоре после этого эра человечества закончится»[171]. Так как это было написано в 1993 г., предсказание утверждает, что такое должно произойти к 2023 г., до которого осталось всего семь лет. Я так не думаю.
Возможно, эти увлекательные предположения когда-нибудь и осуществятся, но пока что они принадлежат к области научной фантастики. Хотя такое радужное видение будущего почти диаметрально противоположно мрачным прогнозам неомальтузианцев, забавно отметить, что выводы в обоих случаях основываются на одной и той же предпосылке неустойчивости экспоненциального роста и неизбежности каких-то резких изменений. Если мальтузианцы упускали из виду принципиально важную роль инноваций, то провозвестники сингулярности точно так же не учитывают принципиально важную роль всей социально-экономической динамики нашей планеты, которая на самом деле и является движущей силой приближающейся сингулярности. Поскольку ни те ни другие не опираются на более общую систему, которая включала бы в себя численную механистическую теорию, их предсказания, каковы бы они ни были, трудно оценить с научной точки зрения. Возможно, наибольшая концептуальная ирония, особенно в отношении сингуляристов, заключается в том, что их выводы и предположения основаны на принципе экспоненциального роста, который, собственно говоря, не порождает никакой сингулярности, во всяком случае в течение конечного времени.
Тем не менее экспоненциальный рост вполне может быть неустойчивым, и именно по тем самым конкретным причинам, которые выдвигал изначально Мальтус: мы можем оказаться не в состоянии производить достаточно пищи или энергии или столкнуться с нехваткой каких-нибудь существенных ресурсов – например, фосфора, нефти или титана – и в то же время не суметь разработать соответствующие технологии, которые позволили бы устранить эту проблему. Кроме того, мы можем произвести такое количество энтропии, что вызванные нашей деятельностью загрязнение окружающей среды, экологический ущерб и другие разрушительные побочные эффекты, в особенности те, которые влияют на климат, приведут к невообразимым опустошительным последствиям. Напомню, однако, что если это роизойдет в результате экспоненциального роста, то в принципе ничто не помешает нам прийти к тем достижениям, близость которых провозглашают оптимисты, и продолжить свой рост, избавляясь от всех этих многочисленных проблем и угроз при помощи инноваций. Но на практике дело может обстоять совсем по-другому, и я вовсе не уверен, что мы сможем этого добиться.
Однако в реальности ситуация иная, причем иная качественно. Как я подчеркивал выше, под воздействием суперлинейного масштабирования социально-экономической деятельности, порожденного мультипликативным усилением, присущим нашей социальной динамике, мы расширяемся не «просто» экспоненциально, но суперэкспоненциально. Эта неотъемлемо свойственная современному человечеству динамика приводит к увеличению темпа жизни и той скорости, с которой мы должны производить крупные инновации, чтобы преодолеть надвигающуюся угрозу сингулярностей конечного времени. Нас преследует образ ускоряющегося Сизифа.
Между «компьютерным веком» и «информационно-цифровым веком» прошло не более тридцати лет – в то время как века каменный, бронзовый и железный разделяли тысячелетия. Время, которое мы отсчитываем по своим часам или электронным устройствам, очень обманчиво: оно определяется суточным вращением Земли вокруг собственной оси и ее же годовым обращением вокруг Солнца. Астрономическое время линейно и регулярно. Но те часы, по которым мы проживаем свою социально-экономическую жизнь, – это эмерджентное явление, определяемое коллективными силами социальных взаимодействий: они непрерывно и систематически ускоряются по сравнению с объективным астрономическим временем. Мы живем на все той же пресловутой социально-экономической беговой дорожке, движущейся с ускорением. Крупная инновация, на возникновение которой тысячу лет назад или еще раньше могли уйти столетия, сейчас может появиться всего за тридцать лет. Вскоре этот срок сократится до двадцати пяти, затем до двадцати, семнадцати и так далее – и, подобно Сизифу, мы обречены снова и снова повторять все сначала, если мы собираемся продолжать непрерывно расти и расширяться. Получающаяся в результате этого процесса последовательность сингулярностей, каждая из которых грозит нам застоем и крахом, будет продолжать накапливаться, стремясь к тому, что математики называют существенной сингулярностью, своего рода прародительнице всех сингулярностей.
Более семидесяти лет назад великий Джон фон Нейман, ученый-универсал, работавший в таких областях, как математика, физика и информатика, идеи и достижения которого оказали огромное влияние на нашу с вами жизнь, высказал следующее необычайно проницательное замечание: «Постоянно ускоряющийся технический прогресс и изменения в образе жизни человека… создают впечатление, что история нашего рода приближается к некой существенной сингулярности, за которой продолжение дел человеческих в том виде, в каком мы их знаем, будет невозможно»[172]. Среди многочисленных достижений фон Неймана, умершего в 1957 г. сравнительно молодым, в возрасте пятидесяти трех лет, можно назвать его основополагающую роль в начальных этапах развития квантовой механики, создание теории игр, ставшей важным инструментом экономического моделирования, и разработку концепции современных компьютеров, повсеместно известной под названием архитектуры фон Неймана.
Так можно ли представить себе, что мы сумеем производить инновации, сравнимые по мощи и влиянию с изобретением интернета, каждые пятнадцать, десять или даже пять лет? Этот вопрос – пример классического доказательства методом reductio ad absurdum[173], демонстрирующий, что, сколь бы изобретательны мы ни были, сколько бы мы ни создали чудесных устройств и приспособлений, мы попросту не сможем справиться с угрозой надвигающейся сингулярности, если будем продолжать действовать как обычно.
По теоретическим оценкам, нам следует ожидать следующей смены парадигмы в течение следующих 20–30 лет. Этот период чуть короче, чем та оценка, которую дает аппроксимация данных Йохансена и Сорнета: их цифра ближе к тридцати пяти годам. Разумеется, теория не может предсказать, в чем именно будет заключаться это изменение, так что о его природе мы можем лишь догадываться. Может быть, это будет нечто сравнительно приземленное и бытовое, например автомобили без водителя и связанные с ними «умные» устройства, а может быть, нечто грандиозное, сродни фантастическим видениям Курцвейла и сингуляристов. Вероятнее всего, речь будет идти о чем-то совершенно отличном от перечисленного, и, если нам удастся совершить такую смену парадигмы, она будет заключаться в чем-то абсолютно неожиданном. Но возможно, что еще более вероятно, мы не сумеем сменить парадигму, и нам придется распрощаться с самой идеей неограниченного роста и найти какое-то новое определение понятия «прогресса» – или же довольствоваться тем, что у нас уже есть, и направить свою энергию на повышение уровня жизни во всем мире до сравнительно высокого стандарта ее качества. Вот это была бы действительно крупная смена парадигмы!
Непрерывный рост и связанное с ним все большее ускорение темпов жизни имеют важные последствия для всей нашей планеты, в особенности для городов, социально-экономической жизни и процесса глобальной урбанизации. До последнего времени промежутки между крупными инновациями значительно превосходили длительность продуктивной жизни человека. Даже на моем веку бессознательно предполагалось, что человек в течение всей своей жизни продолжает заниматься одним и тем же делом, опираясь на одни и те же знания и опыт. Теперь это не так; человек в среднем живет теперь значительно дольше, чем занимает интервал между крупными инновациями, особенно в развивающихся и развитых странах. Сейчас молодые люди, начинающие свою трудовую деятельность, могут ожидать, что в течение их жизни произойдет несколько крупных перемен, которые с большой вероятностью приведут к резким изменениям их профессиональной карьеры.
Все ускоряющийся темп изменений порождает сильную напряженность во всех аспектах городской жизни. Такое положение явно неустойчиво, и, если в этом отношении ничего не изменится, нас ожидают крупные кризисы и возможный крах всей ткани социально-экономической жизни. Стоящий перед нами вопрос ясен: сможем ли мы вернуться к чему-то близкому к той более «экологической» фазе, которую мы уже прошли, и удовольствоваться неким вариантом сублинейного масштабирования и связанных с ним естественных ограничений или стабильной конфигурации, не предполагающей роста? Возможно ли это в принципе? Можем ли мы получить живое, новаторское, творческое общество, основанное на создании новых идей и ценностей, по примеру лучших наших городов и общественных образований, или же мы обречены жить на планете городских трущоб, под угрозой абсолютного опустошения, как описано в романе «Дорога» Кормака Маккарти?[174] С учетом того, что города играют особую, уникальную роль первичного источника многих из наших нынешних проблем и продолжают служить движущей силой суперэкспоненциального приближения к потенциальной катастрофе, для достижения долгосрочной устойчивости существования на планете нам жизненно необходима численная, обладающая предсказательной силой научная основа для понимания их динамики, роста и развития. Возможно, еще более важно для нашего ближайшего будущего разработать эту теорию в рамках теории Великого объединения устойчивости, которая свела бы воедино многочисленные исследования, модели, базы данных, теории и рассуждения относительно глобального потепления, окружающей среды, финансовых рынков, рисков, экономических систем, здравоохранения, социальных конфликтов и мириад других характеристик человека в его роли общественного существа, взаимодействующего с окружающей средой.
Послесловие
1. Наука для XXI века
С самого начала я подчеркивал, что фундаментальная философская система, определяющая направление многих из рассуждений, представленных в этой книге, основывается на парадигме, порожденной мировоззрением физики. Соответственно, одна из главных тем этой работы касается исследования того, в какой степени возможна разработка численного, обладающего предсказательной силой описания, основанного на общих основных принципах, не зависящих от индивидуальных особенностей конкретных систем. Один из фундаментальных постулатов точных наук состоит в том, что окружающий нас мир в конечном счете подчиняется неким универсальным принципам, и именно в этом контексте следует рассматривать законы масштабирования для систем высокой сложности – например, живых организмов, городов или компаний. Как я пытаюсь продемонстрировать, законы масштабирования отражают систематические закономерности, в которых проявляются глубинные геометрические и динамические структуры, из чего следует возможность создания численной научной теории таких систем. В самом крайнем случае эти законы хотя бы позволяют нам установить, до какой степени может быть применима такая методика.
Поиски великих объединений, синтезов, общих черт, закономерностей, идей и концепций, которые выходят за узкие пределы конкретных задач или дисциплин, – это один из главных побудительных мотивов ученых и науки в целом. Некоторые считают, что это определяющая характеристика вида Homo sapiens (человека разумного) вообще, проявляющаяся в наших бесчисленных верованиях, религиях и мифологиях, которые помогают нам сосуществовать с потрясающими тайнами Вселенной. Такие поиски синтеза и объединения продолжают быть одной из главных задач науки еще со времени ее возникновения, начиная с первых греческих философов, которые ввели, в частности, концепции атомов и элементов, фундаментальных кирпичиков, из которых состоит все остальное.
В число классических примеров великих объединений в современной науке входят законы Ньютона, показавшие нам, что на небесах действуют те же законы, что и на Земле, осуществленное Максвеллом объединение электричества и магнетизма, которое привнесло в нашу жизнь эфемерный эфир и дало нам электромагнитные волны, теория естественного отбора Дарвина, напомнившая нам, что мы в конце концов всего лишь животные и растения, и законы термодинамики, из которых стало ясно, что ничто не существует вечно. Каждое из этих открытий имело глубокие последствия, не только потому, что оно изменяло наши взгляды на мир, но и потому, что оно закладывало основы для технических достижений, благодаря которым мы получили тот уровень жизни, каким многим из нас повезло наслаждаться. Тем не менее все они в разной степени неполны. Более того, именно понимание границ их применимости и пределов их предсказательной силы, а также непрекращающиеся поиски исключений, нарушений и недостатков стимулируют дальнейшее развитие науки и появление новых идей, технологий и концепций.
Одна из наиболее важных научных задач, существующих в современной физике, – это поиск теории Великого объединения элементарных частиц и их взаимодействий, включая ее расширение, позволяющее понять устройство космоса и даже происхождение самого пространства-времени. Такая грандиозная теория должна быть основана на лаконичном наборе основополагающих принципов, выражаемых в виде математических формул, которые будут объединять и объяснять все фундаментальные силы природы, от гравитации и электромагнетизма до сильных и слабых ядерных взаимодействий, и включать в себя и законы Ньютона, и квантовую механику, и общую теорию относительности Эйнштейна. В ней должно быть объяснено происхождение всех фундаментальных величин – например, скорости света, наличие именно четырех измерений пространства-времени и массы всех элементарных частиц – и должны выводиться уравнения, управляющие развитием Вселенной от ее возникновения до образования галактик и вплоть до планетарного уровня, включая и саму жизнь. Работа над решением этой поистине замечательной и потрясающе грандиозной задачи в течение уже почти ста лет занимает тысячи исследователей и обходится в миллиарды долларов. Почти по всем возможным параметрам эти поиски, все еще далекие от достижения своей конечной цели, были чрезвычайно успешными: они привели, например, к открытию кварков, фундаментальных составных элементов материи, бозона Хиггса, бывшего причиной возникновения во Вселенной массы, черных дыр и Большого взрыва… не говоря уже о множестве Нобелевских премий[175].
Вдохновленные таким замечательным успехом, физики присвоили этой фантастической мечте величественный титул «Теории всего». Из требований математического согласования между квантовой механикой и общей теорией относительности следует, что основными составными элементами такой универсальной теории могут быть не традиционные точечные элементарные частицы, которые лежали в основе построений Ньютона и всего последующего развития теории, а микроскопические вибрирующие струны. Отсюда появился несколько более прозаический подзаголовок «теории струн». Концепция «Теории всего» подобна изобретению богов (или Бога) тем, что она является выражением величайшего из видений, вдохновения вдохновений, представления о возможности охватить и объяснить все сущее во Вселенной в малом наборе тезисов, в данном случае – кратком наборе математических уравнений, из которых следует буквально все остальное. Однако, как и концепция Бога, она потенциально обманчива и интеллектуально опасна.
Гиперболическое объявление некой области исследований «Теорией всего» подразумевает некоторую интеллектуальную гордыню. Можно ли на самом деле помыслить, что существует такое самое главное уравнение, которое заключает в себе всю информацию о Вселенной? Действительно всю? В которую входит жизнь, животные и клетки, разум и сознание, города и корпорации, любовь и ненависть, выплаты по ипотеке, следующие президентские выборы и так далее? Как, собственно говоря, возникают все те необычайные многообразие, сложность и беспорядочность, в которых участвуем все мы, обитатели Земли? Упрощенный ответ на этот вопрос сводится к тому, что все это есть неизбежный результат взаимодействий и динамики, заключенных в такой великой «Теории всего». Считается, что даже само время возникло из геометрии и динамики этих вибрирующих струн. После Большого взрыва Вселенная расширялась и охлаждалась, и это привело к последовательному возникновению иерархической структуры, от кварков к нуклонам, затем к атомам и молекулам, а потом – ко всей сложности клеток, разума и эмоций и всех остальных явлений жизни и космоса, появляющихся наподобие некоего deus ex machina[176]. И все это – последствия поворота метафорического заводного рычага, образованного из все более сложных уравнений и расчетов, которые, по меньшей мере в принципе, должны иметь решение с любой требуемой степенью точности. В какой-то мере такой предельный вариант редукционизма действительно может быть качественно справедливым, но я не уверен, насколько хоть кто-нибудь действительно верит в него. Как бы то ни было, здесь явно чего-то не хватает.
В это «что-то» входят многие из концепций и идей, которые подразумеваются в вопросах и задачах, рассмотренных в этой книге: концепции информации, эмерджентности, случайности, исторических происшествий, адаптации и отбора; все характеристики сложных адаптивных систем, будь то организмы, общества, экосистемы или системы экономические. Они состоят из мириад индивидуальных компонентов или агентов, обретающих коллективные характеристики, подробное описание которых невозможно вывести заранее, исходя из свойств отдельных составляющих, даже зная динамику их взаимодействий. В отличие от ньютоновской парадигмы, на которой основывается идея «Теории всего», динамика и структура сложных адаптивных систем не может быть полностью выражена в малом числе уравнений. По-видимому, в большинстве случаев это невозможно даже при бесконечном их числе. Более того, предсказание их поведения с произвольной степенью точности невозможно даже в принципе.
Однако, как я пытался продемонстрировать во всех разделах этой книги, теория масштабирования дает нам мощные средства для получения компромиссного решения: разработки численной системы для понимания и предсказания многих общих аспектов таких систем в грубом приближении.
Вероятно, самый неожиданный аспект вдохновенной «Теории всего» заключается в том, что она предполагает, что Вселенная в целом, в том числе ее происхождение и развитие, несмотря на всю ее запутанность, оказывается не сложной, а, как это ни удивительно, простой, так как она может быть выражена ограниченным числом уравнений или даже всего одним главным уравнением. Эта ситуация резко отличается от той, что существует на Земле, где все мы являемся неотъемлемыми элементами самых разнообразных, сложных и беспорядочных явлений из всех, происходящих во Вселенной, понимание которых требует дополнительных концепций, которые, возможно, не поддаются математическому выражению. Поэтому, хотя мы восхищаемся поисками теории Великого объединения всех фундаментальных сил природы и приветствуем его, следует признать, что она не сможет объяснить и предсказать буквально всё.
Следовательно, параллельно с разработкой такой «Теории всего» нам следует заняться аналогичными поисками теории Великого объединения сложности. Задача разработки численной, аналитической, основанной на научных принципах и обладающей предсказательной силой базы для понимания сложных адаптивных систем – это, несомненно, одна из важнейших задач XXI века. Жизненно важным и еще более срочным разделом этой задачи является разработка теории Великого объединения устойчивости, необходимой для устранения тех необычайных угроз, которые возникают перед нами сейчас. Хотя, как и все великие объединения, эти решения почти неизбежно будут неполными и вполне могут оказаться недостижимыми, они тем не менее должны вдохновить нас на создание важных, возможно революционных новых идей, концепций и технологий, которые позволят нам понять, куда мы можем двигаться дальше и сможем ли сохранить то, чего достигли к этому моменту.
2. Междисциплинарность, сложные системы и Институт Санта-Фе
Хотя такое мировоззрение, возможно, и не было прямо сформулировано в столь возвышенных словах, именно оно определяло те задачи, для решения которых был создан Институт Санта-Фе. Это замечательное место. Может быть, оно не всем пришлось бы по душе, но для многих из нас, все еще приверженных наивному, в чем-то романтическому стремлению участвовать в жизни эклектичного сообщества ученых, занятых поисками «истины и красоты» – и разочарованных невозможностью найти его в классической университетской среде, – SFI стал максимальным приближением к осуществлению этой мечты. Я считаю необычайной удачей и честью то, что мне удалось провести несколько очень успешных лет в таком чудесном месте, в котором мою работу стимулировали мои коллеги-единомышленники, пришедшие из самых разных отраслей научной деятельности.
Возможно, атмосферу и характер SFI лучше всех отразил британский научный журналист Джон Уитфилд, писавший в 2007 г.:
Этот институт был задуман поистине мультидисциплинарным – в нем нет отделов, только исследователи… Название Института Санта-Фе стало почти что синонимом выражения «теория сложности»… институт, расположенный сейчас на холме на окраине города, должен быть одним из самых интересных мест для научной работы. Из больших окон кабинетов исследователей и общих помещений, в которые они выходят на обед или на импровизированные семинары, открываются виды на горы и пустыню. От автомобильной стоянки отходят туристические тропы. На кухне института можно подслушать разговор между палеонтологом, специалистом по квантовым компьютерам и физиком, изучающим финансовые рынки. По коридорам и кабинетам бродят кошка и собака. Здесь царит атмосфера смеси кембриджского колледжа и какого-нибудь святилища сумасшедших компьютерщиков с Западного побережья США, компании наподобие Google или Pixar.
Курсив в последнем предложении – мой; я выделил эту фразу, потому что мне кажется, что Уитфилд правильно определил эту уникальную комбинацию характеристик: с одной стороны, башня из слоновой кости оксфордского или кембриджского колледжа, сообщество ученых, посвятивших себя поискам «чистого» знания и понимания, двигающихся в том направлении, которое указывает им их «чутье»; с другой – образ передовой деятельности Кремниевой долины, решение задач «реального» мира и поиск новаторских решений и новых способов преодоления жизненных сложностей. Хотя SFI – это классический исследовательский институт, работа которого не определяется программными или прикладными целями, сама природа тех задач, над которыми он работает, неизбежно заставляет многих из нас непосредственно сталкиваться с крупными общественными проблемами. Поэтому в дополнение к своей сети ученых институт также имеет весьма активную деловую структуру (под названием Applied Complexity Network – «Сеть прикладной сложности»), в которую входит множество компаний, как мелких и начинающих фирм, так и крупных и хорошо известных корпораций, работающих в самых разных отраслях.
SFI занимает уникальное место в научном пейзаже. Его задача – рассмотрение фундаментальных задач и важнейших вопросов всех масштабов на переднем крае научных исследований с особенно интенсивным использованием численных, аналитических, математических и вычислительных методов. В нем нет ни отделов, ни официальных групп, зато существует культура, направленная на стимулирование долгосрочного творческого междисциплинарного исследования во всех областях, от математики, физики, биологии и медицины до общественных и экономических наук. В институте есть небольшой штат собственных сотрудников (но нет постоянных должностей) и около сотни сотрудников сторонних, которые постоянно работают в других учреждениях и проводят здесь разное время, от одного-двух дней до нескольких недель. Кроме того, есть постдокторанты, студенты, журналисты и даже писатели. Институт поддерживает большое количество рабочих групп и секций, семинаров и коллоквиумов, а также принимает множество (несколько сот в год) посетителей. Получается фантастический плавильный котел. В институте нет почти никакой иерархии, а его размеры достаточно малы для того, чтобы каждый работающий в нем легко мог познакомиться со всеми остальными. Археологи, экономисты, социологи, экологи и физики могут ежедневно встречаться друг с другом и свободно беседовать, рассуждать, шутить и серьезно сотрудничать в работе над разными вопросами, как большими, так и малыми.
Идеология этого института выросла из предположения о том, что, если собрать умных людей в благоприятной, стимулирующей, динамичной среде, которая позволит им свободно взаимодействовать, из этого непременно получится что-то хорошее. Культура SFI направлена на создание открытой катализирующей атмосферы, в которой активно приветствуются такие виды взаимодействия и сотрудничества, которые часто бывают затруднены в традиционной факультетской структуре университетов. Сведение вместе обладателей чрезвычайно разных умов, готовых вступить в интенсивное, глубокое сотрудничество, направленное на поиски фундаментальных принципов, общих черт, простоты и порядка в явлениях высокой сложности, стало фирменным знаком научной работы в SFI. В некотором любопытном смысле этот институт является воплощением именно того, что он изучает, – сложной адаптивной системы.
Институт получил международное признание в качестве «официального места рождения междисциплинарных исследований сложных систем» и сыграл ключевую роль в осознании того факта, что многие из наиболее трудных, интересных и глубоких вопросов, стоящих перед наукой и обществом, находятся на стыках между традиционными дисциплинами. К ним относятся вопросы происхождения жизни, общих принципов инновации, роста, эволюции и жизнестойкости (будь то в применении к организмам, экосистемам, эпидемиям или обществам), сетевой динамики в природе и обществе, основанных на биологических принципах парадигм медицины и информатики, взаимосвязей между обработкой информации, энергией и динамикой в биологии и обществе, устойчивости и судьбе социальных организаций, а также динамики финансовых рынков и политических конфликтов.
Поскольку мне выпала большая честь занимать в течение нескольких лет должность президента SFI, я, конечно, не могу быть вполне объективным в отношении его философии, его репутации и его достижений. Чтобы вы не подумали, что все, сказанное выше, – сплошные мои преувеличения, я приведу пару других мнений и замечаний о характере этого института. Роджерс Холингсворт – заслуженный социолог и историк из Университета штата Висконсин, известный своими глубокими исследованиями существенных факторов, определяющих успешность исследовательских групп. В своем выступлении на заседании подкомиссии Национального научного совета (который руководит работой Национального научного фонда), созданной для рассмотрения «трансформационной» науки, он отметил:
Мы с моими коллегами изучили около 175 исследовательских организаций по обе стороны Атлантики, и Институт Санта-Фе во многих отношениях является идеальным типом организации, способствующей творческому мышлению.
А вот цитата из журнала Wired:
С момента своего основания в 1984 г. этот некоммерческий исследовательский центр объединяет лучшие умы разных дисциплин для изучения клеточной биологии, вычислительных сетей и других систем, лежащих в основе нашей жизни. Открытые ими закономерности пролили свет на некоторые из наиболее насущных вопросов нашего времени и заодно послужили основой того, что мы называем теперь теорией сложности.
Институт был изначально задуман маленькой группой выдающихся ученых, в том числе нескольких нобелевских лауреатов, большинство из которых было в той или иной мере связано с Лос-Аламосской национальной лабораторией. Их беспокоило, что дисциплинарная однобокость и специализация стали настолько господствовать в научном мире, что многие важные вопросы, в особенности те из них, которые выходят за рамки отдельных дисциплин или носят общественный характер, остаются без внимания. Система вознаграждений за поступление на работу в научное учреждение, повышение по службе или получение постоянной должности или грантов государственных или частных фондов, или даже избрание в Академию наук все более и более ориентировалось на способность ученого продемонстрировать, что он является экспертом по какой-нибудь малой части какого-нибудь узкого раздела определенной дисциплины. Свобода мысли и рассуждений о крупных вопросах и масштабных проблемах, рискованное выражение взглядов, отличных от общепринятых, становились роскошью, которую мало кто мог себе позволить. Вместо лозунга «публикация или смерть» все в большую силу входил принцип «крупное финансирование или смерть». Начался процесс коммерциализации университетов. Далеко в прошлом остались счастливые времена эрудитов и универсалов вроде Томаса Юнга или Дарси Томпсона. В науке осталось совсем немного людей, склонных к широкому внутридисциплинарному, не говоря уже о междисциплинарном, мышлению, которые не боялись бы высказывать идеи и предлагать концепции, выходящие за пределы области их работы и способные затрагивать «чужую территорию». Для борьбы именно с этой тенденцией и был создан Институт Санта-Фе.
Первые обсуждения возможной научной программы института в основном касались быстро развивавшихся областей информатики, вычислительных дисциплин и нелинейной динамики, в которых Лос-Аламос играл центральную роль. Затем на сцене появился физик-теоретик Мюррей Гелл-Манн. Он осознал, что все эти предложения в большей степени касались методик, нежели идей и концепций, и что для оказания заметного влияния на направление развития науки программа такого института должна быть шире и смелее и включать в себя работу над фундаментальными вопросами. Отсюда и возникла идея общих тем сложности и сложных адаптивных систем, которые касаются почти всех крупнейших проблем и вопросов, стоящих сегодня перед наукой и обществом, – и к тому же неизбежно выходят за границы традиционных научных дисциплин.
Интересную примету нашего времени – и, на мой взгляд, важное свидетельство влияния, которое оказала работа SFI, – можно увидеть в том обстоятельстве, что сейчас многие институты стали провозглашать себя мультидисциплинарными, трансдисциплинарными, многодисциплинарными или междисциплинарными. Хотя такие названия до некоторой степени стали очередными модными словечками, которые используют для описания любого сотрудничества или взаимодействия между подразделами традиционных дисциплин, и не обязательно предполагают смелые прыжки через огромные пропасти, разделяющие их, налицо существенное изменение образа таких исследований и отношения к ним. Эта тенденция охватила весь научный мир и воспринимается уже как нечто само собой разумеющееся, хотя в реальности университеты в той или иной степени остаются столь же узкоспециализированными, как и прежде. Вот, например, цитата с веб-сайта Стэнфордского университета, создающего себе новый образ такого рода и даже утверждающего, что он всегда работал именно в этом духе:
С самого момента своего основания Стэнфордский университет работал на переднем крае междисциплинарного сотрудничества… занимаясь новаторскими фундаментальными и прикладными исследованиями во всех областях. ‹…› Это естественным образом способствует сотрудничеству между разными научными дисциплинами.
Чтобы вы могли оценить масштабы этого необыкновенного сдвига в восприятии, произошедшего за последние всего лишь двадцать лет, я приведу здесь одну историю из начального периода работы SFI.
Среди отцов-основателей института были две крупные фигуры науки ХХ в., два нобелевских лауреата. Одним из них был Филип Андерсон, физик-твердотельщик из Принстонского университета, работавший в области сверхпроводимости и открывший, помимо многого другого, механизм нарушения симметрии, который лег в основу предсказания существования бозона Хиггса. Второй, Кеннет Эрроу из Стэнфорда, внес очень важный и обширный вклад в фундаментальные положения экономики, от теории коллективного выбора до теории эндогенного роста. Он был самым молодым лауреатом Нобелевской премии по экономике, которую также получили и пятеро из его учеников. Андерсон и Эрроу совместно с Дэвидом Пайнсом, еще одним основателем SFI и также выдающимся специалистом в области физики твердого тела, положили начало первой крупной исследовательской программе, которая впервые привлекла к институту внимание общественности. Она была посвящена рассмотрению фундаментальных вопросов экономики с новой тогда точки зрения сложных систем: например, возможностей применения идей нелинейной динамики, статистической физики и теории хаоса для разработки новых аспектов экономической теории. В 1989 г., после одного из первых семинаров, журнал Science опубликовал о нем статью под заголовком «Странные компаньоны»[177]. Она начиналась следующими словами:
Эти два нобелевских лауреата образуют странную пару. ‹…› В течение последних двух лет Андерсон и Эрроу совместно работают над проектом, который кажется одним из самых странных союзов в истории науки – браком или по меньшей мере серьезным романом экономики и физики. ‹…› Это новаторское предприятие осуществляется под эгидой Института Санта-Фе.
Как изменились времена! Сегодня сотрудничество физиков с экономистами совсем не редкость – взять хотя бы массовый приток на Уолл-стрит физиков и математиков, многие их которых невероятно разбогатели, – но двадцать пять лет назад это было делом почти неслыханным, особенно когда речь шла о двух столь заслуженных ученых. Все равно трудно поверить, что эта работа казалась настолько редкостной и необычной, что ее можно было назвать «одним из самых странных союзов в истории науки». Может быть, наши горизонты и впрямь расширяются.
Когда я стал президентом SFI, мне попалось одно мудрое высказывание, сильно запавшее мне в душу. Это были слова человека, который более чем за пятьдесят лет до того участвовал в создании необычайно успешного института и руководил его работой. Речь идет о Максе Перуце, специалисте по кристаллографии, который был одним из лауреатов Нобелевской премии по химии, присужденной за открытие структуры гемоглобина[178]. Перуц использовал технику рентгеноструктурного анализа, которую разработала в начале ХХ в. уникальная исследовательская группа, состоявшая из отца и сына, Уильяма Генри и Уильяма Лоренса Брэггов, совместно получивших Нобелевскую премию по физике в 1915 г., когда сыну, Уильяму Лоренсу, было всего двадцать пять лет. Он до сих пор остается самым молодым нобелевским лауреатом по естественным наукам.
Уильям Лоренс Брэгг был настолько прозорлив, что понимал, что методики, в разработке которых для изучения кристаллической структуры обычных веществ он участвовал, могут оказаться мощным инструментом для изучения строения сложных молекул, являющихся составными элементами жизни, таких как гемоглобин и ДНК. Он активно помогал Перуцу, который был его учеником, в создании исследовательской программы, посвященной исключительно раскрытию тайн строения жизни. Так в 1947 г. в знаменитой Кавендишской лаборатории в Кембридже, директором которой был Уильям Лоренс Брэгг, и появилась одна из наиболее успешных организаций во всей истории науки, Отделение совета по медицинским исследованиям (Medical Research Council Unit, MRCU)[179]. Под руководством Перуца в MRCU всего за несколько лет было выполнено целых девять работ, удостоенных Нобелевских премий, одной из которых было знаменитое открытие двойной спирали ДНК Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком.
В чем же был секрет необычайного успеха Перуца? Неужели он открыл магическую формулу, по которой можно оптимизировать организацию научных исследований? И если это так, то как бы нам использовать эту формулу, чтобы обеспечить будущие успехи Института Санта-Фе? Эти вопросы, естественно, приходили мне в голову, когда я принял на себя руководство SFI. Я выяснил, что Перуц, продолжая свою собственную исследовательскую программу, предоставил своим исследователям полную независимость и обращался со всеми как с равными. Он даже отказался от рыцарского звания, так как считал, что это отдалило бы его от молодых ученых. Он все время оставался в курсе работы всех своих сотрудников и постоянно встречался с разными коллегами за кофе, обедом или чаем. По духу, если не всегда на практике, все это вполне соответствовало тому, к чему всегда стремился я сам, – за исключением разве что отказа от рыцарского звания в том маловероятном случае, если мне его когда-нибудь предложат.
Но самым вдохновляющим оказалось для меня то, что я прочел о Перуце в некрологе о нем в газете Guardian[180]. Вот что там говорилось:
Когда его спрашивали, существуют ли простые принципы, по которым следует организовывать исследования, чтобы они были как можно более творческими, он лукаво отвечал: никакой политики, никаких комиссий, никаких отчетов, никаких рецензентов, никаких собеседований; только одаренные, целеустремленные исследователи, отобранные несколькими здравомыслящими людьми. Разумеется, в нашей расплывчатой демократической системе исследования обычно организуются не таким образом, но в устах человека чрезвычайно талантливого и исключительно здравомыслящего такой ответ вовсе не звучал высокомерно. Он казался естественным, ибо Макс следовал этим принципам на практике и доказал, что именно так и нужно действовать в науке тем, кто хочет опередить весь мир и привлечь к себе лучшие таланты мира.
Итак, у него все-таки была формула – и она работала самым блестящим образом. Сегодня трудно поверить, что он говорил всерьез: «никакой политики, никаких комиссий, никаких отчетов, никаких рецензентов, никаких собеседований», обращать внимание «только» на успешную работу и опираться на здравый смысл. Именно этого в принципе мы и пытались – да и до сих пор пытаемся – достичь в SFI: найти лучших ученых, доверять им, поддерживать их, не досаждать им всякой чушью… и тогда получится что-нибудь хорошее. Именно в этом духе был создан Институт Санта-Фе, и именно этот дух энергично защищали все его президенты, от основоположника Джорджа Коуэна до нашего замечательного нынешнего президента Дэвида Кракауэра. Но если магическая формула Макса была такой простой, почему же ей не следуют все? Попробуйте предложить этот рецепт финансирующим организациям, NSF, DOE, NIH[181], благотворительным фондам, ректорам и деканам университетов или своему депутату – и вы быстро получите ответ на этот вопрос. Разумеется, это формула упрощенная, не вполне реалистичная, из разряда «легче сказать, чем сделать», и апеллирующая к идеальному образу поддержки науки и ученых, которая, возможно, никогда и не существовала в столь наивной форме. Но в этом, может быть, и заключается ее сила. Стремление к столь возвышенным идеалам и попытка создать атмосферу и культуру, в которых развитию идей и поискам знания не мешала бы гегемония квартальных отчетов, беспрестанное сочинение заявок и наблюдательные комиссии, политические интриги и мелочная бюрократия, должно быть важнее всех прочих соображений. Пример Перуца показывает, что именно в этом заключается жизненно важная составляющая успеха. Поэтому каждый год, когда я представляю заключение своего годового отчета нашему попечительскому совету, уже похваставшись нашими успехами и поплакавшись на наше финансовое положение и трудности сбора средств на исследовательскую работу, я зачитываю вслух эту магическую формулу как мантру или выражение надежды, чтобы напомнить нам, к чему мы должны стремиться.
3. Большие данные: парадигма 4.0 или только 3.1?
Начиная с численных наблюдений движения планет, выполненных в XVI в. датским астрономом Тихо Браге, измерения играют центральную роль в развитии нашего понимания всей окружающей нас Вселенной. Данные образуют основу для построения, проверки и уточнения наших теорий и моделей, идет ли речь о попытках объяснить происхождение Вселенной, природу эволюционных процессов или рост экономики.
Данные – это то, чем живут наука, техника и технологии, а в последние годы они стали играть все более важную роль в экономике и финансах, в политике и в коммерции. Почти что никакие из тех задач, о которых я говорил в этой книге, не могли бы быть проанализированы без использования огромных объемов данных. Более того, не имея доступа к таким данным, на которые я опирался в предыдущих главах, мы не могли бы серьезно думать о развитии чего-либо даже близкого к теории сложных адаптивных систем или научной теории городов, компаний или устойчивости. Хорошим примером являются данные миллиардов вызовов сотовой связи, которые мы использовали в своей работе для проверки предсказаний относительно роли социальных сетей и перемещений людей в городах.
Важнейшую роль в этих недавних событиях сыграла революция в информационных технологиях, и речь здесь идет не только о сборе и накоплении данных, но и об анализе и преобразовании огромных объемов вновь возникающей информации в пригодную для обработки форму, которая позволяет делать наблюдения, замечать закономерности или формулировать и проверять предсказания. Скорость и вместимость даже того тринадцатидюймового компьютера MacBook Air, на котором я печатаю эту рукопись, поразительны, а возможности, которые он предоставляет для анализа и извлечения данных, сохранения информации и выполнения сложных вычислений, поистине необычайны. Мой маленький iPad обладает большей мощностью, чем машина Cray-2, бывшая всего двадцать пять лет назад самым мощным в мире суперкомпьютером и стоившая около 15 миллионов долларов. Объемы данных, которые собирают сейчас многочисленные устройства, отслеживающие почти все, что нас окружает, от наших тел, социальных взаимодействий, перемещений и предпочтений до погодных условий и дорожной обстановки, поражают воображение.
Число сетевых устройств, имеющихся сейчас в мире, более чем в два раза превышает общую численность населения Земли, а суммарная площадь их экранов такова, что на каждого человека приходится более 900 кв. см. Мы в самом деле вступили в эпоху больших данных. Объем сохраняемой и передаваемой информации продолжает экспоненциально расти. И все это началось в последнее десятилетие или около того, что служит еще одним ярким проявлением ускорения темпа жизни. Пришествие больших данных провозглашалось в сопровождении громких и преувеличенных обещаний, из которых следовало, что они-то и избавят нас от всех надвигающихся проблем во всех областях, от здравоохранения до урбанизации, и в то же время обеспечат еще более высокий уровень жизни. Нужно только измерять и контролировать все на свете и загружать данные в огромные компьютеры, а те как по волшебству будут выдавать нам ответы и решения, и тогда все наши проблемы и затруднения будут преодолены, и мы поголовно будем счастливы. Эта развивающаяся парадигма хорошо вписывается в захлестывающий нас поток «умных» устройств и методик, которые все в большей степени господствуют в нашей жизни. «Умным» теперь непременно должно быть все новое, будь то умные города, умная медицина, умные термостаты, умные телефоны, умные карты или даже умная упаковка.
Данные – это хорошо, а много данных – еще лучше: таково кредо, которое большинство из нас, особенно если речь идет об ученых, воспринимает как нечто само собой разумеющееся. Но в основе этой веры лежит идея о том, что увеличение количества данных приводит к более глубокому пониманию фундаментальных механизмов и принципов, которое позволило бы построить на прочном основании более правдоподобные предсказания и более точные модели и теории, подлежащие дальнейшим проверкам и уточнениям. Данные ради данных, бездумное накопление больших данных без концептуальной основы для их организации и понимания может быть занятием неправильным и даже опасным. Заключения, основанные на одних только данных или даже на математической аппроксимации данных без глубинного понимания механизмов, которые их порождают, могут быть обманчивыми и приводить к ошибочным выводам и непредвиденным последствиям.
Это предостережение тесно связано со старой максимой, согласно которой «корреляция не означает причинности». Само по себе наличие сколь угодно точной корреляции между двумя наборами данных не говорит о том, что одни из них являются причиной других. Имеется множество причудливых примеров, иллюстрирующих это положение[182]. Например, в течение одиннадцатилетнего периода с 1999 по 2010 г. колебания суммарного объема расходов на научные исследования, космические разработки и технологическое развитие в США почти точно повторяли колебания числа самоубийств через повешение и удушение. Чрезвычайно маловероятно, чтобы между этими явлениями существовала какая бы то ни было причинно-следственная связь: сокращение расходов на науку явно не могло быть причиной уменьшения числа повесившихся. Однако во многих случаях такой вывод бывает не столь очевидным. В общем случае корреляция часто бывает важным признаком наличия причинно-следственной связи, но подтверждено оно может быть только после дальнейшего изучения и построения модели механизмов такой связи.
Это особенно важно в медицине. Например, содержание липопротеинов высокой плотности (ЛВП) – которые часто называют «хорошим холестерином» – в крови имеет обратную корреляцию с частотой возникновения инфарктов, из чего можно заключить, что прием лекарств, повышающих уровень ЛВП, должен снижать вероятность инфаркта. Однако данные, свидетельствующие в пользу такой стратегии, неоднозначны: по-видимому, искусственное повышение уровня ЛВП не приводит к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Это может быть связано с воздействием других факторов – например, генетической предрасположенности, диеты и физической нагрузки, – которые влияют одновременно и на уровень ЛВП, и на вероятность возникновения инфаркта, между которыми может и не быть прямой причинно-следственной связи. Возможно даже, что причинная связь действует в обратном направлении и здоровое состояние сердечно-сосудистой системы приводит к повышению уровня ЛВП. Выявление преимущественных причин инфарктов явно требует организации широкомасштабной исследовательской программы, включающей в себя сбор больших объемов данных в сочетании с развитием моделей механизмов воздействия каждого из факторов – генетических, биохимических, диетологических и экологических. И действительно, на осуществление этой стратегии выделяются огромные средства в разных отраслях медицины.
Большие данные в первую очередь следует рассматривать в следующем контексте: появившиеся сейчас дополнительные возможности «умных» устройств, позволяющих собирать огромные объемы существенных данных, могут усилить классический научный метод, предполагающий кропотливый анализ, развитие моделей и концепций, предсказания которых можно проверить и использовать для разработки новых методик и стратегий. Центральный элемент этой парадигмы состоит в том, что именно непрерывное совершенствование моделей определяет, какие именно данные, в каком количестве и с какой точностью важнее всего получить. Выбор переменных, которые мы рассматриваем и измеряем для получения данных, не случаен – он определяется прошлыми успехами и неудачами в контексте развивающейся концептуальной системы. Наука не сводится к случайным поискам вслепую.
Пришествие больших данных породило сомнения в этом классическом мировоззрении. В 2008 г. в журнале Wired появилась крайне полемическая статья под названием «Конец теории: потоп данных приводит к устареванию научного метода» (The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete), в которой тогдашний редактор этого журнала Крис Андерсон писал:
Ставшие сейчас доступными огромные объемы данных в сочетании со статистическими методами, позволяющими обрабатывать эти цифры, открывают совершенно новые пути понимания мира. Корреляция важнее, чем причинность, и наука может двигаться вперед даже и без непротиворечивых моделей, объединенных теорий или, собственно говоря, вообще каких-либо механистических объяснений… при наличии массы данных такой подход к научным исследованиям – гипотеза, модель, проверка – оказывается устаревшим. ‹…› Отбросим все теории человеческого поведения, от лингвистических до социологических. Забудем таксономию, онтологию и психологию. Как знать, почему люди ведут себя именно так, а не иначе? Важно то, что они ведут себя именно так, и мы можем отслеживать и измерять их поведение с беспрецедентной точностью. При наличии достаточного количества данных цифры говорят сами за себя. ‹…› Сегодня компании вроде Google, выросшие в эпоху доступности огромного количества данных, могут не довольствоваться ошибочными моделями. Собственно говоря, модели им вообще не нужны. ‹…› Нет никаких причин цепляться за старые методы. Пора спросить: чему Google может научить науку?
Я не собираюсь отвечать на этот вопрос; замечу только, что такая радикальная точка зрения становится более или менее господствующей повсюду в Кремниевой долине, в сфере информационных технологий и, все в большей степени, в деловом сообществе. В несколько менее бескомпромиссном варианте она также быстро приобретает популярность и в научных кругах. За последние несколько лет почти во всех университетах окрылись хорошо финансируемые центры или институты, посвященные работе с большими данными и в то же время уделяющие должное внимание другому модному слову – междисциплинарности. Например, Оксфордский университет только что создал в новом, привлекательном, «соответствующем последнему слову техники» здании собственный Институт больших данных (Big Data Institute, BDI). Вот что было сказано по этому поводу: «Работа этого междисциплинарного исследовательского центра будет сосредоточена на анализе больших, сложных, разнородных массивов данных для исследования причин и следствий, профилактики и лечения болезней». Это, несомненно, чрезвычайно достойная задача, несмотря на отсутствие упоминаний о развитии теорий или концепций.
Противоположную точку зрения ярко выразил нобелевский лауреат, генетик Сидней Бреннер, которого я уже цитировал в главе 3 (кстати говоря, он был директором того самого знаменитого кембриджского института, основанного Максом Перуцем, о котором я говорил выше): «Биологические исследования переживают кризис… Технологии дают нам инструменты для анализа организмов на всех масштабных уровнях, но мы тонем в море данных и задыхаемся без теоретической основы, которая позволила бы осознать их. Хотя многие считают, что “чем больше, тем лучше”, история учит нас, что на самом деле “лучше меньше, да лучше”. Нам нужна теория и уверенное понимание природы изучаемых объектов, чтобы предсказывать все остальное».
Вскоре после публикации статьи Криса Андерсона компания Microsoft выпустила интереснейшую серию эссе, собранных в книге под названием «Четвертая парадигма: информационно емкие научные открытия»[183]. Они основаны на идеях Джима Грея, информатика, работавшего в Microsoft и трагически погибшего в море в 2007 г. Он видел в революции данных крупномасштабную смену парадигмы, определяющей будущее развитие науки в XXI в., которую он называл четвертой парадигмой. Первые три, по его мнению, были: 1) эмпирические наблюдения (до Галилея), 2) теории, основанные на моделях и математических формулах (после Ньютона), и 3) вычисления и компьютерное моделирование. Мне кажется, что, в отличие от Андерсона, Грей считал эту четвертую парадигму результатом интеграции первых трех, а именно объединением теории, эксперимента и моделирования, но с дополнительным акцентом на сбор и анализ данных. В этом смысле с ним трудно не согласиться, поскольку именно так наука и развивалась в течение последней пары сотен лет; разница тут в первую очередь количественная: «революция данных» открыла перед нами гораздо более широкие возможности использования и развития тех же методик, которые мы применяем уже давно. С этой точки зрения кажется, что речь должна идти не о парадигме 4.0, а о парадигме 3.1.
Но теперь на поле появился новый игрок, который многим кажется более многообещающим и, по мнению Андерсона и ему подобных, способным устранить потребность в традиционном научном методе. Речь идет о технологиях и методиках, которые называют обучением машин, искусственным интеллектом и аналитической обработкой данных. Они существуют во множестве разных вариантов, но все они основаны на идее о возможности разработки и программирования компьютеров и алгоритмов, способных развиваться и адаптироваться на основе вводимых в них данных для решения задач, формирования новых идей и формулирования предсказаний. Все они используют итерационные процедуры поиска и использования имеющихся в данных корреляций, которые не заботятся о причинах существования таких связей и неявно предполагают, что «корреляция важнее причинности». Этот подход вызывает сейчас большой интерес и уже оказывает сильное влияние на нашу жизнь. Например, он лежит в основе принципов работы поисковых систем, таких как Google, разработки стратегий инвестирования или схем работы организаций, а также работы автомобилей без водителя.
Все это возвращает нас к классическому философскому вопросу о том, до какой степени эти машины «мыслят». Что мы, собственно говоря, подразумеваем под этим словом? Стали ли они уже умнее, чем мы? Смогут ли сверхразумные роботы когда-нибудь заменить человека? Создается впечатление, что призрак таких научно-фантастических фантазий стремительно надвигается на нас. Вполне можно понять, почему Рэй Курцвейл и его единомышленники считают, что следующая смена парадигмы будет интеграцией человека с машиной или в конце концов приведет к появлению мира, в котором господствуют разумные роботы. Как я уже говорил, я отношусь к таким футурологическим прогнозам довольно скептически, хотя вопросы, которые они затрагивают, интересны, чрезвычайно сложны и требуют ответа. Но их обсуждение должно затрагивать другую смену парадигмы, порожденную надвигающейся сингулярностью конечного времени, которая связана с ускоряющимся темпом жизни и включает в себя проблему глобальной устойчивости и появления еще четырех или пяти миллиардов человек, которые вскоре окажутся на нашей планете рядом с нами.
Большие данные, несомненно, окажут огромное влияние на все аспекты нашей жизни и, кроме того, принесут немалую пользу научным исследованиям. Успех этих исследований – появление крупных открытий и новых взглядов на мир – будет зависеть от того, насколько их удастся объединить с глубоким концептуальным мышлением и традиционными методами разработки теорий. Точка зрения Андерсона и, хотя и в меньшей степени, Грея – это своего рода вариант «Теории всего» для информатиков и статистиков. Она утверждает с той же гордыней и тем же нарциссизмом, что именно в ней заключается единственный способ понять все. Станут ли большие данные новой наукой, пока неясно. Но они действительно могут ею стать, если будут использоваться в сочетании с традиционным научным методом.
Замечательный пример того, как интеграция больших данных с традиционной научной методологией может привести к важному научному открытию, дает открытие бозона Хиггса. Прежде всего вспомним, что бозон Хиггса – это ключевой элемент основополагающих законов физики. Он пронизывает всю Вселенную и порождает массу всех элементарных частиц материи, от электронов до кварков. Его существование было блестяще предсказано более шестидесяти лет назад группой из шести физиков-теоретиков. Это предсказание не возникло на пустом месте, а было итогом развития традиционной науки с анализом тысяч экспериментов, поставленных в течение многих лет, и итерационного применения к ним математических теорий и концепций, разработанных для наиболее экономного объяснения наблюдаемых явлений, и постановки следующих экспериментов для проверки теоретических предсказаний.
Развитие технологий до уровня, на котором появилась возможность предпринять серьезные поиски этого трудноуловимого, но жизненно важного элемента нашей объединенной теории фундаментальных сил природы, заняло более пятидесяти лет. Центральным этапом этих поисков было строительство гигантского ускорителя элементарных частиц, в котором два кольцевых протонных пучка движутся в противоположных направлениях со скоростью, близкой к скорости света, и сталкиваются друг с другом в зонах взаимодействия, находящихся под тщательным контролем экспериментаторов. Сооружение этой установки под названием Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC), построенной в Европейском центре ядерных исследований в швейцарском городе Женеве, стоило более 6 млрд долларов. Даже размеры этого титанического научного прибора поражают воображение: длина его кольца составляет около 27 км, а каждый из двух основных детекторов, которые, собственно, и производят наблюдения и измерения столкновений частиц, имеет около 50 м в длину, 25 м в высоту и 25 м в ширину.
Весь этот проект в целом представляет собой беспрецедентное техническое достижение, а полученная в его результате информация далеко опережает по объемам любые большие данные – ничто другое даже приблизительно с ней не сравнится. Каждую секунду происходит около 600 миллионов столкновений, за которыми следят около 150 миллионов индивидуальных датчиков в каждом из детекторов. Это дает около 150 миллионов петабайт данных в год, или около 150 эксабайт в сутки (как мы помним, байт – это базовая единица информации). Попробуем осознать, что означают эти цифры. Созданный в редакторе Word документ, содержащий весь текст этой книги и все ее иллюстрации, занимает менее 20 мегабайт (20 МБ – это 20 млн байт). В моем компьютере MacBook Air можно сохранить до 8 гигабайт данных (8 ГБ – это 8 млрд байт). Все фильмы, хранящиеся в системе Netflix, занимают менее 4 петабайт, что равно 4 млн ГБ, то есть приблизительно в полмиллиона раз больше, чем емкость моего компьютера. Дальше – больше: суммарный объем данных, производимых за каждые сутки всеми компьютерами и другими информационными устройствами в мире, вместе взятыми, составляет около 2,5 эксабайта, а один эксабайт равен 1018 байт, то есть миллиарду гигабайт.
Эти поразительные цифры часто рекламируют в качестве меры революции больших данных. Но на самом деле замечательно другое: они меркнут в сравнении с объемами данных, которые производит LC. Если регистрировать каждое из 600 млн столкновений, происходящих каждую секунду, их объем составит около 150 эксабайт в сутки, что приблизительно в 60 раз больше суммарного количества данных, производимых всеми вычислительными устройствами в мире, вместе взятыми. Очевидно, это означает, что наивная стратегия, которая позволяет данным «говорить самим за себя» при помощи алгоритмов обучения машин, используемых для поисков корреляций, которые в конце концов должны будут привести к обнаружению механизма Хиггса, работать не будет. Даже если такая машина будет выдавать в миллион раз меньше данных, успешность такой стратегии остается крайне маловероятной. Как же физикам удалось найти пресловутую иголку в этом гигантском стогу сена?
Дело в том, что у нас есть глубоко проработанные, вполне понятные и тщательно проверенные концептуальная система и математическая теория, которые указывают нам, где именно следует искать. Они говорят нам, что почти все осколки, образующиеся почти во всех столкновениях, не представляют интереса или не имеют значения с точки зрения поисков бозона Хиггса. Собственно, они говорят нам, что приблизительно из 600 млн столкновений, происходящих каждую секунду, нас интересует всего лишь около сотни, то есть около 0,00001 % всего потока данных. Именно благодаря разработке сложного алгоритма, выделяющего лишь очень малую и очень конкретную часть данных, и был в конце концов открыт бозон Хиггса.
Вывод ясен: ни в науке, ни в данных нет демократии. Наука меритократична, а разные данные не равны друг другу по значимости. Что бы вы ни искали или ни изучали, важно руководствоваться теорией, полученной при помощи традиционной методики научных исследований, будь такая теория тщательно разработанной и выраженной в численном виде, как в случае фундаментальной физики, или сравнительно мало развитой и качественной, как в большинстве общественных наук. Теория помогает существенно ограничить область поисков, более точно формулировать вопросы и понимать ответы на них. Чем значительнее количество больших данных, которые можно использовать в таком предприятии, тем лучше, но при условии, что они заключены в рамки более общей концептуальной системы, которую, в частности, можно применять для оценки существенности корреляций и их связи с причинно-следственными механизмами. Если мы не хотим «утонуть в море данных», нам нужна «теоретическая основа, которая позволила бы осознать их… и уверенное понимание природы тех объектов, которые мы изучаем, чтобы предсказывать все остальное».
И еще одно, заключительное замечание. Информационная революция была последней на сегодня крупной сменой парадигмы и, как и все предыдущие, она подталкивает нас к «сингулярности конечного времени», о которой я рассуждал в главе 9. Она стала возможной благодаря изобретению поразительного ассортимента необычайно «умных» устройств, которые производят огромное количество данных. И так же, как и предыдущие крупные смены парадигмы, она ожидаемо привела к увеличению темпа жизни. Кроме того, она буквально сделала мир теснее, обеспечив возможность моментальной связи с любой точкой мира в любой момент. Помимо этого она сделала так, что нам теперь не обязательно жить в городской среде, чтобы принимать участие в городских социальных сетях и динамике агломерации – которые и порождают суперлинейное масштабирование и неограниченный рост – и пользоваться их преимуществами. Теперь мы можем создавать более мелкие, даже сельские, сообщества, которые будут также интегрированы в общую жизнь, как и жители самого сердца крупного мегаполиса. Значит ли это, что мы можем избежать ловушек, которые ведут к непрерывному ускорению темпов жизни, сингулярностям конечного времени и перспективе краха? Неужели мы натолкнулись на путь, позволяющий разорвать порочный круг, в котором та же система, которая породила наш огромный социально-экономический рост в течение последних двухсот лет, может привести нас к окончательной гибели? Неужели нам наконец удастся поймать обоих зайцев?
Этот вопрос, очевидно, пока что остается без ответа. Действительно, имеются первые признаки проявления такой динамики, но они все еще чрезвычайно слабы. На самом деле подавляющее большинство тех, кто мог бы переехать из городов, не теряя тесной связи с центром событий, предпочитают этого не делать. Даже Кремниевая долина, бывшая преимущественно пригородной, проникла в центр Сан-Франциско, что создает напряженность между традиционной торговлей и бурными проявлениями высокотехнологичного образа жизни. Я не знаю специалистов по высоким технологиям, которые работали бы, уйдя от мира на горные вершины калифорнийской Сьерры. Подавляющее большинство из них предпочитает традиционный городской образ жизни. Города не пустеют, а, напротив, оживляются и растут, отчасти в связи с социальной привлекательностью общения в реальном времени.
Более того, мы считаем, что ничто не может сравниться с переменами, которые принесла информационная революция со всеми своими смартфонами, электронной почтой, текстовыми сообщениями, электронными социальными сетями и так далее. Представим себе, однако, что дала в XIX в. железная дорога, а в начале XX – изобретение телефона. До появления железной дороги люди по большей части за всю свою жизнь не отъезжали от своего дома дальше чем на 30 км, как вдруг оказалось, что из Лондона сравнительно легко доехать до Брайтона, а из Нью-Йорка – до Чикаго. Сообщения, доставка которых до изобретения телефона занимала несколько дней, недель или даже месяцев, теперь стали передаваться моментально. Эти перемены были поистине фантастическими. Их относительное влияние на нашу жизнь, в особенности в том, что касается ускорения ее темпов и изменения нашего восприятия пространства и времени, было более сильным, чем у нынешней информационной революции. Но они не привели к деурбанизации или уменьшению городов. Напротив, они вызвали их экспоненциальное расширение и развитие пригородов, ставших неотъемлемой частью городской жизни. Сохранится ли эта тенденция в нынешней парадигме, неизвестно, хотя я подозреваю, что жизнь так и будет продолжать ускоряться, а урбанизация так и останется господствующей силой по мере нашего приближения к грядущей сингулярности. Результаты этого движения во многом определят жизнеспособность нашей планеты.
Постскриптум и выражение благодарности
Поскольку эта книга охватывает такую большую и разнообразную область, при ее написании я столкнулся с одним неожиданным затруднением – проблемой выбора подходящего названия, которое выражало бы ее главную идею всего в нескольких словах или даже в половине «твита». Рассмотрев несколько довольно убогих вариантов – вроде «Размер все-таки важен», «Вверх и вниз по древу жизни» или «Мера всех вещей», – я остановился на несколько неясном названии «Масштаб», потому что именно это слово определяет объединяющую тему всей книги. Однако слово это может означать для разных людей совершенно разные вещи. Для одних оно связано с картами и схемами, для других – с музыкой, для третьих – со взвешиванием овощей или мяса, а еще для кого-то – и вовсе с отложениями на шероховатой поверхности[184]. Эти значения явно не имели отношения к теме книги, так что, дав ей заглавие «Масштаб», я был вынужден пуститься на поиски запоминающегося подзаголовка, который более ясно выражал бы то, что я имел в виду.
Пытаясь отразить более грандиозный образ масштаба («масштабы Вселенной»), я придумал следующий величественный подзаголовок: «Поиски простоты и единства в сложности жизни, от клеток до городов, от компаний до экосистем, от миллисекунд до тысячелетий». Это по меньшей мере отчасти выражало дух книги и, в частности, принципиально важные взаимоотношения между общей, «космической» перспективой и более конкретными проблемами «реального мира», которые я рассматривал. Но, хотя фраза эта получилась несколько громоздкой, она все равно не затрагивала многие из центральных аспектов книги, которые, по мнению Скотта Мойерса, моего редактора в издательстве Penguin Press, следовало подчеркнуть. В конце концов, рассмотрев несколько вариантов и различные предожения, которые выдвигали Скотт, мой редактор в британском издательстве Weidenfeld Пол Мерфи, моя жена Жаклин и мой агент Джон Брокман, я остановился на том подзаголовке, который вы видите на титульном листе: «Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний». Самое изобретательное заглавие придумал мой сын Джошуа, который преподает науки о Земле в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он предложил заглавие-аббревиатуру: «SCALE: Size Controls All of Life’s Existence»[185].
Его вариант получился запоминающимся, до смешного преувеличенным и довольно хитроумным, но мне, к сожалению, не хватило наглости его использовать. Однако, если бы я его сохранил, его наверняка забраковали бы и Скотт, и Пол – и правильно сделали бы.
Я рассматривал все задачи, о которых идет речь в этой книге, в первую очередь с точки зрения физика-теоретика, языком которого является математика. Поэтому лейтмотивом всей книги была необходимость разработки более численной, вычислительной, обладающей предсказательной силой картины, основанной на фундаментальных принципах, которая дополняла бы традиционные, более качественные и описательные подходы, часто господствующие в работах по общественным, биологическим, медицинским и экономическим дисциплинам. Тем не менее во всей этой книге нет ни одного уравнения. Я очень серьезно воспринял предупреждение лорда Эрнеста Резерфорда, знаменитого первооткрывателя атомного ядра, «отца ядерного века», – «теория, которую вы не можете объяснить бармену, скорее всего, никуда не годится». Я не вполне убежден в его правоте, но принял близко к сердцу дух его высказывания. Поэтому я надеюсь, что мне в какой-то степени удалось сохранить рассуждения и объяснения на настолько неспециализированном уровне, чтобы пресловутому «разумному неспециалисту» было не слишком сложно понимать их. При этом я позволил себе некоторые поэтические вольности, излагая суть сложных технических или математических доказательств в простых обиходных выражениях, и надеюсь, что мои коллеги-ученые проявят снисходительность и извинят мне чрезмерные упрощения, неверные описания или недостаточную точность, где бы они ни встретились.
Задачи, вопросы и объяснения, представленные в этой книге, беззастенчиво подаются с моей личной точки зрения. Поэтому мою книгу нельзя считать ни энциклопедическим справочником, ни всеобъемлющим обзором существующей огромной литературы по затронутым в ней темам и проблемам. Ее главной целью было показать, что при рассмотрении мира, в котором мы живем, с точки зрения масштабирования подо всей его необычайной сложностью, разнородностью и беспорядочностью обнаруживаются поразительные единство и простота. Великие мыслители написали многие тома почти обо всем, чего касается эта книга, и само собой разумеется, я опирался на то, что многие поняли и проанализировали до меня. Там, где это было уместно, я старался отмечать их заслуги, но ни в коей мере не претендую на полноту упоминания всех, кто внес свой вклад в развитие тех идей и концепций, которые я рассматривал. Надеюсь, что я не задел этим слишком многих.
Многие из рассуждений и почти все примеры, использованные в книге, основаны на большой работе, в которой я интенсивно участвовал в течение последних двадцати с лишним лет совместно с группой необычайно одаренных коллег. Не все из тех больших тем и конкретных задач, которыми мы занимались, описаны одинаково подробно. Мне приходилось выбирать, и некоторые из них вообще не были упомянуты или были затронуты лишь мимоходом. Выбор конкретных тем и то, насколько глубоко они были рассмотрены, определялись отчасти их фундаментальной значимостью, отчасти их принадлежностью к важным темам, представляющим общий интерес, а отчасти моими собственными субъективными предпочтениями. На протяжении всей книги я делал больший упор на концептуальные основы общей картины и объяснение фундаментальных идей, нежели на углубление в подробности, хотя и старался не увиливать от более глубокого рассмотрения и раскрытия таких подробностей там, где это казалось мне необходимым. Поэтому, как и в самих наших исследованиях, в книге осталось много незавершенных тем и вопросов, оставшихся без ответа. Однако любопытному читателю не составит большого труда продолжить исследование очерченной мною области, если она его заинтересует, при помощи материалов, перечисленных в конце книги.
Я перемежал научные рассуждения рассказами о некоторых из тех, кто сыграл ключевую роль в развитии различных центральных концепций, играющих в этой книге важную роль. При этом я обращал особое внимание на выборку из нескольких замечательных людей, обладавших широким интеллектуальным кругозором и изменивших наши взгляды на мир, но не получивших заслуженного признания, иногда даже среди широкой научной общественности. Возможно, вы раньше не слышали имен Адольфа Кетле, Томаса Юнга и Уильяма Фруда. Я также включил в книгу несколько историй из собственной жизни, чтобы показать, как сам я пришел к размышлениям над некоторыми из этих задач, и в частности, как мое увлечение элементарными частицами, струнами, темной материей и эволюцией Вселенной сменилось попытками понимания клеток и китов, жизни и смерти, городов и глобальной устойчивости, а также причин смерти компаний.
Поворотной точкой этого перехода стало мое знакомство с выдающимся экологом и замечательным исследователем Джимом Брауном. В главе 3 я рассказывал о том, как произошла эта случайная встреча, как после этого началась моя многолетняя работа в Институте Санта-Фе и как все это привело к необычайному сотрудничеству, изменившему мою – и, как мне кажется, его – жизнь. Я также отмечал важнейшую роль Брайана Энквиста, который был тогда учеником Джима, а сейчас и сам стал маститым экологом. Брайан был первым из небольшого потока выдающихся молодых людей, которые присоединились к нашей «группе масштабирования» для работы над многими из задач, о которых говорится в следующих главах: в их число входили экологи Джейми Гиллули, Дрю Аллен и Цзо Веньюнь, физики Вэн Сэвидж, Хоу Чень, Алекс Герман и Крис Кемпес, а также специалист по информатике Мелани Мозес. Еще одним чрезвычайно важным членом нашей группы был известный биохимик Вуди Вудрафф, вышедший с тех пор на покой и вернувшийся к холмам своего родного штата Теннесси.
В главе 7 я рассказывал о том, как из группы масштабирования естественным образом выделилась «группа городов». На самом деле этот процесс начался в рамках гораздо более крупного проекта в области общественных наук под названием «Информационное общество как сложная система» (Information Society as a Complex System ISCOM), получившего щедрое финансирование Европейского союза. В этой работе участвовали итальянский статистик/экономист Дэвид Лэйн, голландский антрополог Сандер ван дер Леу и французский специалист по городской географии госпожа Дениз Пюман; все они являются видными авторитетами в своих областях. Я не думаю, чтобы эта работа могла быть выполнена без их изначального вклада, энтузиазма и поддержки. Почти всю работу по анализу функционирования городов, описанному в главах 7 и 8, выполнили молодые исследователи, физики Луис Беттанкур, Юн Хечжин и Дирк Хелбинг, специалисты по городской экономике Хосе Лобо и Дебби Струмски, антрополог Маркус Гамильтон, математик Мадлен Депп и инженер Маркус Шлепфер. В числе других сотрудников, участвовавших в нашей работе периодически, но также внесших в нее важный вклад и повлиявших на мои взгляды, были эколог Рик Чарнов, системный биолог Авив Бергман, физики Хенрик Йенсен, Мишель Жирван и Кристиан Кунерт, инвестиционный аналитик Эдуардо Вьегас и архитектор Карло Ратти, о котором я говорил в главе 8.
Мне поистине повезло в том, что все эти люди были моими сотрудниками, и я глубоко признателен каждому из них. Я специально подчеркиваю их профессиональную принадлежность, чтобы выделить широкий междисциплинарный характер этих проектов, который был необходим для серьезного изучения тем и задач, составляющих основу этой книги. Их индивидуальная и коллективная целеустремленность и страсть к глубокому пониманию и решению важных задач были фирменным знаком наших постоянных встреч и общения. Их глубокие вопросы и идеи, технический и концептуальный вклад, а также их готовность к участию в серьезных коллективных обсуждениях были ключевыми ингредиентами нашего успеха. Я уверен, что некоторые из них могут не согласиться с тем, как именно я представляю некоторые из результатов нашей работы, и заранее приношу свои извинения за те неудобства или затруднения, которые это может вызвать. Я принимаю на себя полную ответственность за любые ошибки или искажения.
Я рад сказать, что все наши молодые исследователи успешно продолжили свою карьеру в превосходных университетах, в которых они помимо прочего продолжают уже самостоятельно заниматься исследованиями такого рода. С точки зрения моих собственных контактов наибольшее значение имеют двое из них, Вэн Сэвидж и Луис Беттанкур. Вполне вероятно, это связано с тем, что оба они изучали теоретическую физику, так что нам с ними легко было найти общий язык. Луис, ставший теперь моим коллегой по Институту Санта-Фе, сыграл центральную роль в разработке теории городов, о чем довольно подробно рассказывается в главе 7. Вэн, пришедший в SFI постдокторантом, впоследствии перешел в Гарвард, а затем – в UCLA, где он стал ведущим специалистом по теории экологии. Я хотел бы упомянуть две из множества задач, над которыми мы с таким удовольствием работали вместе; в книге о них подробно не говорится, хотя обе эти задачи были интересными, трудными и очень важными. Одна из них касалась разработки численной теории сна, демонстрирующей, например, почему киты спят всего лишь по два часа в сутки, мыши по пятнадцать, а мы – около восьми. Мы с блестящим учеником Вэна Цао Цзюньюем недавно расширили эту теорию, включив в нее описание схемы сна у детей и младенцев и показав, что эта система дает важную информацию о раннем развитии мозга. Другая задача, над которой мы работали в сотрудничестве с Алексом Германом, заключалась в разработке первой численной теории роста, уровня метаболизма и сосудистой структуры опухолей, и мы надеемся, что эта работа приведет к созданию новых методик борьбы с раком.
Я, видимо, напрасно не привлек внимание к тому факту, что некоторые аспекты биологических исследований, о которых идет речь в главах 3 и 4, подвергались немалой критике. Это происходило несмотря на то – а может быть, именно в связи с тем, – что эта работа оказала большое влияние на других исследователей, как свидетельствуют многочисленные ссылки на нее в научной литературе, и привлекла к себе широкое внимание как в научной, так и в популярной печати, от Financial Times до New York Times. Множество посвященных ей публикаций появилось в крупных СМИ всего мира, в том числе и на телевизионных каналах от National Geographic до BBC. Журнал Nature даже говорил о «биологической теории всего» и утверждал, что «ее значение для биологии потенциально может сравниться со значением вклада Ньютона в физику» – характеристика чрезвычайно лестная, но, разумеется, сильно преувеличенная. В другой статье в том же журнале также говорилось, что «…эта теория объясняет столь многое, используя столь малые средства. Ее смелость и широта поражают воображение. Любая теория, кажущаяся настолько всеведущей, привлечет столько же ворчания сомневающихся, сколько и восхищенных вздохов. ‹…› Ни одна сопоставимая идея не может сравниться с нею, несмотря на ее неизбежные ограничения».
Работая над этой книгой, я принял стратегическое решение прямо не рассматривать «ворчание сомневающихся», а сосредоточиться на разъяснении сути. Одной из главных причин этого решения было то, что с нашей субъективной точки зрения никто из критиков не был достаточно убедительным. Некоторые из них просто ошибались, а некоторые сосредоточивались на каком-нибудь одном узком аспекте какой-нибудь конкретной системы, для которого часто существовали по меньшей мере столь же основательные альтернативные объяснения. Кроме того, почти все их сомнения касались исключительно уровня метаболизма у млекопитающих, причем они не замечали ни огромного охвата системы, ни того, что она предлагает единое экономное объяснение, основанное на фундаментальных принципах биологии, физики и геометрии, для гигантского спектра эмпирических зависимостей масштабирования. Нет нужды говорить, что такие критические возражения были рассмотрены и получили ответы в научной литературе, ссылки на которую приведены в книге.
Само собой разумеется и то, что чрезвычайно важную роль сыграла энергичная моральная и интеллектуальная поддержка и одобрение многих других коллег и друзей, совершенно необходимые для завершения этой книги, особенно в те моменты, когда мой собственный энтузиазм шел на убыль. Атмосфера и культурное многообразие, существующие в Институте Санта-Фе, идеально подходили для развития большинства идей, представленных в предыдущих главах. В разных местах книги рассказывается несколько историй из жизни SFI, и часть моего послесловия посвящена восхвалению его достоинств и объяснению причин, по которым я считаю, что его работа во многом предвещает то, какой будет наука в XXI в. Я в особенности признателен замечательной, энергичной Эллен Голдберг, убедившей меня перейти в SFI, президентом которого она тогда была. Этот шаг заново запустил отсчет моей интеллектуальной жизни. Существуя среди нескончаемого потока необыкновенных людей, находящихся на разных этапах своей карьеры, от студентов до нобелевских лауреатов, и представляющих самые разные сферы научной и культурной деятельности, я чувствовал себя как ребенок в кондитерской лавке.
В связи с этим я также хотел бы поблагодарить членов сообщества SFI в самом широком смысле этого слова, как поодиночке, так и всех вместе, за расширение моих научных горизонтов и их помощь, которая позволила мне начать разбираться в тонкостях и трудностях, связанных с изучением сложных адаптивных систем. Среди тех, кого я хотел бы особо упомянуть, Пабло Маркет, Джон Миллер, Мюррей Гелл-Манн, Хуан Перес-Меркадер, Дэвид Кракауэр, Кормак Маккарти, а также Билл Миллер и Майкл Мобуссин, соответственно, бывший и нынешний председатели попечительского совета SFI: все они в течение многих лет с неизменным энтузиазмом поддерживали и стимулировали мою деятельность. Я глубоко признателен и многим обязан всем им. В особенности я благодарен Кормаку за скрупулезную вычитку и редактирование моей рукописи, которую он исследовал до мельчайших подробностей, и его обширные комментарии, которые очень улучшили итоговый вариант книги. Хотя я принял большинство его рекомендаций относительно грамматики и построения предложений, я по-прежнему не согласен с его абсолютным неприятием точек с запятыми и восклицательных знаков, а также с его пристрастием к оксфордской запятой[186].
Помимо своих близких сотрудников я также должен выразить благодарность эклектичной группе людей, не занимающихся наукой, которые посчитали интересным то, что я могу сказать, и с энтузиазмом побуждали меня написать книгу для широкой публики. Именно их отзывы заставили меня переключить регистр и написать неспециальную, «научно-популярную» книгу, а не очередной труд, предназначенный для моих коллег по науке. Среди них были историк Ниалл Фергюсон, искусствовед и критик Ханс Ульрих Обрист, писатель и актер Сэм Шепард, основатель компании Amazon Джефф Безос и основатель корпорации Salesforce Марк Бениофф. Меня очень тронуло, когда Марк прислал мне большое изображение сфирот – традиционного символа каббалы, олицетворяющего духовное единство жизни, – и посоветовал мне медитировать над ним каждый день. Не могу сказать, чтобы я пунктуально следовал его совету, но, когда мне приходилось трудно, это изображение помогало мне не терять из виду главную цель. Я также должен особо поблагодарить замечательного Ричарда Вурмена, основоположника конференций TED, неустанно поддерживавшего мою работу с самым горячим энтузиазмом.
Хотя для теоретических исследований нужны – по меньшей мере метафорически – только карандаш и бумага, они уже невозможны без существенной финансовой поддержки. Мне посчастливилось получить финансирование из нескольких разных источников, как государственных, так и частных, обеспечившее возможность проведения многих из тех исследований, на которых основана эта книга. Я глубоко признателен Лос-Аламосской национальной лаборатории и Министерству энергетики США за поддержку моих исследовательских вылазок в область биологии в то время, когда я еще возглавлял программу по физике высоких энергий в этой лаборатории. В этот жизненно важный для моей работы начальный момент Национальный научный фонд предоставил мне скромный грант на исследования масштабирования в биологии. Я признателен Бобу Эйзенштейну, руководившему тогда отделением фонда, и Рольфу Синклеру, руководителю программы, за то, что они рискнули поддержать это направление исследований, бывшее в то время довольно непопулярным. В течение последующих лет NSF продолжал оказывать поддержку работам по биологии и распространил ее на некоторые из наших первых работ по городам. В этом большая заслуга прозорливого, неутомимого Крастана Благоева, который впоследствии создал и до сих пор проводит в жизнь специализированную программу под названием «Физика живых систем» (The Physics of Living Systems), направленную на изучение важных задач, находящихся на стыке традиционных дисциплин.
Значительная помощь поступала и из негосударственных источников, в том числе из Hewlett Foundation, Rockefeller Foundation, Bryan and June Zwan Foundation и в особенности из благотворительного треста Юджина и Клер Тоу. Джин Тоу оказал необычайно щедрую помощь и в наших исследованиях, и, что не менее важно, в написании этой книги. У меня сложились совершенно особые отношения со сменявшими друг друга директорами треста, от его основоположницы Сьюзан Хертер до Шерри Томпсон и Кэти Флэнеган. Джин – замечательный человек, джентльмен старой закалки, носящий шейные платки и твидовые пиджаки, человек исключительной культуры, который действительно заботится о судьбе мира. Он широко известен как коллекционер и критик произведений искусства, а также галерист и давний и энергичный покровитель искусств. На будущий год ему исполняется девяносто, и нью-йоркская Библиотека-музей Моргана будет целиком отдана под выставку его замечательной коллекции рисунков, от Пиранези и Рембрандта до Сезанна и Пикассо, а Метрополитен-музей будет выставлять его несравненную коллекцию искусства и изделия американских индейцев. Со страстью Джина к опере и искусству может сравниться только его страстный интерес к экологии и вопросам глобальной устойчивости, и именно в этом контексте он вызвался спонсировать наши исследования. Из всех, кого я знаю, он ближе всего подходит к образу классического мецената: его поддержка моей научной программы дала мне полную свободу исследовать при написании этой книги все, чего только могли пожелать мое воображение и мое любопытство. Мне доставляет большое удовольствие поблагодарить его за щедрость и терпение.
Эта книга не была бы написана не только без постоянной поддержки треста Тоу, но и без призывов и уговоров моего неутомимого агента Джона Брокмана. Я до сих пор не вполне понимаю, почему он был настолько уверен, что мне следует написать книгу. Это была долгая эпопея, на всем протяжении которой Джон, а затем его сын Макс, помогали мне, и я чрезвычайно благодарен им за эту поддержку. Джон мягко заставил меня написать исходную заявку на книгу, которую я в конце концов закончил в имении Фонда Рокфеллера в итальянском городе Белладжо. Там царила именно та атмосфера, которая была мне нужна, и я чрезвычайно признателен фонду за то, что мы с моей женой Жаклин смогли провести там исключительно продуктивный месяц. Хотя обычно Фонд Рокфеллера не поддерживает фундаментальные исследования, он также предоставил очень щедрое финансирование нашей работы по изучению городов. Президент фонда Джудит Родин оказала нам большую поддержку, но особо следует поблагодарить Бенджамина де ла Пенья, который был ответственным за нашу программу и боролся за нас.
Эта книга вряд ли была бы завершена – и уж точно была бы гораздо менее вразумительной, – если бы не Скотт Мойерс, мой чудесный редактор в издательстве Penguin Press. Он неустанно трудился на мое благо, оставаясь редактором неизменно воодушевляющим, неизменно вдумчивым и неизменно деликатным, даже когда критиковал меня… а также поразительно терпеливым и сочувственным. Наверняка он пришел в ужас, когда книга разрослась с предполагавшихся скромных размеров до чего-то гигантского, и сроки ее завершения растянулись в два раза. Его скрупулезное до мельчайших подробностей редактирование рукописи, его точные вопросы и мудрые советы оказали мне неоценимую помощь. Скотт, никакие слова не в силах выразить мою благодарность. Все остальные сотрудники Penguin Press также были чудесны: Кристофер Ричардс и Кьяра Барроу, которым помогала Теа Трафф из журнала New Yorker, сыграли важнейшую роль в организации всех моих беспорядочных иллюстраций и правок.
Наконец, я с огромным удовольствием благодарю членов своей семьи за поддержку и невероятное терпение в течение всего этого долгого процесса. Наши чудесные дети Джошуа и Девора постоянно болели за меня, подбадривая меня каждый раз, когда я терял мяч, и бурно празднуя каждый редкий гол. Я уверен, что теперь, когда эта книга осталась позади, они вздохнут с облегчением. Самая глубокая признательность причитается моей необыкновенной жене Жаклин, которая была и остается моим товарищем по душе, духу и разуму не только во время написания этой книги, но и на протяжении всего нашего замечательного совместного пути, длящегося уже почти пятьдесят пять лет, – и что это за прекрасный путь! Ее честность, ум и глубокая любовь являются главной опорой нашей совместной жизни и придают существованию смысл, который дополняют лишь вечные поиски знания.