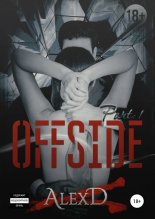Как-то лошадь входит в бар Гроссман Давид
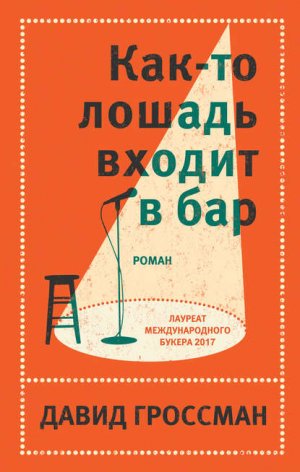
– Помнить!
– Нет: «Записать». Солдат, офицер, поезд, вышивка… Иду за ней, иду медленно, еще медленней, думаю: что же это может быть, наверняка это ошибка, почему именно меня они посылают на похороны? Почему они не выбрали кого-то другого?
Он говорит быстро, со сдержанным усилием. Голова опущена, руки его все глубже и глубже внедряются в подмышки. Мне кажется, он чуть дрожит.
– И так я иду и пережевываю мысли, медленно, и еще медленнее, и еще медленнее, и не понимаю, и не понимаю, и не… и вдруг я подпрыгиваю, и переворачиваюсь, и иду на руках. Иду, иду за ней, песок горячий, как огонь, жжет ладони, не страшно, жжет – это хорошо, жжет – это не думать, содержимое моих карманов вываливается на землю – деньги, телефонные жетоны, жвачка, всякая всячина, что впихнул мне отец в дорогу, маленькие сюрпризы, он всегда впихивал мне, особенно после того, как лупил меня, ну, не важно. Я иду быстро, бегу, – он поднимает ладони над головой, «шагает» ими в воздухе, и я замечаю, что они и вправду дрожат, пальцы дрожат, – кто найдет меня, когда я вверх ногами, кто может меня поймать?
Мертвая тишина в зале. Мне кажется, что в глубине души люди пытаются понять, как – какой изощренной ловкостью рук, головоломным трюком или колдовством – они перенесены из того места, где они были всего лишь несколько минут тому назад, в эту новую историю.
Я чувствую себя точно так же. Будто из-под ног ускользает почва.
– А эта девушка, сержант, вдруг что-то почувствовала, возможно, увидела мою перевернутую тень на земле и обернулась, я видел ее поворачивающуюся тень. «Ты с ума сошел!» – закричала она на меня, но я заметил, что кричит она как-то слабо и негромко. «Курсант, немедленно стань на обе ноги! Ты окончательно спятил? Делать глупости в такой день?» Но мне хоть бы хны, бегу рядом с ней, забегаю вперед, назад, на обожженных руках, ладонями натыкаясь на колючки, камни, гравий, не переворачиваюсь. Что она мне может сделать? Да и сделать ничего нельзя, пока я так бегу, и мыслей в голове нет, вся кровь прилила к голове, уши заложены, мозгов нет, и думать некому, нет «С-чего-вдруг-ей-нельзя-кричать-на-меня», нет «Что-значит-в-такой-день?»
Он очень медленно шагает по сцене, делает ладонями по воздуху шаг за шагом, высунув между губ кончик языка. Огромный медный кувшин за его спиной ловит тень, впитывает тело в свои выпуклости, разлагая на волны, набегающие одна на другую, пока он не высвобождается и не ускользает от них.
– И, между прочим, своих дружков я тоже вижу в перевернутом виде: сидят там, где и сидели, вернулись к своим занятиям, учат маскировку, отличная профессия для жизни, даже головы не поворачивают, чтобы посмотреть, что со мной происходит, – помните про «шнурок на ботинке»? Я вижу, как они удаляются от меня, и знаю, что это я удаляюсь, но в итоге мы далеки друг от друга.
Девочку из моего класса, Лиору, с которой мы вместе были в карауле на северном посту в ночь накануне того самого утра, я любил пылко почти два года, но ни разу не осмелился сказать ей хоть слово. Довале знал, что я в нее влюблен. Он был единственным в мире, с кем я говорил о ней, кто умел расспрашивать меня о ней и, по сути, своими проницательными, сократовскими вопросами извлечь из меня понимание, что я ее люблю. Что это природа чувства, мучающего меня в ее присутствии, делающего меня еще более мрачным и агрессивным. И там, в карауле, в три часа ночи я целовался с Лиорой. Впервые коснулся тела девушки. Закончились годы моего одиночества в классе и в школе, и, можно сказать, началась новая жизнь.
И он был со мной там, на посту. То есть я говорил с ней, будто говорил с ним. Так, как он наставлял меня в наших беседах. Я был отличным учеником: как только мы прибыли на пост, я спросил ее о родителях, где они встретились, а затем о двоих младших братьях. Она поразилась. Ее душевное равновесие было поколеблено. Терпеливо, настойчиво, не без лукавства я старался ее разговорить, и постепенно она рассказала о старшем брате, страдающем аутизмом: он находится в закрытом заведении, и родители о нем почти не говорят. Я был хорошо натренирован и вполне готов к встрече: умел спрашивать и умел слушать. Лиора говорила, и плакала, и снова говорила, и снова плакала, а когда я ее рассмешил, смеялась сквозь слезы, и я погладил ее, обнял, поцелуями осушил слезы. С моей стороны это было своего рода шарлатанство, и сегодня мне трудно осознать все его хитросплетения. Какой-то ловкий фокус с применением отмычки. Я чувствовал, что внутренне настраиваю себя на того Довале, которого знал, прежнего и любимого, и возрождаю его в себе ради той минуты с Лиорой, позволяя его речам изливаться из моих уст. Холодно и отстраненно я понимал, что потом снова начисто сотру его из памяти.
В то самое утро, когда я вместе с нашим взводом сидел на песчаной площадке и за ним пришла девушка-сержант, я был пьян. Пьян от любви, от освобождения, от недосыпания. Я видел, как он встает, идет за девушкой, но я даже не спросил себя: «Куда он идет?» Затем я, по-видимому, снова погрузился в грезы о Лиоре, о невероятно нежной текстуре ее губ, о ее груди, о шелковистом пушке ее подмышек, а когда очнулся, то увидел его. Он шел за девушкой-сержантом на руках. Никогда до того я не видел, как он ходит на руках, мне и в голову не приходило, что он так может. Он шел быстро, с легкостью, воздух дрожал от сильной жары, и, казалось, тело его излучает зыбкую рябь. Это было потрясающее зрелище. Неожиданно он показался мне совершенно свободным, пляшущим на волнах воздуха, словно вновь победил законы гравитации и стал самим собой. Симпатия к нему прямо захлестнула меня, и истязания последних дней разом пропали, словно их и не было.
Только на одну минуту.
Но я не мог вынести этого. Его. Его изменчивости. Я отвел глаза в сторону. Отлично помню это движение. И снова погрузился в свое новое опьянение.
– Мы бежим, она – так, а я – этак, и перед моими глазами бегут колючки, песок, указатели; а вот уже и дорожка, выложенная по краям белыми камешками, которая ведет к бараку командира, и я издали слышу крики оттуда: «Ты возьмешь его прямо сейчас!» – «Хрен тебе с маслом, если я туда поеду!» – «Ты возьмешь его к четырем часам на похороны! Это приказ». – «Три раза на неделе я уже мотался в Беер-Шеву, туда и обратно!» И тут я слышу еще один голос, который моментально узнаю: это наш прапорщик базы, которого все звали «Эйхман» – ласковое прозвище, распространенное в наших краях, его давали людям, которым бросают вызов жалость и милосердие, – прапорщик тоже кричал, и его голос перекрывал всех остальных: «Так где же этот ребенок, кибинимат? Где сирота?»
Он извиняюще улыбается. Его руки свисают по обеим сторонам тела.
Я упираюсь взглядом в стол. В ладони. Я не знал.
– Мои руки стали как сливочное масло. Я падаю и лежу, головой уткнувшись в землю. Лежу себе и лежу, не знаю сколько времени. Иногда мне удается чуть приподняться, и вижу, что я уже один. Воссоздается картина происходящего? Пустыня, ваш покорный слуга размазан по песку, а девушки-сержанта уже давно нет, сбежала толстушка-пампушка, прелестная танкетка-конфетка, и я готов поспорить, портрет Януша Корчака над своей кроватью она не повесила.
Я не знал. Мне это и в голову не приходило. Откуда я мог знать?
– А теперь, Нетания, дорогая моя, будьте со мной. Я нуждаюсь в вашей твердой руке. Я вижу перед собой деревянные ступеньки, ведущие в канцелярию командира, над головой – ужасное солнце и орлы, вокруг меня – семь кровожадных арабских государств, а они, там, в канцелярии, они орут друг на друга, одержимые безумием: «Я возьму его только до Беер-Шевы, а оттуда пусть из штаба округа возьмут его в Иерусалим!» – «Ладно, ладно, тупица, дырку в голове ты уже сделал, только возьми парня и поезжай уже, времени нет, говорят тебе, поезжай!»
Люди, сидящие на стульях, чуть выпрямляются, снова начинают осторожно дышать. Их возбуждает энергичная речь рассказчика, жестикулирующего, говорящего на разные голоса, имитирующего различные акценты.
И Довале на сцене сразу чувствует новое настроение публики и посылает ей широкие улыбки. Каждая новая улыбка рождается из прежней, лопающейся, как мыльный пузырь.
– Итак, я поднимаюсь с земли, усыпанной песком, и жду. И открывается дверь из канцелярии командира, и ко мне по лестнице спускаются красные ботинки, внутри которых – сам прапорщик, и прапорщик обращается ко мне: «Пойдем-ка, дружок, соболезную твоему горю». И он подает мне руку, собираясь обменяться рукопожатием. Мамочка моя! Сам прапорщик лагеря Гадны подает мне руку! И он потягивает носом воздух, демонстрируя, так сказать, сдержанные грусть – тире – горе: «Сержант Рухама уже сказала тебе, верно? Мы все очень сожалеем, дружок, это уж точно нелегко, да еще если подобное случается в таком возрасте. По крайней мере знай, что ты в хороших руках, мы доставим тебя туда, как часы, только сейчас нужно бежать и забрать твои вещи».
Так прапорщик сказал мне, и я… – Он широко раскрывает глаза и разевает рот в ужасающей гримасе, словно кукла. – Я в полнейшем шоке, ничего не понимаю, только вижу, что меня не собираются ни за что наказывать, и еще мне ясно, что это уже не свирепый прапорщик, от чьего рыка яйца звенели целую неделю. Теперь он переполнен отцовскими чувствами: «Пойдем со мной, дружочек, машина ждет тебя, мой друг». Еще немного, и он скажет: «Спасибо, что выбрал нас. Мы знаем, что у тебя была возможность осиротеть на других базах Гадны».
– Ладно, мы идем, я за ним, тащусь, тряпка, а он – высотой в два метра, масса мышц, вы ведь знаете, как ходят прапорщики: киборги, голова вверх, ноги расставлены как можно шире, пусть думают, будто у них там бычьи яйца, руки – кулачища, грудь – тик-так, левой – правой, ать-два!
Он демонстрирует:
– Помните, прапорщики не ходят, они диктуют по буквам свою походку, правда? Есть ли здесь кто-нибудь, кто служил в армии прапорщиком? Быть этого не может! Где? В бригаде «Голани»?! Минутку, здесь есть парашютисты? Великолепно! Ялла, врежьте-ка, комбатанты, один другому!
Публика хохочет. Двое седовласых мужчин, из «Голани» и из парашютно-десантных войск, поднимают стаканы и издали салютуют друг другу.
– Между прочим, Голани, ты знаешь, как голанчик[96] кончает жизнь самоубийством?
Мужчина смеется:
– Прыгает со своего эго на свой айкью?
Довале ликует:
– Да ты просто отбираешь у меня хлеб! В общем, так: мы приходим в палатку, прапорщик стоит в сторонке, не вмешивается в мою частную жизнь, так сказать. Я заталкиваю в рюкзак все, что уложил в него папа. Вообще-то я был маминым ребенком, если вы еще не поняли, но солдатом я был папиным, и мой папа снарядил меня тип-топ, и у меня было все, что необходимо бойцу коммандос, которому предстоит участвовать в операции «Энтеббе». Мама тоже хотела помочь, ведь, как я уже говорил, у нее имелся большой опыт пребывания в лагерях, правда, лагеря эти были концентрационные. И когда по радио она слышала песню о пользе, которую приносят молодежи тренировочные лагеря, у нее в памяти всегда возникал концлагерь Биркенау. Короче, после того как оба они уложили мой рюкзак, я был снаряжен с учетом всех возможных путей развития событий мирового и регионального значения, включая ссадины, которые может вызвать упавший астероид.
Он останавливается, улыбается какому-то внезапно промелькнувшему воспоминанию, возможно, картине отца и матери, снаряжающих его в дорогу. Он легонько похлопывает себя по бедрам и смеется. Он смеется! Обыкновенный смех, от души, не профессиональный актерский. Не ядовитое хихиканье, не самонадеянная ухмылка. Просто человеческий смех. И в публике находятся те, кто начинает смеяться вместе с ним, и я тоже, не могу иначе, я должен вместе с ним окунуться в ту нежность, которая захватила его лишь на мгновение.
– Нет, вы должны были видеть моих маму и папу в представлении «Укладка рюкзака». Одна из лучших сцен в жанре стендап. Спрашиваешь себя: «Кто эти двое чудаков, явившихся из галлюцинаций, какой ублюдок их выдумал, и почему, черт возьми, кто-нибудь с таким необычайно эксцентричным воображением не работает на меня?» И тут же думаешь: «Черт меня подери! Ведь он именно на меня и работает!» Послушайте, как это происходит: папа появляется, ходит, убегает, возвращается. Были у него такие движения – вы ведь знаете маленьких, шустрых мушек, летающих только по прямой? Бззз! Бззз! Всякий раз он приходит из спальни, приносит какую-то вещь, кладет в рюкзак, отлично, тик-так, бежит за новой – полотенце, фонарик, местинг, бззз, печенье, бззз, бульонные кубики, мазь от ожогов, шапки, ингалятор, тальк, носки… Уплотняет, добавляет, постукивает, меня вообще не видит, сейчас я не существую, сейчас он против рюкзака, мировая война, зубная паста, мазь от комаров, пластиковая нашлепка на нос, чтобы не сгорел, бззз, он уходит, возвращается, глаза его буквально сходятся на переносице…
Нет, ему нет равных. В таких делах, как организовать, спланировать, присматривать за мной, – он был великий спец, полностью в своей стихии. Вы вообще осознаете, какое напряжение испытываешь в три года, когда отец заставляет тебя идти в детский сад каждый раз другой дорогой, чтобы сбить с толку тех, кто покушается на твою жизнь?
Публика смеется.
– Нет, серьезно, когда я был в первом классе, у дверей кабинета стоял мужик и допрашивал учеников: «Это твой ранец? Ты сам его собирал? Кто-то дал тебе какую-нибудь вещь, чтобы ты передал ее другому?»
Публика от всей души смеется.
– И вдруг входит мама, несет большое шерстяное пальто, не знаю, чье оно, нафталином от него разит за версту. Зачем пальто, мама? Потому что она слышала, что по ночам в пустыне очень холодно. И тут он берет пальто из ее рук, осторожненько так: «Ну, Суреле, ецт из зимер, ди нор зиц ун кик»… Яану, сейчас лето, ты только сиди и смотри. Какое там «сиди», какое «смотри»! Через минуту она появляется с сапогами. А почему? Да потому! Потому что тот, кто прошел пятьдесят километров босиком по снегу, недвинется в путь без этих…
Он выставляет перед нами свои нелепые сапоги.
– Поймите, эта женщина никогда в своей жизни не видела пустыню. С того дня, как мама оказалась в Израиле, она выходила из дому только на работу и обратно, ее маршрут был как у кукушки в часах. Правда, однажды случился такой эпизод, когда она играла принцессу из сказки о трех медведях во дворцах Рехавии, но это мы уже давно забыли. И ходила она всегда с опущенной головой, в платочке, надвинутом на лоб, чтобы, не приведи господь, ее не видели, шла быстро-быстро, вдоль стен и заборов, чтобы господу богу не донесли о ее существовании.
Он останавливается, чтобы отхлебнуть из термоса. Затем протирает очки краем рубашки, улучив минутку для отдыха. Наконец-то принесли мой тапас. Выяснилось, что я заказал слишком много, хватило бы и на двоих. Не обращаю внимания на устремленные на меня взгляды. Понимаю, что сейчас не время для застолья, но я должен подкрепиться: жую эмпанадас, барабульки и маринованные грибы. Оказывается, я снова выбрал в основном те блюда, которые любила она, а у меня, несомненно, вызовут изжогу. А она смеется и говорит: «Если другого выбора нет, то и это может считаться некоторым образом встречей». Я уничтожаю все, меня охватывает горькая обида. «Мне этого недостаточно, – отвечаю я с полным ртом. – Этой игры с тобой, в которой мы только делаем вид, мне недостаточно; меня не удовлетворяет ни пинг-понг, в котором есть только один игрок, ни то, что я должен сидеть здесь один, слушая его рассказ. Ты и твой бойфренд»…
Я говорю это ей, задыхаясь, и васаби шибает в нос, и глаза слезятся от приправы. Она моментально меняет свою ухмылку проказливой обезьянки на улыбку в миллион долларов, скромничает, притворяясь праведницей, и отвечает: «Не скажи… Смерть пока еще не совсем мой бойфренд. Она только приятель, максимум – язиз»[97].
– О чем мы говорили? – бормочет он. – Где остановились? Ах да… Мама моя ничего не умела делать по дому, ничего, мама моя, – ворчит он, и мне кажется, что он резким движением неожиданно сворачивает на свою внутреннюю боковую тропку. – Ни стирать, ни гладить, ни готовить. Я даже думаю, ей в жизни не довелось пожарить яичницу. Мой папа делал то, что ни один мужчина никогда не делал. Вам бы надо было видеть, как ровно сложены у него в шкафу полотенца, миллиметр к миллиметру, какими идеальными были складки на занавесках, как блестел надраенный пол, – он морщит лоб, и брови его почти соприкасаются одна с другой, – он гладил нам, всем троим, даже трусы и майки. Я кое-что вам расскажу, вы будете смеяться…
– Самое время! Давай свои шутки! – кричит мужчина небольшого роста, но с широченными плечами, сидящий за одним из боковых столиков.
К нему присоединяются несколько голосов:
– Где шутки? Где? Что тут происходит? Что это за чепуха?
– Еще минутку, браток, новая партия товара на подходе, тебе понравится, гарантирую! Я только хотел… чего хотел… теперь я окончательно запутался, ты меня с толку сбил. Слушай, мужик, слушай хорошенько, такого ты еще не слышал. У моего папы было соглашение с обувным магазином на улице Яфо. Знаешь улицу Яфо в Иерусалиме? Браво, браво тебе, ты настоящий человек мира! Они давали ему в починку нейлоновые чулки женщин из квартала Меа Шеарим и из других иерусалимских кварталов. Это был еще один стартап, и во главе его – Пеппи Длинныйчулок – еще один способ подзаработать на стороне. Этот человек, клянусь тебе, рыбе мог продать обувь!
В публике – слабый смех. Широкоплечий мужик упорно не смеется. Довале утирает пот со лба тыльной стороной ладони.
– А теперь слушай во все уши. Каждую неделю он приносил чулки для починки, много, всякий раз сорок, пятьдесят пар, и учил ее чинить чулки, даже этого она не умела, ты понимаешь? А он умел чинить нейлоновые чулки, только представь себе…
Сейчас он обращается только к низкорослому мужчине с широкими плечами. Именно к нему протянута его рука в просящем, умоляющем жесте: мол, погоди минутку, братец, сейчас ты получишь свой анекдот, свеженький, прямо из печки, он уже на подходе…
– Папа купил ей специальную иглу, этакая штуковина с деревянной ручкой… Я-алла, как это возвращается ко мне, как же ты вернул мне все это, чтоб ты был здоров, мой герой! Она надевала чулок на руку и иголкой, дырочку за дырочкой, поднимала спущенные петли на чулке, пока стрелка не исчезала полностью. Часами она могла работать так, иногда – ночи напролет, дырочку за дырочкой…
Последние фразы он проговаривает, почти не переводя дыхания, стремясь поскорее добраться до финиша, пока и у зала, и у широкоплечего не лопнуло терпение. Кругом полная тишина. То тут, то там женщины улыбаются, возможно, в их памяти всплывают нейлоновые чулки давних времен. Но никто не смеется.
– Глядите, как все это возвращается, – извиняюще улыбается он.
В тишине раздается грубый мужской голос:
– Скажи-ка, рыжий, будет сегодня комедия, в конце концов, или уже ничего не будет?
Говорит мужчина с бритой головой и в желтом жилете. Было у меня чувство, что он еще возникнет. Обладатель широченных плеч поддерживает его мощным рыком. Раздаются и другие согласные с ними голоса. Некоторые, совсем немногие, главным образом женщины, пытаются заставить их замолчать. Но мужчина в желтом не унимается:
– Нет, что за дела? Мы пришли посмеяться, а нам устраивают день поминовения Холокоста. И он еще отпускает шуточки по поводу Холокоста.
– Ты прав, абсолютно прав, извини, брат мой, и прости! Я немедленно все исправлю. Я вот о чем думал… Конечно, я обязан рассказать вот что! Внук пришел навестить могилу бабушки в годовщину смерти. Неподалеку он видит мужчину, сидящего у могильного камня, который рыдает, вопит, убивается: «Почему? Почему? Почему ты должен был умереть? Почему тебя забрали из этого мира? О, проклятая смерть!» Проходит несколько минут, и внук, не в силах больше терпеть, подходит к мужчине: «Простите, господин, что беспокою вас, но сердце мое необычайно тронуло ваше горе. Я никогда не видел такой глубокой скорби. Могу ли я спросить, кого вы так оплакиваете? Это ваш ребенок? Или ваш брат?» Человек смотрит на него и отвечает: «Нет, с чего вдруг? Это первый муж моей жены».
В ответ на этот анекдот в зале – бурный смех, несомненно, преувеличенный. Кое-где – вымученные аплодисменты. Когда видишь, как люди со всем пылом пытаются помочь ему и спасти вечер, охватывает волнение.
– Погодите, у меня есть еще! Моего запаса хватит до полуночи!
Он громко радуется, взгляд мечется:
– Человек звонит однокласснику, с которым не виделся более тридцати лет после окончания школы, и говорит: «У меня есть билет на финальный матч Кубка страны, который состоится завтра. Не хочется ли тебе пойти со мной?» Тот удивляется, но билет на финал – это билет на финал! Ладно, он соглашается. Они идут, усаживаются, места отличные, атмосфера потрясающая, они довольны, кричат, проклинают, делают «волну»… Великолепный футбол! В перерыве школьный приятель говорит: «Слушай, мужик, я должен тебя спросить: не было у тебя кого-нибудь более близкого, чем я, ну, родственника, которому ты отдал бы билет на финал?» А он отвечает: «Нет». – «А не хотел ли ты, ну, не знаю, позвать жену?» – «Моя жена умерла», – ответил он. Товарищ по школе: «Сочувствую твоему горю. Но, может, кто-нибудь из близких друзей? Сослуживцев?» – «Я пытался, поверь мне, но все они предпочли пойти на ее похороны».
Публика смеется. До сцены долетают поощрительные возгласы, однако тот, низкорослый и широкоплечий, рупором подносит ко рту ладони, орет громовым голосом:
– Брось ты уже свои похороны! Халик![98] Дай жить!
Этот крик тоже вызывает взрыв аплодисментов. Довале всматривается в публику, а я чувствую, что в последние минуты он – со всеми своими шутками и прибаутками – не совсем здесь. Он все больше и больше уходит в себя, как бы замедляется, и это плохо, он может легко упустить публику – и весь вечер насмарку. И некому его защитить.
– Халик, сказал т, брат мой, хватит похорон. Ты прав, истинный праведник, беру на заметку, исправляю ситуацию по ходу дела. Слушай, Нетания, не будем такими тяжеловесными, но тем не менее я должен рассказать вам кое-что личное, даже, скажем так, интимное. Чувствую, мы немного сдружились, только ты, Иоав, подкрути-ка кондиционер, тут просто дышать нечем!
Публика аплодирует, восторженно соглашаясь.
– Значит, такие дела. Перед выступлением я тут покрутился по городу, проверял пути спасения бегством, если, предположим, меня станут стаскивать со сцены. – Он улыбается, но с угла улыбки свисает тяжесть, и каждый, кто находится в этом зале, это знает. – И вдруг я вижу старика лет восьмидесяти примерно, весь он высушенный, сморщенный, сидит на скамейке и плачет. Старик плачет? Как же к нему не подойти? Возможно, он переживает по поводу изменений в завещании? Я осторожно приближаюсь, спрашиваю: «Господин, почему вы плачете?» – «Как же мне не плакать, – отвечает старик. – Месяц тому назад я встретил девушку тридцати лет, красивую, умопомрачительную, сексуальную, мы полюбили друг друга, начали жить вместе» – «Это потрясающе, – говорю я ему, – что же тут плохого?» – «Послушай, – отвечает мне старик, – мы каждое утро начинаем день двухчасовым бешеным сексом, потом она делает мне гранатовый сок, богатый железом, и я иду в поликлинику. Возвращаюсь, снова сумасшедший секс, она готовит мне запеканку со шпинатом, который содержит антиоксиданты. После полудня я иду в клуб, играю в карты с приятелями, возвращаюсь, ночью занимаемся безумным сексом, и так это изо дня в день…» – «Все великолепно, – говорю я ему, – мне бы такую жизнь… Но почему же вы так горько плачете?» Старик задумывается на минуту и говорит: «Я не помню, где живу».
Публика взрывается смехом. Он оценивает эти раскаты хохота, словно проверяет устойчивость камня под напором речного потока, и еще до того, как утихнут последние всплески ликования, бросается в атаку:
– Так на чем мы остановились? Прапорщик… киборг…
Он вновь утрированно пародирует твердую, решительную походку, шлет публике легкую заискивающую улыбку, вызывающую у меня спазмы желудка.
– Прапорщик все время подгоняет меня: «Ялла, надо двигаться, чтобы не опоздать, упаси боже, не пропустить». А я ему: «Что, командир?» Он смотрит на меня как на умственно отсталого: «Они не станут тебя ждать целый день, – говорит он. – Ты ведь знаешь, как это с похоронами, да еще в Иерусалиме, со всеми их религиозными обычаями и законами. Рухама не сказала, что ты должен быть в четыре на кладбище Гиват Шауль?» – «Кто это Рухама?» Сижу на кровати, уставившись на него. Клянусь, я никогда еще не видел прапорщиков так близко, может быть, только в журнале «National Geographic». А он говорит: «Позвонили из твоей школы, чтобы тебе сказали, сам директор позвонил, ты должен быть в четыре на кладбище». А я не понимаю, что он говорит. Все, что они говорят мне, – я слышу впервые в жизни. И с чего бы вдруг наш директор школы стал обо мне говорить? Откуда директор вообще знает, кто я такой? Что именно он сказал? У меня есть еще один вопрос, который я должен задать прапорщику, но мне стыдно спрашивать, я не знаю, как спрашивают о таких вещах, да еще самого прапорщика, человека, которого я, по правде, совсем не знаю. Но вместо этого получается, что я его спрашиваю: «Почему я должен собирать рюкзак?» Прапорщик смотрит вверх, на потолок палатки, словно уже окончательно отчаялся и махнул на меня рукой. Он говорит: «Хабуб[99], ты еще не понял? Ты сюда уже не вернешься». Я спрашиваю: «Почему?» – «Да потому, что у вас шива[100], – говорит он мне, – и когда она закончится, все твои дружки уже все здесь закончат».
– Прекрасно, теперь выясняется, что в программе еще и шива. Правда же, обо всем подумали, разнообразная программа, все предусмотрели, но только почему меня не поставили в известность? А я, слушая все это, больше всего на свете хочу спать, прямо умираю. Зеваю все время. Даже прямо в лицо прапорщику. Не могу с собой совладать. Расчищаю себе место на кровати, отодвигаю в сторону вещи, укладываюсь, закрываю глаза и исчезаю.
Он, на сцене, закрывает глаза, неподвижно замирает. И когда он стоит, опустив веки, лицо светлеет, исполняется выразительности и даже возвышенной духовности. Рука рассеянно теребит край рубахи. От жалости к нему у меня заходится сердце, но тут он открывает рот:
– Вы ведь знаете эти армейские кровати, которые посреди ночи складываются, а ты внутри, они проглатывают тебя, словно хищное растение? Утром приходят твои товарищи, а Довале нет, совершенно исчез, только очки и шнурки от ботинок, а кровать облизывает губы и слегка рыгает?
Кое-где – легкие смешки. Публика не уверена, можно ли смеяться в такую минуту. Однако двое молодых людей в кожаных одеждах, только они, разражаются негромким продолжительным смехом, этаким странным мурлыканьем, распространяя беспокойство на столики неподалеку. Смотрю на них и думаю: как же я двадцать пять лет подряд изо дня в день впитывал радиацию, исходящую от подобных людей, пока не пришел момент, после Тамары, уже без Тамары, когда, по-видимому, был уже не в состоянии поглощать и начал извергать наружу все, что накопилось.
– Вставай, – строго говорит мне прапорщик, – какого черта ты разлегся?
И тогда я встаю. Жду. Будто он вот-вот уйдет, а я снова улягусь спать. Ненадолго, только до момента, пока все пройдет и мы все забудем. Вернемся к тому, что было до всех этих глупостей.
Но он уже начал психовать, я его раздражал, этого прапорщика, однако раздражался он с осторожностью.
– Отодвинься, – говорит он мне, – стой здесь, дай-ка мне уложить твои вещи.
Я не понимаю. Прапорщик соберет мой рюкзак? Даже не знаю, это вроде как Саддам Хусейн подходит к вам в ресторане: «Могу ли я заинтересовать вас карамелизированным суфле из лесных ягод, которое я приготовил собственноручно?»
Он останавливается. Ждет. Надеется, что в публике раздастся смех, который почему-то запаздывает. Глаза его моментально становятся чистыми и ясными. Он безошибочно определяет ловушку, расставленную публикой: история, которую он рассказывает, уничтожает всякую возможность над ней посмеяться. Я вижу, как работает его мысль. Он немедленно принимается за определение новых границ игрового поля, выдает нам разрешение:
– Слышали ли вы о женщине, заболевшей смертельной болезнью, которую мы называть не будем, чтобы не делать ей скрытой рекламы?
Он широко раскрывает свои объятия, весь излучая веселье.
– Короче, женщина говорит мужу: «Мне приснилось, что, если мы займемся анальным сексом, я выздоровею». Вы об этом слышали? Где же вы живете? Ну, слушайте хорошенько! Мужу это показалось немного странным, однако ради здоровья жены чего не сделаешь. Ладно, ночью они ложатся в постель, занимаются анальным сексом, тик-так, засыпают. Утром муж просыпается, протягивает руку к другой половине кровати – а там пусто! Он вскакивает на ноги, неужели это конец? Ан нет, он слышит, как его жена поет в кухне. Он мчится на кухню, жена стоит, готовит салат, улыбается, классно выглядит! «Послушай, что случилось, – говорит она ему. – Удивительное дело: я рано проснулась, вдруг почувствовала себя очень-очень хорошо, помчалась в больницу, мне сделали анализы, снимки и сказали, что я выздоровела! Что я – врачебное чудо!» Муж слушает и разражается горькими рыданиями. «Что же ты плачешь? – спрашивает жена. – Ты не рад тому, что я выздоровела?» – «Рад, конечно же очень рад, – отвечает он ей сквозь слезы. – Но сейчас я только думаю о том, что мог спасти и маму!»
Некоторая часть публики воротит нос, но большинство смеются во все горло. И я тоже. Что тут скажешь, хороший анекдот. Надеюсь, мне удастся его запомнить. Довале испытующе смотрит на нас, словно сканируя, пробегает взглядом по залу. «Хороший ход, – говорит он самому себе во весь голос, – все-таки у тебя это есть, Довик!»
Он бьет себя в грудь ладонью с широко растопыренными пальцами, и этот пинок лишь немногим отличается от тех сокушительных ударов, которые он наносил себе не так давно.
– Итак, я стою в сторонке, а прапорщик набрасывается на мой рюкзак, собирает вещи, рассыпанные по всей кровати, под кроватью, налетает так, будто врывается в арабский дом где-нибудь в Иудее и Самарии. Трах! Война! Беспорядочно заталкивает вещи в рюкзак, без всякого смысла, без системы. Что скажет папа, когда увидит, с каким рюкзаком я к нему возвращаюсь? И только я думаю об этом, ноги у меня подкашиваются, и я падаю на соседнюю кровать.
Он пожимает плечами. Слабо улыбается. Мне кажется, ему и сейчас тяжело дышать.
– Ялла, погнали, нельзя раздражать публику, мы люди, жаждущие мгновенного удовлетворения, быстро-быстро, ТЗЗЗ! Стало быть, хватаю рюкзак, бегу за прапорщиком, краем глаза замечаю, что мои товарищи там, на песчаном плацу, смотрят на меня, будто уже что-то знают, возможно, видели, как орлы полетели на север. «Товар-р-рищи! – с тяжелым русским акцентом воспроизводит он клекот орлов. – В Иерусалиме есть свежий труп!»
Я видел его, шедшего за прапорщиком, маленькую фигурку, согнутую под тяжестью рюкзака. Помню, все мы повернулись и уставились на него, и я еще подумал, что именно так – только без рюкзака – он выглядит, когда мы расстаемся на автобусной остановке: тащится в свой квартал без всякой охоты.
Парень из его класса отпустил какую-то остроту, но в этот раз никто не смеялся. Мы не знали, почему за ним пришли, чтобы отвести его к командиру, и я не знаю, рассказал ли кто-нибудь его одноклассникам до конца смены, что случилось и куда его увезли. Ни один командир не сказал нам ни слова, а мы и не спрашивали. Или по крайней мере я не спрашивал. Я знал только, что за ним явилась девушка-сержант, а он встал и пошел за ней, а спустя несколько минут я видел, как он шел с рюкзаком вслед за прапорщиком к ожидавшему его армейскому джипу. Тогда мне были известны только эти факты. В следующий раз я увидел его только нынешним вечером, когда он вышел на сцену.
– А в армейском джипе двигатель уже работает на полную катушку, но водитель держит рычаг на нейтралке, все его нервы сконцентрированы в ноге, и смотрит он на меня, будто хочет убить. Забираюсь в машину, закидываю рюкзак на заднее сиденье, устраиваюсь рядом с водителем, а прапорщик говорит ему: «Видишь этого симпатичного парня? Ты не оставляешь его ни на секунду, пока не доставишь на Центральную автобусную станцию Беер-Шевы. Там появятся люди из штаба округа, заберут его у тебя и отправят в Иерусалим. Усек?» А шофер отвечает: «На Священном Писании клянусь, прапор, если их там не будет, когда я приеду, оставлю его в бюро находок». А прапорщик двумя пальцами крепко щиплет его за щеку и улыбается прямо в лицо: «Подумай хорошенько, Триполи, что у меня есть на тебя, а? Ты его не оставляешь, языком не болтаешь. Только когда сдашь его с рук на руки, можешь считать, что задание выполнено. Гони!»
– А я, поймите, для меня все это – будто я смотрю кино, где показывают меня. Вот я сижу в армейском джипе, да еще на переднем сиденье. Вот эти двое военных, которых я не знаю, говорят обо мне, но на языке, который я не совсем понимаю, а переводом Довале не снабжают. Все это время я хочу о чем-то спросить прапорщика, мне совершенно необходимо спросить его еще до того, как я уеду. И я жду лишь, чтобы он на секунду прекратил разговор, но как только он замолчал, то я уже не могу, не получается, слова не вылетают изо рта, не складываются вместе, «страх Божий» – эти слова, два таких коротких слова.
И тут он, этот прапорщик, смотрит на меня, и я думаю: вот именно сейчас он скажет мне это, вот оно приходит, я уже готовлю себя, и все мое тело сжалось, как от удара. А прапорщик кладет ладонь на свою голову, словно покрывает ее кипой, и говорит: «С небес придет вам утешение, Господь да утешит вас среди других скорбящих Сиона и Иерусалима». С этими словами он хлопает ладонью по борту автомобиля, как хлопают по боку коня, поощряя его пуститься вскачь, водитель произносит «амен», дает по газам, и мы едем.
Публика молчит. Какая-то женщина нерешительно поднимает руку, словно на уроке в школе, но, передумав, прижимает ладонь к сердцу. Мужчина за соседним столиком растерянно смотрит на свою спутницу, а та удивленно пожимает плечами.
Мужик в желтом жилете весь бурлит. Рукава вздуваются. Он приближается к точке кипения. Довале тоже это чувствует, бросает на него нервные взгляды. Зову официантку, прошу убрать все на моем столике – прямо сейчас и немедленно. Не могу вынести вида множества маленьких тарелочек. Мне трудно поверить, что я столько съел.
– Тахлес[101], мы едем, водитель молчит. Я даже имени его не знаю. Я смотрю на него сбоку. Худощавый парень, чуть сутулый, с огромным носом, большими ушами и лицом, усеянным прыщами, которые добрались до самой шеи. Прыщей у него намного больше, чем у меня. Мы оба молчим. Он смертельно зол на меня из-за того, что ему навязали поездку со мной, а я уж точно молчу, потому что сказать мне просто нечего. На улице жара около сорока градусов, пот льется с меня в три ручья. Водитель включает радио, но приема нет, одни шумы, хрипение, прослушиваются только радиостанции инопланетян…
И тут он выдает потрясающую имитацию голосов передающих станций, работающих с помехами, быстро перескакивающих с волны на волну, тарабарщина из обрывков фраз и слов, отрывки из песен: «Золотой Иерусалим», «Джонни – это парень для меня», «Итбах аль яхуд»[102], «Хватай и бери», «Даже в громе пушек не угаснет наша жажда мира», «В Джумалане жил старый Мессия», «Еще сегодня попробуй носки Мерси», «Храмовая гора в наших руках! Повторяю: Храмовая гора в наших руках!»[103]
Публика смеется с искренним удовольствием. Довале пьет из термоса и одновременно смотрит на меня. В его взгляде и вопрос, и чаяние, словно он пытается выяснить, что же я думаю по поводу его рассказа и, возможно, о его представлении в целом. А я, из-за какого-то дурацкого трусливого инстинкта, сижу с непроницаемым лицом, отталкивающим его взгляд, стираю с лица всякое выражение, отвожу глаза – и он отступает назад, словно я его ударил.
Почему я это сделал? Почему в этот момент лишил его своего сочувствия? Хотел бы я знать! Я так мало в себе понимаю, а в последние годы – все меньше и меньше. Когда нет никого, с кем можно поговорить, когда нет Тамары, которая настаивает, и расследует, и докапывается, мои внутренние каналы закупориваются. Помню гнев, который охватил ее, когда она пришла в суд, чтобы увидеть меня, разбирающего дело против отца, издевавшегося над дочерью. «Твое лицо было совершенно лишено всякого выражения! – гневно говорила она мне потом, уже дома. – Девочка изливала тебе душу, смотрела на тебя с мольбой и только ждала, чтобы ты подал ей маленький знак, крошечный знак симпатии, понимания, один-единственный взгляд, который скажет ей, что сердце твое с ней, а ты…»
Я объяснил Тамаре, что это и было то самое лицо, которое я должен демонстрировать в суде: даже если внутри у меня все кипит, мне запрещено проявлять чувства хотя бы полунамеком, так как я еще официально не обнародовал свое мнение. «А каменное лицо, которое я обратил к девушке, я затем обратил и к ее отцу, когда он излагал свою версию. Справедливость должна быть явлена, – сказал я, – и сочувствие к девочке, которое я испытываю, будет выражено в приговоре суда, не сомневайся». – «Но тогда, – сказала Тамара, – уже будет поздно, потому что она нуждалась в этом именно в ту страшную для нее минуту, когда обращалась к тебе». И Тамара бросила на меня странный взгляд, который я никогда прежде у нее не встречал.
– А теперь вот в чем дело, Нетания, – говорит он, придавая голосу веселость, и мне ясно, что он пытается преодолеть удар, который я ему нанес, а я места себе не нахожу от гнева на самого себя. – Эй, Нетания, – он вздыхает, – город вечной пасторали, разговаривать с вами – настоящий кайф. Так, на чем же мы остановились? Верно, водитель. Начинаю чувтвовать, что ему не очень приятно то, как он повел себя со мной, и он ищет возможности со мной заговорить. А может быть, ему просто скучно, жарко, мухи заедают. Но я… о чем я могу с ним поговорить? И я к тому же не знаю, знает ли он. Рассказали ли ему обо мне? Когда он был в канцелярии командира, вместе с прапорщиком – они ему сказали?.. Предположим, он знает, предположим… Но я-то не знаю, как его спросить, и, кроме того, я не уверен, готов ли я вообще теперь к тому, чтобы мне сказали, да еще в такую минуту, когда я один, без папы, без мамы…
И тут происходит взрыв.
Бритоголовый мужчина в желтом жилете бьет открытой ладонью по столешнице; удар, еще удар; он не спешит, не сводит с Довале глаз, пустое лицо ничего не выражает. В считаные минуты зал вокруг мужчины застывает, остается только рука, двигается только она. Удар. Пауза. Удар.
Это длится целую вечность.
Мало-помалу из разных концов зала поднимается несмелый протестующий ропот, но он не отступает. Удар. Передышка. Удар. Низкорослый полный мужчина присоединяется к нему: медленными ударами сжатого кулака он почти разбивает стол. Голова моментально раскаляется от прилившей крови. Ну и типы.
Оба поощряют друг друга взглядами. Большего им и не нужно. Ворчание вокруг нарастает, превращаясь в шум и галдеж. Еще несколько столиков с жаром присоединяются к ним, некоторые противятся, но большинство осторожничают, опасаясь высказывать мнение. Воздух подвала неожиданно наполняется тонким запахом пота. И ароматы духов становятся явственнее. Иоав, директор зала, встает со своего места, беспомощный, растерянный.
Со всех сторон доносятся бурные дискуссии: «Но ведь он все время вставляет шутки! – настаивает одна женщина. – Я слежу за ним, проверяю на каждом шагу!» – «Стендап – это не только шутки и анекдоты, – поддерживает другая, – это иногда и смешные истории из жизни». – «Истории-истории, только нет в них смысла!» – кричит далеко не молодой человек, примерно моего возраста, к которому прижимается дама со сверхъестественным загаром.
А Довале поворачивается и обращается ко мне всем телом, устремляя взгляд на меня.
В первое мгновение я не понимаю, чего он от меня хочет. Он стоит на краю сцены, опустив руки, совершенно игнорирует бурю вокруг себя, не сводит с меня глаз.
С меня, того, кто минутой раньше, можно сказать, хлопнул дверью перед самым его носом. Он все еще надеется, что я обязательно что-нибудь для него сделаю. Но что я могу сделать? Что вообще можно сделать против всех этих людей?
И сразу же приходит мысль о том, что я мог сделать когда-то; о силах, которые были в моем распоряжении, чтобы обуздать подобных типов. Абсолютная возможность низвергнуть их мановением руки, одной фразой в приговоре. Чувство королевского превосходства, в котором не позволено было признаваться даже самому себе.
Шум и крики нарастают. Почти все, находящиеся в зале, вовлечены в переполох, и в воздухе уже носится радость драки, а он все еще стоит не двигаясь и глядит на меня. Он нуждается во мне.
Много времени прошло с того времени, когда кто-то во мне нуждался. Мне трудно описать обрушившуюся на меня мощную волну неожиданности. И паники. Первым делом на меня нападает дикий кашель, затем я отталкиваю от себя столик, поднимаюсь и стою и совершенно не понимаю, что собираюсь делать. Вполне возможно, что я вообще собираюсь выйти из зала, исчезнуть… Что мне до этого места со всем его хулиганством? Я должен был убраться еще час назад. Но эти двое разбивают кулаками столы, и Довале стоит, и вдруг я слышу собственный крик: «Дайте ему уже рассказать его историю!»
Люди в зале замолкают и глядят на меня со смесью потрясения и ужаса, и я понимаю, что кричал сильнее и громче, чем собирался. По всей видимости, намного сильнее.
Я стою. Застрял. Как актер в мелодраме, ожидающий, что суфлер шепотом подскажет ему следующую реплику. Никто мне не шепчет. И в этом зале нет вышибал, которые стали бы между мной и публикой, нет кнопки сигнала бедствия под стойкой, и это не тот мир, в котором я бы с удовольствием ходил по улицам, как обычный человек, зная, что через несколько минут вознесусь туда, где буду править судьбами, определять жизни.
Вокруг меня – по-прежнему тишина. Я учащенно дышу, не могу справиться с собой. Меня сверлят взглядами. Я знаю, что выгляжу несколько обманчиво – выступающий крупный лоб иногда производит впечатление, и не только размером, – однако я не такой уж герой, который может твердо настоять на том, о чем кричал, если обстановка по-настоящему накалится.
– Дайте ему рассказать его историю!
Я произношу это снова, на сей раз подчеркнуто медленно, вбивая слово за словом в воздух, и голова моя принимает несколько странное положение, будто я собираюсь бодаться, и знаю, что это выглядит смешно и нелепо, но тем не менее так я стою и на секунду вспоминаю это чувство – эмоциональное заполнение всего существа, до самых краев. Жить. Быть.
Мужчина в желтом жилете поворачивается на стуле и смотрит на меня:
– Нет проблем, господин судья, со всем уважением, полностью с вами согласен, но я хочу, чтобы он сказал мне прямо сейчас: как вся эта харта[104] связана с теми двумястами сорока шекелями, которые я выбросил на нынешний вечер? Ваша честь, ведь желание знать, как это связано, не нарушает никакие законы? А сама реклама этого вечера не пахнет ли каким-то мошенничеством.
Довале, бросив на меня сияющий взор, исполненный благодарности к старшему брату, который выступил в его защиту, врывается в речь желтого жилета:
– Связано, душа моя, связано абсолютно! А сейчас увидишь самую тесную связь, клянусь! До этой минуты это была лишь прелюдия, любовная игра, ты меня понимаешь?
Он посылает мужику истинно мужскую улыбку, которая не очень-то получается, что приводит к тому, что желтый жилет отводит глаза, словно перед ним – открытая рана.
– Послушай меня внимательно, брат мой; я прислоняюсь головой к окну, а это стандартное армейское окно джипа, что в конечном счете означает, что и закрыть его до конца невозможно, а с другой стороны, и открыть невозможно до конца, стекло застревает посередине, оно дрожит, и именно это мне абсолютно подходит, потому что оно не просто дрожит, оно буйствует! Д-р-р-р! Ужасный шум, отбойный молоток, врубающийся в бетонную стену, не производит столько шума, и тогда я инстинктивно кладу голову на стекло, и через секунду мозги у меня начинают перемешиваться – д-р-р-р! Я – внутри компрессора! Внутри блендера! Д-р-р-р! Д-р-р-р!
Он показывает публике, как прислоняет голову к окну. Голова начинает трястись, сначала – осторожно вибрируя, потом – сильнее и быстрее, и вот он уже весь охвачен судорогой, и это удивительное зрелище: смазываются черты лица, сменяющиеся выражения пересекаются друг с другом в полете, подобно картам в тасуемой колоде. И все части его тела мельтешат и трепыхаются, он вспыхивает безумием, его швыряет из одного конца сцены в другой, и вот он низвергнут на пол, словно тряпичная кукла, тяжело дышит, время от времени прибавляя еще одну внезапную конвульсию в руке или ноге.
Публика смеется. Даже те, кто поднял против него бунт, ухмыляются, едва ли не против собственной воли, и даже маленькая женщина-медиум улыбается, изумленная, с чуть приоткрытым ртом, обнажая маленькие зубки.
– С неба явились ко мне эти д-р-р-р, – вещает он публике и поднимается с пола, отряхивая руки от пыли и с обезоруживающей сердечностью улыбаясь мужчине в желтом, а следом – обладателю широких плеч. Оба еще отказываются пойти на мировую, и на их лицах вновь появляется выражение глумливого сомнения.
– Д-р-р-р! Не могу ни о чем думать, ничего не чувствую, всякая мысль разбивается на тысячу частичек, каша мыслей, д-р-р-р!
Он дергает плечом в сторону маленькой женщины-медиума, а та отшатывается, раскатисто смеется, и скатываются по ее щекам слезы-жемчужины. Несколько человек в зале замечают это и, похоже, наслаждаются небольшим побочным сюжетом.
– Пиц, – говорит он ей, – сейчас я тбя вспоминаю. Вы жили над вдовой с котами.
Она улыбается всем лицом:
– Я же тебе говорила, что жила там.
– Но водитель, он тоже не пальцем деланный!
Он кричит, топает ногой, жестом Элвиса Пресли выбрасывает руку вверх:
– Водитель уже хорошо знает от всех своих пассажиров трюк с оконным стеклом, все они устраивают спектакль «окно Паркинсона».
Тут шофер начинает разговаривать со мной как бы просто так, показывает другие машины на шоссе: «Вот это «додж200», направляется в Шивту; а это «Рио», везет продукты и снаряжение на учебно-тренировочную базу номер один; а это «студебекер ларк», машина штаба Южного военного округа, у Моше Даяна была такая машина во время войны. Видел?! Он меня узнал, посигналил фарами».
Но я… Что я могу сказать на это? Ничего. Я молчу. Тогда он пытается зайти с другой стороны, бросает мне: «Что, просто так вот пришли и объявили тебе?»
А я – ничего. Д-р-р-р… смеситель мыслей. За полсекунды разбиваю его вопрос на мелкие частицы, превращаю в пасту, пюре из мозгов. И вдруг выскакивает с локшн[105] мой папа. Не знаю, почему мне на ум пришла именно эта картина. Дайте мне секунду на это, о’кей? Все-таки в этом есть какой-то смысл, раз мой папа вдруг явился ко мне с локшн, и почему он возник, как вы думаете? Возможно, это все-таки дурное предзнаменование? Что я знаю? Я закрываю глаза еще сильнее, прижимаю голову к окну; лучше всего мне сейчас не думать, просто не думать ни о чем, ни о ком.
Он обхватывает голову обеими руками, и она мотается из стороны в сторону, а сам он при этом кричит на нас изо всей мочи, будто пытается заглушить шум автомобиля и грохочущего окна:
– Я сразу понял, с первой же минуты, Нетания! Что мне необходимо вырубить мозги! И для меня это плохо – все время думать о нем! И папе тоже от этого плохо, и вообще плохо каждому, кто сейчас оказывается в моих мозгах…
Он расплывается в широкой спокойной улыбке и, как обычно, широко разводит руки, раскрывая объятия. Публика – не вся! – смеется, несколько сбитая с толку. Я улыбаюсь ему всеми мышцами лица. Не знаю, видит ли он мою улыбку. Я снаряжаю его в путь, который ему еще предстоит. Как же скудны и ограниченны выражения, которые могут принять наши лица!
– А теперь, что за история c локшн? Молодцы, что спросили! Вы – потрясающая публика! Чувствительные люди, принимаете все близко к сердцу! Послушайте, вы должны это услышать. Раз в неделю, покончив со своими гроссбухами, он готовит домашнюю лапшу для куриного бульона на всю неделю. Жизнью клянусь, подлинная история! – Он хрипло смеется. – И внезапно в кабине армейского джипа мозг показывает мне фильм; только не спрашивайте почему, мозг – это мозг, не ищите логику: вот несколько движений его рук, когда он готовит тесто, а вот так раскатывает его тонко-тонко, как лист бумаги…
Почти не меняя выражения лица и положения тела, он принимает образ своего отца. Я никогда не встречал его отца, был лишь свидетелем грубой пародии на него в ту ночь, в палатке, в лагере Беер-Ора, но ощущаю трепет и точно знаю, что это он, именно таким его отец и был.
– И он мчится с тестом на руках, чтобы оно подсохло на их кровати в спальне, быстро уходит, моментально возвращается, т-з-з-з, т-з-з-з, мечется по дому, и все, что он делает, тут же сообщает самому себе во весь голос, с комментариями: «Теперь взять тесто, теперь положить тесто на локшнбрет[106], теперь взять валгерхольц[107], теперь сделать из теста рулет».
В зале хихиканье. Из-за акцента и подражания, из-за идиша, из-за раскатистого смеха самого Довале. Но большинство присутствующих снова смотрят на него без всякого выражения, и я начинаю чувствовать, что подобный взгляд – самое действенное оружие публики.
– Этот человек, клянусь, пока вы находитесь с ним в доме, то слышите, как он сам с собой разговаривает, отдает себе приказания, от него все время исходит жужжание. Довольно потешный человек. Если он случайно не ваш отец. А теперь вообразите, что я – да, да, я! Видите меня? Алло! Проснитесь! Это ваш Довале говорит! Звезда вашего вечера! Прекрасно, Нетания! Будто в каком-то безумном фильме, сижу в армейском джипе посреди пустыни и вдруг вижу прямо перед собой отца, моего папу, словно он действительно здесь, со всеми своими жестами и разговорами; вижу, как он берет нож и, начав с самого края, быстро-быстро, словно машина, так-так-так, режет рулет из теста, и локшн вылетают у него прямо из-под ножа, и нож все время в миллиметре от пальцев, но никогда не случается так, чтобы палец попал под нож! Быть такого с ним не может! В нашем доме мама, между прочим, не имела права пользоваться ножами.
И тут лицо его расплывается в широчайшей, насколько возможно, улыбке, и еще чуть-чуть шире:
– К примеру, очищать банан ей позволялось только в присутствии хирурга и команды спасателей. Она могла порезаться любой вещью, пораниться до крови.
Он подмигивает нам, медленно проводя указательным пальцем по каждому из своих тонких предплечий в тех местах, которые прежде обозначил как «вышивка вен» на руках матери.
– И вдруг что же я вижу, Нетания? – Красное лицо заливает потом. – Что я вижу?
Он ждет реакции, движениями рук призывая публику ответить, но все молчат. Уста скованы холодом.
– Ее я вижу! Мою маму!
Он улыбается. Смиренно, с подобострастием, обратив лицо главным образом к тем двум мужчинам, которые явно подстерегают его:
– Поняли, мужики? Словно мозг прямо выбросил мне ее облик…
Мужчина в желтом жилете встает. С размаху швыряет на стол ассигнацию – плату за выпитое и съеденное, с силой дергает за руку жену, поднимая ее с места. Странным образом я чувствую чуть ли не облегчение: мы спустились на землю. И вообще вернулись к действительности. Теперь мы в нашем Израиле. Пара пробивает себе дорогу к выходу, и все присутствующие следят за ними взглядом. Второй мужчина, тот, с широкими плечами, хотел бы, без сомнения, к ним присоединиться, я вижу борьбу, бушующую под его рубашкой гольф, но, по-видимому, чувствует, что тащиться за кем-то ему не по чину. Кто-то пытается удержать пару, уговаривает остаться.
– Халас[108], – бросает обладатель желтого жилета, – сколько можно? Человек приходит, чтобы развлечься, провести субботний вечер, прочистить голову, а получает Судный день.
Его жена, чьи толстые короткие ножки изгибаются колесом на каблуках-шпильках, беспомощно улыбается и свободной рукой одергивает юбку. Но вот взгляд мужчины в желтом упирается в женщину-медиума, долю секунды он колеблется, оставляет в покое руку жены и, минуя несколько столиков, подходит к маленькой женщине, деликатно склоняется к ней и произносит:
– Советую вам тоже отсюда уйти, этот ненормальный насмехается над всеми, даже над вами смеется.
Она встает перед ним со стула, ее губы дрожат.
– Это неправда, – раздается ее шипящий шепот, который слышен всему залу, – я его знаю, он просто притворяется.
Все это время Довале наблюдает со сцены за происходящим, засунув большие пальцы под резинки красных подтяжек, кивая самому себе, словно с удовольствием запоминая слова желтого жилета. В ту минуту, когда пара покидает зал, он спешит к маленькой доске и мелом наносит две красные линии, одна из которых длинная и особо жирная, завершающаяся булавочной головкой.
А потом, положив мел, он проделывает еще кое-что: с закрытыми глазами медленно-медленно крутится вокруг своей оси, расставив руки в стороны. Один раз, два, три – в самом центре сцены, словно совершает несложный личный обряд очищения.
И открывает глаза, мгновенно зажигая их, словно прожекторы на стадионе:
– А он упрямец, этот водитель! Он хочет меня подловить, я чувствую, ищет мои глаза, мои уши. Но я – непробиваемый бункер, голову в его сторону не поворачиваю, не даю ему ухватиться за конец нити, чтобы ко мне подобраться. И все время мои зубы стучат в одом ритме со стеклом: По-хо-ро-ны, по-хо-ро-ны, я е-ду на по-хо-ро-ны… Теперь поймите, братья, я уже вам говорил, что до этой минуты я никогда в жизни не был на похоронах, и это само по себе жутко меня пугает, ведь что я знаю о том, как там будет?
Выдерживает паузу. Испытующе смотрит на лица. Его требовательный взгляд – странный, вызывающий. На секунду мне кажется, что он просто провоцирует людей, побуждая их встать и уйти, оставить и его, и его историю.
– И мертвого, – добавляет он тихо, – мне никогда не доводилось видеть. Или мертвую…
– Однако, амигос, – продолжает он, и мне кажется, будто он удивляется, что ни один человек не встал и не вышел из зала, – давайте-ка не будем тяжело относиться к тому, что касается похорон, ладно? Не позволим этой теме над нами властвовать. Как говорится: «У смерти никогда не будет власти»[109]. Верно? Вы абсолютно правы! Жаль только, что смерть никогда не выступает одна. Кстати, думали ли вы когда-нибудь, что есть такие родственники, которые встречаются друг с другом только на свадьбах или на похоронах, и тогда каждый из них убежден, что у остальных есть склонность к маниакально-депрессивному психозу?
Публика сдержанно смеется.
– Нет, серьезно, я даже думаю предложить следующее: подобно тому как газеты публикуют рецензии на телепередачи или отзывы о ресторанах и кафе, нужно печатать и отчеты о том, как в скорбящих семьях проходит шива. Почему бы и нет? Человек каждый день посещает разные семьи, где скорбят по ушедшим, а затем пишет отзывы, как проходила шива, какова общая атмосфера, рассказывали ли, к примеру, пикантные истории о покойнике, как ведет себя семья, возникают ли уже конфликты из-за наследства, легкие закуски какого качества предлагали и есть ли вообще заинтересованность публики в состоявшейся церемонии…
По залу прокатывается смех.
– И раз уж мы пришли в такое расположение духа: знаете историю об одной даме, которая пришла в зал, где покойников готовят к погребению, и сказала, что хочет видеть своего мужа перед тем, как того предадут земле? Служитель показывает, и она видит, что муж одет в черный костюм. Нет, нет… Эта история не про евреев, – он поднимает вверх указательный палец, – это переведено с одного из христианских языков. Женщина плачет: «Мой Джеймс так хотел, чтобы его похоронили в синем костюме!» Служитель говорит ей: «Видите ли, госпожа, мы всегда хороним наших дорогих покойников в черных костюмах, но, пожалуйста, приходите завтра, посмотрим, что можно сделать». Назавтра она приходит, и служитель показывает Джеймса в потрясающем синем костюме. Женщина благодарит тысячу раз, спрашивает, как же ему удалось достать именно такой изумительный костюм. Служитель отвечает: «Возможно, вы не поверите, но примерно десять минут спустя после того, как вы ушли отсюда, прибыл еще один покойник, приблизительно одинаковой комплекции с вашим мужем, и на нем – синий костюм. Его жена сказала, что мечта мужа – быть похороненным в черном костюме». Отлично, вдова Джеймса еще раз благодарит любезного служителя, ее охватывает волнение, она заливается слезами, оставляет солидные чаевые. «Вот и все, – говорит служитель. – Все, что мне оставалось, – это поменять головы».
Публика смеется. Публика возвращается к жизни. Публика злорадствует по поводу бритоголового мужчины, понапрасну поспешившего покинуть этот весьма удачный вечер. «Всем хорошо известно, – говорит своему спутнику женщина за соседним столиком, – он разогревается медленно».
– А я… вся эта поездка начинает сводить меня с ума. Голова пылает от мыслей, я перемалываю и перемалываю, полная балбала[110], от обилия мыслей я уже сам себя не воспринимаю. Вам ведь знакомо состояние, когда мысли суматошно и беспорядочно носятся в голове перед засыпанием? Я перекрыл газ или не перекрыл? Все, выхода нет, необходимо запломбировать верхний зуб! Как она поправила бюстгальтер в автобусе! Создала мне настроение на весь день! Иоав, ешкин сын, сказал: «Выплата – текущий месяц плюс девяносто дней». Поди знай, буду ли я здесь вообще через девяносто дней. Может ли глухой кот поймать немую птичку? Возможно, это даже хорошо, что никто из моих детей на меня не похож. Что они себе думают, рубят деревья без наркоза? Можно ли водителю из Погребального братства наклеить на машину наклейку: «ПРИВЕТ ЕЩЕ ОДНОМУ ДОВОЛЬНОМУ КЛИЕНТУ»? И почему судья удаляет с поля нападающего Бенаюна за десять минут до конца матча? Можно ли написать объявление: «Довале и Жизнь отныне квиты»? Ей-богу, я не должен был есть этот мусс…
Публика смеется. Сконфуженная, сбитая с толку, но смеется. Кондиционер, усталый и дребезжащий, вдруг втягивает в зал запах скошенной травы. Кто знает, с какой далекой звезды он донесся? Я вдыхаю в себя этот запах и почти пьянею. Меня захлестывают воспоминания о маленьком доме детства в Гедере.
– Водитель молчит. Молчит минуту, другую… сколько он может молчать? И тут он начинает снова, да так, словно мы уже давно разговариваем. Знаете таких одиноких типов, которым не с кем словом переброситься, бобылей? Они пылесосом вытянут из тебя слово, ты их последний шанс, после тебя – только светофоры на переходах для слепых. Скажем, сидишь ты в поликлинике в семь утра, ждешь медсестру, которая берет анализы…
Публика подает ему знак, подтверждая, что подобное переживание ей знакомо.
– Ты вообще еще не проснулся, еще не выпил первую чашку кофе, а у тебя поднимается веко над левым глазом, и лично ты хочешь только, чтобы тебя оставили в покое, дали умереть. Но тут старик рядом с тобой, с расстегнутой ширинкой и всем своим сервизом наружу, с баночкой черной мочи для анализа в руках… Между прочим, доводилось ли вам обращать внимание на то, как люди ходят в поликлинике со своими анализами?
Сидящие в зале обмениваются впечатлениями и переживаниями; теперь публика полностью растаяла, страстно желая обрести душевное здоровье. Даже женщина-медиум посмеивается, украдкой бросает по сторонам робкие взгляды, а он со сцены поглядывает на нее, и на устах его свет.
– Нет, правда, будьте серьезными на минутку! Есть ведь такие, кто ходит с такими баночками, верно? Человек идет мимо вас по коридору к тележке для анализов. Вы сидите на стуле у стены, он на вас не смотрит. Он вообще погружен в размышления. Вы только обратите внимание: свою, скажем, правую руку с баночкой он всегда держит с левой стороны, стремясь опустить ее как можно ниже, верно или нет?
Публика с воплями восторга подтверждает это.
– Словно в таком случае вообще невозможно заметить, что его пальцы случайно держат пластиковую баночку, а в баночке, чисто случайно, каки. А теперь быстренько сосредоточьтесь на его лице, ну-ка! Он как бы вообще не имеет к этому никакого отношения, верно? Он всего лишь посыльный. Он, в сущности, курьер Моссада[111], и задача этого шушуиста[112] – передать биологический образец для нужд научно-исследовательской деятельности. Клянусь вам, над этими я больше всего люблю поизмываться, особенно если это кто-то из бранжи[113], актер, режиссер или драматург, из тех говнюков, с которыми я когда-то работал в своей прежней жизни, мир праху ее. И тут я моментально вскакиваю ему навстречу, раскрываю руки для объятий: «Привет, братец кролик!» Он делает вид, что меня не помнит и вообще не понимает, откуда я на него свалился. Ну а мне-то что, я уже давно в таком состоянии, что и не помню, то ли честь потерял, то ли стыд. Подхожу к нему и ору во всю глотку: «Ахалан, ваша честь! Что привело господина в нашу убогую клинику? Я, кстати, читал в газете, что ты вот-вот состряпаешь нам новый шедевр, мабрук! Все мы с нетерпением жаждем узреть, что же ты выдашь на-гора! Хорошо известно, что у тебя все идет изнутри, верно? Из самых потрохов…»
Люди задыхаются от смеха, утирают слезы, хлопают ладонями по бедрам. Даже Иоав, директор зала, изверг из сбя пару смешков. Крошечная женщина – единственная, кто не смеется.
– Ну а теперь в чем дело? – спрашивает он, когда ликование публики утихает.
– Ты его позоришь, – говорит она, а он беспомощно смотрит на меня, будто спрашивая: «Что с ней поделаешь?» – а я внезапно вспоминаю: «Эвриклея».
Я пытался вспомнить это имя с той самой минуты, как только выяснилось, что маленькая женщина знакома с ним с детства и что она склоняет течение вечера в ту или иную сторону. Эвриклея, старая няня Одиссея, омывшая ему ноги, когда вернулся он из странствий домой, переодевшись нищим. Узнавшая его по рубцу на ноге, оставшемуся у него с юности.
Пишу имя на салфетке печатными буквами. Почему-то во мне возбуждает радость эта маленькая удача – я все-таки вспомнил Эвриклею. И тут же спрашиваю себя: «Что я могу дать ему здесь? Чем могу быть для него?»
Заказываю еще одну рюмку текилы. Вот уже долгие годы я так не пил, и мне вдруг захотелось фаршированных овощей. И маслин. Еще несколько минут назад мне казалось, что я уже не смогу ничего взять в рот, но, выходит, я ошибался. Кровь вдруг заструилась по жилам. Хорошо, что я сюда пришел, ей-богу, хорошо, что пришел, а еще лучше то, что я остался на него посмотреть.
– И тут, через несколько километров… Вы со мной?
Он вдруг устремляет к нам лицо, словно высовывается из окна мчащегося автомобиля, а мы, то есть сидящие в зале, смеемся и подтверждаем: «Да, мы с тобой!» Впрочем, несколько человек, как мне кажется, изрядно удивлены.
– Вдруг водитель бросает мне: «Слушай, кореш, не знаю, в курсе ли ты, но в следующем месяце я выступаю во всеармейских соревнованиях, представляю наш военный округ». Я не отвечаю. Что мне ему сказать? Максимум мычу какое-то х-м-м из-под усов, которых у меня нет. Но спустя несколько секунд мне становится немного жаль его, не знаю. Возможно, потому что выглядит он так, будто ему это надо, поэтому я спрашиваю: «Это соревнования по вождению?»
– По вождению? – удивляется он и громко смеется, прямо покатывается со смеху, обнажая торчащие зубы. – Я – на соревнованиях по вождению? Да на меня составили семьдесят три полицейских протокола, вот так! На полгода отобрали права. Какое там вождение? Я говорю о соревновании рассказчиков анекдотов.
– А я как будто не сразу врубился: «Что?»
Потому что, клянусь вам, подумал, что ослышался.
А он:
– Анекдоты. Рассказываем анекдоты. Ежегодные соревнования по анекдотам, всеармейские.
– Я, по правде сказать, малость охренел. С чего он все это на меня вывалил? Да еще я все время сижу и готовлюсь к тому, что вдруг он мне скажет. Понимаете? Он сам поймет, что со мной здесь происходит, и скажет мне, а тут он вдруг подкатывает ко мне со своими анекдотами.