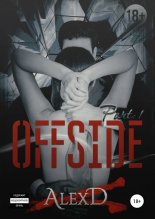Как-то лошадь входит в бар Гроссман Давид
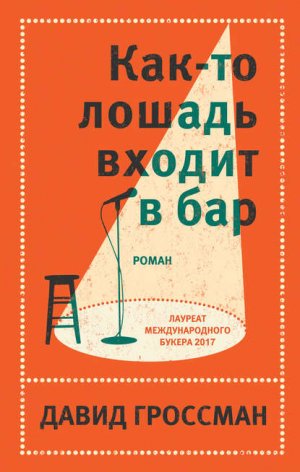
Тут сестра его говорит:
– Не могу поверить – ты и его довел до безумия своими тупыми анекдотами, недоделок? Тебе не стыдно рассказывать ему анекдоты, когда он в таком состоянии?
Но и со слезами на глазах голос у нее суровый, раздражительный.
Водитель говорит ей:
– Даже когда он спал, я ему рассказывал, не оставлял его без анекдота ни одной секунды. Я был его личной охраной. А ты, давай, садись в машину!
Она усаживается на заднем сиденье с младенцем и с большой сумкой.
– Беер-Шеву мы уже давно проехали, – говорит он мне. – Но я не дам тебе ехать в одиночку, запал ты мне в сердце, до самого дома довезу тебя, спецрейсом.
– Но только сейчас сделай мне одолжение, без всяких анекдотов, – заявляет его сестра. – И не смотрите, я должна покормить его. Да поверни же ты это зеркало, болван!
Она легонько шлепает шофера ладонью по затылку, а я сижу как дурак и думаю: «Что за дела! Они вроде бы никак не дадут начаться моему сиротству, всякий раз откладывают на короткое время; не является ли это знаком для меня, призывом что-нибудь сделать? Только что же надо сделать?»
Он медленно идет к красному креслу, присаживается на краешек. Видно, что его глаза за разбитыми линзами обращены внутрь. Я же ради него окидываю зал внимательным взглядом. Может, всего человек пятнадцать осталось. Некоторые женщины устремляют на него взгляд, тусклый и пронзительный разом, будто сквозь него они видят другое время. Трудно ошибиться, заметив подобный взгляд: они превосходно знакомы с ним либо знали его когда-то очень близко. Я с удивлением думаю, что побудило их прийти на этот вечер. Позвонил ли он каждой из них и пригласил их? Или они всегда приходят на его представления, когда он выступает где-то поблизости?
Я вспоминаю, что для полноты картины мне чего-то недостает: стол двух молодых байкеров пуст. Я не видел, когда они уходили. Предполагаю, после града ударов, которые он на себя обрушил, они посчитали, что более захватывающего зрелища уже не получится.
– Итак, сижу я, уткнувшись лицом в переднее стекло. Помираю от страха, что мой взгляд упадет на заднее сиденье. Вообще-то она по крайней мере уселась сзади, но сегодня совершенно обычно, когда каждая кормящая грудью свободно делает это в любом месте, – паф! Нет, вы подумайте, это совсем не смешно, ты стоишь с девушкой, она кажется тебе совсем нормальной, нормативной, как теперь говорят, она держит на руках своего младенца, и совсем не важно, что, по-твоему, он выглядит восьмилетним, у него уже и щетинки пробиваются…
Голос его звучит пусто, почти лишен оттенков:
– …и ты с ней разговариваешь о текущих делах, к примеру, о квантовой теории относительности, а она вдруг, и глазом не моргнув, обнажает грудь! Настоящую грудь! От производителя! Втыкает в рот младенцу и продолжает говорить с тобой об электромагнитном ускорителе в Швейцарии, и между прочим, если вы приложите к ускорителю ухо, то сможете реально улышать, как он кричит им, частицам: «Ялла, ребятки, времени нет, сократите разрывы, падлаот[134]…»
Он прощается. Я это чувствую. Знает, что в последний раз рассказывает эти свои анекдоты. Девушка, которая собиралась уйти, но вернулась, подпирает голову ладонью, ее взгляд затуманен. Что у нее за история? Сопровождала ли и она его домой после выступления? Или, может быть, она его дочь, один из пятерых его детей, и сегодня ей впервые довелось услышать его рассказ?
А два байкера в черном? У меня вдруг мелькает ошеломляющая мысль: вполне возможно, что и они каким-то образом связаны с ним?
Я вспоминаю, что он рассказывал раньше: как на улицах играл в шахматы с прохожими. У каждого из них была своя роль, о которой они и не догадывались. Кто знает, какой сложный сеанс одновременной шахматной игры он проводит здесь, сегодняшним вечером?
– Эта женщина, его сестра, продолжает кормить младенца, но в то же время я слышу, как она одной рукой роется в сумке и говорит мне: «Конечно, ты же целый день ничего не ел, дай мне руку, дитя мое». Я протягиваю назад руку, и она кладет в нее завернутый в бумагу сэндвич, а затем очищенное крутое яйцо и скрученный из газеты маленький кулек с солью для яйца. Уж до чего она выглядит суровой, но ладонь ее очень мягкая. «Кушай, кушай, – говорит она мне. – Как это они послали тебя вот так, что даже в рот взять нечего?»
Я вгрызаюсь в сэндвич, он очень вкусный, с толстым куском колбасы и с томатным соусом, обжигающим рот, и это хорошо, это сразу возвращает меня в игру. Я посыпаю яйцо солью и съедаю в два приема. Она, ни слова не говоря, передает мне соленый пирожок, достает из сумки большую бутылку – вот такая Мэри Поппинс, клянусь вам, – и подает мне стакан оранжада. Как она проделывает все это одной рукой – я не понимаю, и как умудряется еще и младенца кормить, – этого я не понимаю еще больше. «Пирожки чуть суховаты, – говорит она, – окуни их ненадолго в оранжад». Я исполняю все, что она мне велит.
Его голос, голос Довале – что с ним происходит? Слова трудно разобрать, но в последние минуты этот голос тонкий и слабый, почти как у ребенка.
– И водитель, ее брат, тоже протягивает руку назад, она кладет ему в ладонь пирожок. Он снова протягивает руку. Я чувствую, он это делает, чтобы рассмешить меня, поскольку она не разрешила рассказывать мне анекдоты. Едем, не разговариваем. «С пирожками закончили, – говорит она брату. – Ты все себе захапал, оставь немного и для него». Но он не убирает протянутую руку, да еще подмигивает мне с полным ртом, а она снова отвешивает ему подзатыльник, он вскрикивает «ай» и смеется. Когда папа бьет меня слегка по шее после того, как заканчивает стрижку, я всегда жду этого удара и немного боюсь. Легкий, чуть обжигающий шлепок, и это еще после протирания ваткой со спиртом. Кончиками пальцев он ударяет меня по затылку, а потом говорит прямо в ухо, чтобы клиенты не слышали: «Сапихес[135], майн лебн, моя жизнь».
Но теперь ее очередь. О ней – только хорошее. Но что самое лучшее можно подумать о ней сейчас? Что может помочь больше всего? Внезапно я боюсь о ней думать. Не знаю, она кажется мне лишенной всяких красок, бесцветной. Что я делаю не так? Силой привожу ее сюда. Она не хочет. Я крепко тяну ее, тащу к себе обеими руками. Я просто обязан, чтобы она была в моей голове. Пусть не только он будет там. «Не уступай! – кричу я ей. – Не сдавайся!» Я чуть не плачу, наваливаюсь всем телом на дверцу автомобиля, чтобы водитель и его сестра ничего не увидели, – и вот она приходит, слава богу: сидит на кухне с грудой чулок, требующих починки. А вот и я, сижу рядом, делаю уроки, и все как обычно, а она поднимает дырочку за дырочкой особой иголкой и, подняв несколько петель, останавливается, забывает себя, глядит в пространство, не видит ни его, ни меня. О чем она думает, когда вот так сидит? Я никогда не спрашивал. Тысячу раз я был с нею наедине, но ни разу не спросил. Что же я все-таки знаю? Почти ничего. У нее были богатые родители, это я знаю от папы. И в школе она была круглой отличницей, играла на пианино, поговаривали о будущих ее концертах, но это все; она пережила Холокост, ей уже исполнилось двадцать, когда это закончилось, и во время войны она полгода провела одна в железнодорожном вагоне, я вам это уже рассказывал. Три поляка, машинисты паровоза, прятали ее в потайной нише в поезде, который все время ездил по одному маршруту, туда и обратно. «Они сторожили меня по очереди» – так она сказала мне и рассмеялась, но смех получился какой-то кривой, такого я никогда от нее не слышал. Мне было около двенадцати, остались дома мы вдвоем, я выступал перед ней со своим представлением, но она вдруг остановила меня и рассказала мне об этом с ходу, ни разу не прерываясь, и рот ее свернулся набок, а потом несколько секунд не мог вернуться на место, часть ее лица убежала в одну сторону. Спустя полгода эти машинисты решили, что она им надоела. Не знаю почему, что вдруг случилось, но в один прекрасный день, когда поезд прибыл в конечный пункт, эти негодяи без всяких слов просто выбросили ее из вагона.
– Мне продолжать? – спрашивает он напряженным голосом.
В разных местах зала люди кивают.
– Я не помню все точно, по порядку, в голове многое перемешалось, но, например, всегда помню, что слышу, как его сестра на заднем сиденье говорит самой себе очень тихо: «Ялла юстур», – и тут же вспоминаю, что и водитель уже произносил эти слова, а я не знаю, что это значит, что они говорят обо мне на своем языке, и есть ли в этом знак: ведь оба они произнесли одни и те же слова. И вообще, я начинаю чувствовать, что она… голова у нее работает все время, без перерыва. Котелок варит. У нее есть мысли на мой счет, но я просто не знаю, что уже она может думать обо мне. Еще раньше, когда она стояла рядом с автомобилем и смотрела на меня, я видел, что на лбу у нее, между глаз, есть две глубокие черные борозды. Я съезжаю на сиденье немного ниже, не торчать же все время у нее перед глазами. А еще я все время слышу, как младенец сосет грудь, и время от времени, делая перерыв, вздыхает, как старик, и это тоже давит на меня. Берегут его, смотрят за ним, заботятся о нем – чего это он так вздыхает? И вдруг сестра водителя говорит мне:
– «Твой отец, что у него за работа?»
– У него парикмахерская, – бездумно говорю я, – он и его компаньон.
Я не знаю, почему это вдруг рассказал ей, что у него есть компаньон. Ну, просто идиот. Еще немного – и я бы рассказал, что папа посмеивается над компаньоном, мол, он влюблен в маму, папа еще пощелкивает ножницами перед его носом, дескать, что он сделает, если их поймает.
– А мама? – спрашивает она.
– Что мама? – говорю я; теперь я с ней более осторожен.
– Она тоже работает в парикмахерской?
– С какой это стати – в парикмахерской? – говорю я. – Она работает в Концерне военной промышленности, сортирует боеприпасы.
Вдруг я чувствую, будто она играет со мной в шахматы: один из нас делает ход и ждет, как ответит другой.
– Я и не знала, что в военной промышленности есть женщины, – удивляется она.
– Есть, – говорю я.
Она молчит. Я тоже. Затем она спрашивает, не хочу ли я еще один пирожок. Я подозреваю, что пирожок – это ход и лучше его не брать, но все-таки беру и сразу же чувствую, что допустил ошибку.
– Кушай, кушай, – говорит она, довольная собой.
Я кладу пирожок в рот, жую и чувствую, что мне хочется вырвать.
– Есть у тебя еще братья, сестры? – спрашивает она.
А за окном автомобиля, между прочим, уже давно не пустыня. Видны зеленые поля. Есть и обычные автомобили, частные, не только армейские. Я пытаюсь предположить, вглядываясь в дорожные указатели, сколько еще времени осталось до Иерусалима, но все дороги, по которым мы едем, в стороне от городов, местность мне совсем не знакома, поэтому никак не удается узнать, есть ли у меня час, или полчаса, или три часа, а спрашивать совсем не хочется. Сэндвич и яйцо волнами поднимаются во мне вместе с пирожками.
– Пзвольте мне рассказать вам анекдот, – просит он устало, словно говоря: «Мне срочно нужен анекдот, просто анекдот, чтобы преодолеть горечь во рту».
Однако две женщины за двумя разными столиками чуть ли не в один голос кричат: «Продолжайте рассказ!» И сразу же смотрят друг на дружку в смущении, а одна из них косится на своего спутника. Довале вздыхает, потягивается, хрустит пальцами рук, делает глубокий вдох:
– И тогда она, сестра водителя, бросает мне так, будто это какой-то пустячок: «А как ты со своим папой? Хорошо друг с другом ладите?»
Я помню, что живот у меня тут же, на месте, переворачивается. Я просто выдергиваю себя оттуда. Я не там. Я нигде. Мне вообще запрещено быть в каком-либо месте. И поймите – откройте на секунду скобки, – у меня есть тысяча уловок, как вообще не быть; в том, как можно не быть, я чемпион мира, но вдруг я никак не могу вспомнить ни одной из этих уловок. Я не шучу: когда он, случалось, бил меня, я помню, тренировался в умении останавливать биение сердца, снижать пульс до двадцати или тридцати в минуту, будто я в зимней спячке; я стремился этого достичь, это было моей мечтой. Кроме того, я еще тренировался, как рассредоточить боль от удара по всему телу, поделить ее между разными частями, чтобы все они в равной степени несли это бремя. Под его ударами я воображал, что появляется вереница муравьев, чтобы унести с собой боль с лица или живота, и за секунду муравьи растаскивают боль, переносят по крохам в те части тела, которые менее восприимчивы к боли.
Он слегка раскачивается вперед-назад, погружается в себя. Свет падает на него сверху, как бы окутывая тонкой вздымающейся тканью. Но тут он открывает глаза, устремляет долгий взгляд на маленькую женщину, а затем – вот он снова это делает – переводит взгляд на меня тем же самым размеренным движением, каким пламя одной свечи переносят другой свече. И вновь я не понимаю, что он этим хочет сказать, что просит взять у этой женщины, однако чувствую, что он нуждается в подтверждении, и я подтверждаю ему взглядом, который он, она и я удерживаем здесь вместе, некая нить, образующая треугольник; возможно, когда-нибудь я смогу понять, что все это значит.
– Но его сестра такая же, как и он. Не уступает. «Я не слышала, – говорит она, положив руку мне на плечо, – что ты сказал?» Я крепко сжимаю ручку двери. С какой стати она кладет руку мне на плечо? Что означают все эти вопросы? Возможно, водитель все-таки знает что-то и ей сказал? Мой мозг начинает работать на высоких оборотах: а собственно, сколько же времени я спал в машине у них на подворье до того, как они меня разбудили? А она за это время приготовила сэндвичи, крутые яйца, напитки, а он, наверное, стоял рядом с ней на кухне и все ей рассказал? И даже то, чего я не знаю? К горлу снова подступает тошнота. Если я открою сейчас дверь, то покувыркаюсь немного по асфальту, несколько несильных ударов – и я встану, убегу в поля, и меня не найдут, пока похороны не закончатся, а тогда уже все будет позади, и мне ничего не придется делать, и кто вообще сказал, что я что-то должен делать и откуда это вообще пришло, будто это все на мне? «У нас все нормально, – говорю я ей, – мы ладим, но с мамой лучше».
Хоть убейте, не знаю, почему из меня выскочили эти слова. Никогда и никому в жизни я не рассказывал, что творится у нас дома, ни за что, даже ребятам из класса, даже самые лучшие друзья не слышали от меня ни слова, так почему же вдруг я изливаю душу перед чужим человеком? Женщина, чьего имени я даже не знаю? И вообще, какое ей дело, с кем мне хорошо, а с кем мне… не знаю как? Я чувствовал себя ужасно. В глазах у меня потемнело. Я стал думать, только не смейтесь, что в ее пирожках, возможно, есть такая добавка, что заставляет тебя отвечать, как на допросах в полиции, пока ты не сознаешься.
На его лице лунатический ужас: он там. Весь там.
– Водитель говорит ей тихо: «Отстань от него, может, ему сейчас не хочется об этом говорить». – «Еще как хочется, – отвечает она. – А о чем еще ты хочешь, чтобы он говорил сейчас, в такое время? О неграх в Африке? О твоих дебильных анекдотах? Ты правда хочешь говорить об этом, детка?» И она опять наклоняется ко мне, опять кладет руку мне на плечо, и я чувствую запах, но не могу вспомнить, откуда он мне знаком; от нее исходит какой-то сладкий запах, возможно, от ребеночка, и я глубоко вдыхаю его и говорю ей: «Да».
«Говорила же тебе», – говорит она водителю и с силой тянет его за ухо; а он вскрикивает «ай» и накрывает ухо ладонью. А я, помню, еще подумал: «Как бы они ни ссорились, все равно видно, что они брат и сестра, и жаль, что с этим у меня полный облом». И все время я держу в голове, что она знала и своего умершего брата, того, которого водитель не знал. Как же это у нее получается: она хранит в своей памяти и того, и этого?
Он медлит. Вглядывается в маленькую женщину. Та беспрерывно зевает, поддерживая голову обеими руками, но глаза ее широко раскрыты, она наблюдает за ним сосредоточенно и старательно. Он усаживается на краю сцены, свесив ноги. Кровь, лившаяся у него из носа, застыла у рта, на подбородке, окрасив рубаху двумя полосами.
– Я все помню, сам того не ожидал. Это и делает нынешний вечер потрясающим. Я хочу, чтобы вы это знали. Оставшись, вы сделали для меня большое дело. Я все вдруг так ясно вспомнил, и не во сне, а как будто это происходит сейчас, в эту минуту. Например, помню себя, сидящего в автомобиле, и я думаю, что, пока мы доедем, я должен жить, подобно зверю, ничего не понимающему в жизни людей. Обезьяне, или страусу, или мухе, но главное – не понимать ни разговоров людей, ни их поведения. И не думать. Самое важное сейчас – ни о ком не думать и не желать ничего и никого. Но, может быть, мне все-таки позволено думать о вещах хороших? Но хороших – для нее? Я до смерти боюсь совершить какую-нибудь ошибку, даже самую маленькую.
С огромными усилиями ему удается выжать из себя кривую улыбку. Верхняя губа сильно распухла, и речь его становится все более и более невнятной, и порой я чувствую, будто он рассказывает, обращая взгляд внутрь, в самого себя.
– Где же я был… – бормочет он. – Где же я был…
Никто ему не отвечает. Он вздыхает и продолжает дальше:
– Вдруг, к примеру, мне в голову пришла идея: подумать о яйце всмятку. Не смотрите так. Когда я был маленьким, я терпеть не мог яйца всмятку, меня тошнило от их жидкой части, а они оба сердятся на меня, говорят, что я должен есть, что в яйце всмятку – все витамины, и поднимались крики, и раздавались пощечины. Между прочим, когда дело касается еды, то и она отлично умела отвесить плюху. Наконец, когда уже ничего не помогало, они говорили, что, если я немедленно не съем яйцо, они уйдут из дома и никогда не вернутся. Но я не ел. И они надевали свои пальто и, держа в руках ключ от дома, говорили мне у двери: «Прощай». И я, как ни боялся остаться дома в одиночестве, все равно не ел. Сам не знаю, откуда у меня бралась смелость противостоять им, да еще и спорить с ними, я тянул время, хотел только одного: чтобы так это оставалось навсегда, чтобы они стояли рядом и говорили со мной, повторяя одно и то же…
Он улыбается сам себе. Мне кажется, что он сжимается, ноги его раскачиваются в воздухе.
– И тогда вот что я думаю о яйце всмятку: возможно, оно есть нечто и мне стоит всмотреться, увидеть только его, еще раз и еще раз, пока мы наконец не доберемся до сути, как в фильме со счастливым концом. Случайно смотрю в зеркало заднего вида, над головой водителя, и вижу, что глаза его сестры снова полны слез. Сидит и тихо плачет. И тут вправду все поднялось во мне в один миг – и колбаса, и пирожки. Я кричу водителю, чтобы он остановился, немедленно! Выскакиваю из машины, меня тошнит, выворачивает наизнанку, блюю на переднее колесо. Все, что она дала мне, я выблевываю, и это не кончается, еще и еще. Мама всегда придерживала мне лоб, когда меня рвало. В первый раз в своей жизни я это делаю один.
Он слегка прикасается к своему лбу. Повсюду в зале мужчины и женщины рассеянно поднимают руки и касаются своих лбов. И я тоже. Минута странного безмолвия. Люди погружаются в себя. Пальцы мои читат мой лоб. Прикосновение дается мне нелегко. В последние годы моя грива заметно поредела, я начал быстро терять волосы, покрываться морщинами. Буквально бороздами. Будто кто-то делал мне татуировку изнутри, вырезая прямые линии, ромбы и квадраты. «Лоб бодливого быка», – сказала бы Тамара, если бы увидела.
– За мной, давайте за мной, – говорит он, мягко высвобождая нас из этого мгновения, – за мной, я возвращаюсь в машину. Она протягивает мне чистую пеленку, говорит, чтобы я вытер лицо. Пеленка свежевыстиранная. Чудесно пахнет. Я кладу ее на лицо, как повязку, – обеими ладонями он покрывает свое лицо, – теперь ее очередь. Я слишком надолго оставил ее в одиночестве. Хорошее, только ее хорошее. Как она наносит на руки крем «Анога», и весь дом наполняется запахом; и ее длинные пальцы, и как она прикасается к своей щеке, когда она задумывается и когда читает. И как она всегда держит руки, скрестив их, прижимая к груди, чтобы нельзя было увидеть места, где ей зашивали. Даже со мной она осторожна, мне ни разу не удалось посчитать, шесть шрамов или семь. Иногда выходит шесть, а иногда семь. Теперь его очередь. Нет, нет, снова ее! Это срочнее. Каждую минуту она у меня снова исчезает. В ней нет ни капли цвета. Сейчас она совершенно белая, словно в ее теле нет ни капли крови. Будто она уже уступает, возможно, махнула на меня рукой, отчаялась, потому что я не думаю о ней очень сильно. Почему я не думаю о ней сильнее? Почему мне трудно вызвать в памяти картины с ней? Ведь я хочу этого, конечно же очень хочу, приди…
Он останавливается. Вскидывает голову; у него измученный взгляд. Я вижу, как, поднявшись из самого его нутра, медленно появляется темная тень, широко разевает рот, втягивает воздух, а затем пропадает. Именно в этот момент во мне зреет мысль: я хочу, чтобы он прочитал то, что я собираюсь написать об этом вечере. Чтобы он еще успел прочитать. Чтобы это сопровождало его и туда. Чтобы каким-то образом – я сам этого не понимаю и даже в это не верю – написанное мною как-то существовало там!
– Но какой стыд, – бормочет он, – какие сцены она всегда закатывала, и крики по ночам, и плач у окна, пока не перебудит весь квартал. Об этом я вообще вам не рассказывал, но и это важно принять во внимание, прежде чем выносить приговор; и еще одно, что стало мне понятно довольно рано: она для меня самая лучшая, когда она дома, закрыта вместе со мной в четырех стенах, только я и она, и наши разговоры, и наши представления, и книги, которые она переводила для меня с польского, а потом пересказывала мне. Она читала мне Кафку для детей, и про Одиссея, и про Раскольникова…
Он тихо смеется.
– Перед сном она рассказывала мне про Ганса Касторпа[136], про Михаэля Кольхааса[137] и Алешу Карамазова – все шедевры, она делала их подходящими для моего возраста или не подходящими, да и вообще, она была совершенно неподходящей, но самое трудное наступало, когда она выходила, как только приближалась к двери или к окну, тут уже я весь начеку, начинается сильное сердцебиение, жуткое давление вот тут, в животе…
Он кладет руку на живот. Какая тоска в этом маленьком движении…
– Что я вам скажу: у меня голова взрывается от них, от них обоих вместе, и от нее, потому что вдруг, наконец-то, она проснулась во мне, как будто поняла, что время заканчивается, и я вот-вот приеду, и это ее последний шанс повлиять на меня, и тогда она быстро-быстро начала кричать мне, умолять вспомнить что-то, я уже не помню что, и тут он напомнил мне еще больше всякого, на каждое ее слово у него находилось два, и она тянет меня сюда, а он тянет туда, и с каждой минутой чем ближе мы были к Иерусалиму, тем безумней они становились.
– Закрыть, закрыть, – бормочет он лихорадочно, – закрыть все отверстия в теле. Если я закрываю глаза, они входят через уши, если закрываю рот, они входят через нос. Толкаются, кричат, сводят меня с ума, превратились в маленьких детей, орут на меня, плачут: «Я, я, меня!»
Почти невозможно понять, что он говорит. Я пересаживаюсь за другой столик, поближе к сцене. Странно видеть его так близко. На мгновение, когда он поднимает лицо к лампе над его головой, свет создает иллюзию: пятидесятисемилетний мальчик выглядывает из четырнадцатилетнего старика.
– И вдруг, клянусь вам, это не фантазия, я слышу младенца, который говорит мне в ухо. Но говорит не как младенец, а как человек моего возраста или даже старше, и говорит он так рассудительно: «Ты и в самом деле должен сейчас принять решение, парень, потому что вот-вот мы прибываем». А я думаю: «Не может быть, чтобы я такое слышал, и не дай бог, чтобы водитель и его сестра тоже слышали, нельзя ни в коем случае даже подумать о таком, Бог ведь и смертью накажет за такое». И я начинаю кричать: «Может быть, вы заткнете ему глотку!» Наступает тишина, водитель и его сестра молчат, будто боятся меня или еще чего-то, и тут младенец выдает громкий крик, но это уже крик обычного младенца.
Он делает еще глоток из термоса и переворачивает его. Несколько капель падает на пол. Он подает знак Иоаву, и тот с кислым видом подходит к краю сцены и наливает ему из бутылки «Гато Негро». Кивком он побуждает Иоава налить еще. Небольшая группа, сидевшая рядом с баром, его давние поклонники из Петах-Тиквы, воспользовавшись моментом, когда глаза Довале следят за струей из бутылки, льющейся в опустевший термос, торопливо выскальзывают из зала. Мне кажется, что он этого даже не заметил. Смуглый парень в майке выходит из кухни, опирается на стойку бара, вблизи которого уже никого нет, курит, глядит на сцену.
Во время этого короткого затишья женщина с серебряными волосами и в очках в тонкой оправе встречает мой взгляд. На долгий, несколько неожиданный миг скрестились не только наши взгляды, но и, похоже, наши пути.
– Друзья и подруги, может быть, вы знаете, почему сегодня я рассказываю вам эту историю? Как мы вообще пришли к этому?
Он тяжело дышит, лицо его пылает неестественным румянцем.
– Мой рассказ скоро подойдет к финалу, не беспокойтесь, уже виден конец…
Он снимает очки, направляет на меня неотчетливый взгляд, и мне кажется, он снова напоминает о своей просьбе: «То, что выливается из человека вовне непроизвольно, помимо его власти, – я хочу, чтобы именно об этом ты рассказал мне». «Невозможно передать это словами, – думаю я, – в этом-то, по-видимому, и дело». А он спрашивает взглядом: «Но все-таки ты думаешь, что все это знают?» И я киваю в ответ: «Да». А он: «А сам человек, знает ли он сам, что воплощает то одно-единственное, в чем он весь?» И я думаю: «Да. Да! В глубине своей души он, несомненно, знает».
– Водитель привез меня домой, в наш квартал Ромема, но, когда я вышел из машины, одна соседка крикнула мне в окно: «Довале! Что ты тут делаешь? Давай быстрее в Гиват Шауль, может, еще успеешь…»
– Мы полетели из Ромемы на кладбище в Гиват Шауль, это не так далеко, может быть, четверть часа бешеной езды, без тормозов, без светофоров. Я помню, в машине была гробовая тишина, никто и слова не сказал. А я…
Он замолкает. Глубоко дышит.
– В душе своей, в черной своей душе я начал сводить свои счеты. Так это было. Пришло время выставлять мой счет. Мой маленький и вонючий счет.
Он снова исчезает, погружается все глубже и глубже в самого себя.
И возвращается, и выныривает – и вдруг он жесткий, напружиненный.
– Сучий потрох. Вот кто я. Вы должны это помнить. Ваша честь, запишите, учтите это, взвешивая аргументы, определяющие меру наказания. Не думайте, видя меня сегодня, что перед вами симпатяга, весельчак, балагур, целая империя буйного смеха. Но я, с тех пор и до дней нынешних – всегда! – всего лишь сукин сын четырнадцати лет, с душой, полной всякого дерьма, сидящий в армейском автомобиле, подбивая итог, выставляя свой вонючий счет – и это самый паскудный, самый гнусный счет, который человек может выставить в своей жизни. Вы и поверить не можете, что я включил в этот счет. За те несколько минут, которые мы мчались от оего дома до самого кладбища, я вписал туда самые мелкие, самые грязные вещи. В итоге получился счет бакалейной лавки, я включил туда и его, и ее, объединив вместе и свою жизнь, и их жизни.
Лицо его искажено, будто кто-то сдавливает его железной рукой.
– И, по правде говоря, до той минуты я даже не знал, какой же я сын ста тысяч сук! Я не представлял, какая мерзость гнездится внутри меня, пока вдруг я весь не стал этой самой мерзостью, от макушки до пяток, и не познал, что есть человек и чего он стоит. В несколько мгновений я все постиг, понял, вычислил, за секунду мой мозг выдал весь счет – это в плюс, это в минус, и еще минус, и еще минус, и все: это уже на всю жизнь, не сотрешь, ни за что не сотрешь.
Руки его переплетены, словно он сам себе пытается выкрутить их: правая ладонь обхватывает запястье левой, а запястье правой обхвачено ладонью левой. В сгустившейся тишине я напряженно пытаюсь вспомнить или по крайней мере предположить, где же я был в эти минуты, в четыре пополудни, именно в это время армейский автомобиль приближался к кладбищу. Возможно, вместе со взводом возвращался со стрельбища? Или мы занимались строевой подготовкой, маршировали на плацу? Я должен понять, как же раньше, в тот день, поздним утром, когда я видел его, возвращавшегося из палатки с рюкзаком на спине, бредшего к армейскому автомобилю за прапорщиком, я не вскочил и не побежал к нему. Я должен был помчаться к нему, вместе с ним дойти до автомобиля, расспросить, что случилось…
Я ведь был его товарищем, нет?
– Водитель летит, всем своим телом прижимаясь к баранке. Бледный, как стена. Люди в машинах рядом с нами смотрят на меня. Люди на улицах смотрят. Я чувствовал, что они точно знают, куда я еду и что сейчас творится в моей душе. Откуда они это знают? Ведь я и сам еще толком не знал, и уж точно не до самого конца, потому что все время я продолжал заниматься своим счетом, каждую минуту вспоминал еще что-то и еще что-то, добавляя к своему гребаному списку, к своей селекции – направо, налево, налево, налево…
Он извиняюще усмехается. Ладонью останавливает движение головы.
– Убейте меня, но понять не мог, откуда все эти, на улице, знают прежде меня, что я решил и какое я дерьмо. Помню одного старика, плюнувшего на тротуар, когда я проезжал мимо, и религиозного парня с пейсами, который просто убежал от меня, когда водитель остановился возле него и спросил, как проехать в Гиват Шауль. И женщину, которая вела за руку своего маленького сына и просто повернула его голову в сторону, чтобы он на меня не смотрел. Все это – знаки.
И еще я помню, что всю дорогу до кладбища водитель не смотрел мне в глаза, даже пол-оборота в мою сторону не сделал. Сестра его, казалось, совсем исчезла, я даже дыхания ее не слышал. И младенец тоже. И как раз потому, что этот младенец стал вдруг таким тихим, я начал думать: что же здесь происходит, что я сделал и почему они все такие?
Я уже понял: в конце пути, по дороге от моего дома сюда, или даже с той самой минуты, когда я оставил Беер-Ору, случилось что-то нехорошее. Но что? Что произошло? И чего они все от меня хотят? Ведь у меня это только мысли, просто мухи проносятся в мозгу, от мыслей ничего произойти не может, ни у кого нет власти над своими мыслями, ты не можешь остановить свой мозг или сказать ему: «Думай только так или только этак». Верно?
Молчание в зале. Он не поднимает голову. Не смотрит на нас.
Будто все еще боится ответа.
– Я не понимал, не понимал, и не у кого было спросить. Я был одинок. И от всего этого явилась и застряла у меня в голове новая мысль: похоже, всё. Наверное, уже конец. Я вынес приговор.
Он снова вытягивает руки вверх, вниз, в стороны, ищет способ дышать. Он не смотрит на меня, но я чувствую, что именно сейчас, возможно, сильнее, чем когда-либо в течение всего вечера, он просит, чтобы я его увидел.
– Поймите, я не знал, как это вообще было. Словно это именно мое решение. И я тотчас же попытался перевернуть все, что я думал, ей-богу, пытался, жизнью клянусь, но только почему? Почему у меня получилось решить именно так? Ведь все время у меня в голове было что-то совсем другое, и всю жизнь у меня было что-то другое, даже без размышлений, кто вообще думает об этом?
Он срывается в крик, исполненный испуга и паники:
– А теперь как же вдруг случилось так? И почему в последнюю минуту я сделал крутой поворот и принял решение совершенно противоположное тому, чего я на самом деле хотел, и как вся моя жизнь в одну секунду перевернулась из-за дурацких мыслей глупого мальчика…
Он падает в кресло.
– Эти несколько минут, – бормочет он, – и вся поездка, и весь этот гребаный счет… – Он медленно поворачивает свои ладони, разглядывает их с удивлением, вмещающим целую жизнь: «Как же я вывалялся в грязи, какая мерзость… Боже, как же я до самых костей…»
Если бы я только поднялся со своего места на песке и побежал к нему до того, как он сел в машину и уехал! Даже если бы это было посреди тренировки. Пусть даже с ним был прапорщик, который тут же начал бы на меня орать. Даже вопреки тому – у меня нет сомнений, и тогда, по-видимому, их тоже не было, – что с той минуты все бы надо мной смеялись, превратили бы меня в боксерскую грушу. Вместо него…
Он обхватывает голову руками, сжимая виски. Я не знаю, о чем он сейчас думает, но я поднимаюсь со своего места на песке и бегу к нему. Внезапно я совершенно отчетливо вспоминаю этот путь. Дорожка, обрамленная камнями, побеленными известью. Плац с флагом. Большие армейские палатки. Бараки. Сержант кричит мне вслед, угрожает. Я его игнорирую. Подхожу к Довале и шагаю рядом с ним. Он замечает меня и продолжает идти, придавленный тяжестью рюкзака. Он выглядит ошеломленным. Я протягиваю руку, касаюсь его плеча, он останавливается, растерянно уставившись на меня. Может быть, пытается понять, чего я хочу от него после всего, что происходило. Каковы наши теперешние отношения? Я спрашиваю его: «Что случилось? Куда тебя увозят?» И тут он пожимает плечами, смотрит на прапорщика и спрашивает: «Что случилось?» И тогда прапорщик ему отвечает.
А если прапорщик ему не отвечает, то я снова спрашиваю Довале.
А он спрашивает прапорщика. И так до тех пор, пока не скажет.
– Иногда я думаю, – говорит он, – что мерзость этого счета еще и до сегодня не разложилась окончательно в моей крови, не вполне из меня вышла. Она и не могла разложиться. Как она бы смогла? Такая мерзость, – он подыскивает нужное слово, пальцы его пытаются выдоить это слово из воздуха, – она радиоактивная. Да. Мой личный Чернобыль. Одно мгновение, которого хватило на всю жизнь, и до нынешних дней оно отравляет мне все, мимо чего я прохожу, любого человека, к которому я прикасаюсь.
Абсолютная тишина в зале.
– Или женюсь на нем. Или порождаю его.
Я поворачиваюсь и бросаю взгляд на девушку, которая собиралась уйти, но вернулась. Она беззвучно плачет, уткнув лицо в ладони. Плечи ее содрогаются.
– Продолжай, – тихо произносит крупная женщина с гривой кудрявых волос.
Он смотрит на публику затуманенным взглядом, устало кивает. И только сейчас я осознаю нечто, по-настоящему бесценное: за весь вечер он даже намеком не напомнил, что я был с ним там, в Беер-Оре. Не выдал.
– Что тут рассказывать? Добрались мы на машине до Гиват Шауля, а там – фабрика, конвейер, три погребения в час, тик-тик-тик, поди найди, что тебе нужно. Наш армейский автомобиль мы паркуем прямо на тротуаре, женщину с младенцем оставляем в машине, а мы с водителем носимся, как сумасшедшие, туда, сюда и снова туда. Не забывайте, что это мои первые похороны. Я даже не знал, где мне искать, что мне искать и в каком месте должен находиться умерший человек, откуда он вдруг может появиться передо мной, можно ли его увидеть или он накрыт покрывалом. Я вижу людей, стоящих группами; каждая такая кучка людей стоит отдельно, но я не знаю, чего они ждут, и кто решает, и что надо делать. И тут, вдалеке, замечаю рыжеволосого болгарина, он работает с папой, я это знаю, поставляет кремы и шампуни, рядом с ним стоит женщина из Концерна военной промышленност, начальница смены, мама боялась ее до смерти, а чуть поодаль я узнаю Сильвиу, папиного компаньона, с букетом цветов в руках.
– Тут я сообщаю водителю, что мы добрались, он останавливается, отходит на какое-то расстояние, говорит что-то вроде «Будь сильным, парень». А я… правду говоря, мне трудно расстаться с ним. Я даже имени его не знаю. И если он, случайно, здесь, в этом зале, пусть поднимет руку, получит рюмочку за счет заведения, а?
Судя по его напряженному и упорному взгляду, устремленному на присутствующих в зале, кажется, что он искренне верит в то, что такая возможность существует.
– Где ты? – Он ухмыляется. – Где же ты, хранитель простодушный мой[138], рассказывавший мне анекдоты всю дорогу и солгавший, что будешь участвовать в соревновании рассказчиков анекдотов? Я недавно проверил. Сейчас я в процессе генеральной уборки, наведения полного порядка на рабочем столе. Поймите, я должен увязать концы с концами, поэтому и выяснял, расспрашивал, расследовал, искал даже в выпусках журнала «Бамахане» того времени. Никогда не было ничего подобного, никаких конкурсов анекдотов в армии не существовало, он, хитрюга, просто выдумал для меня, так этот водила хотел хоть немного облегчить мне жизнь. Где же ты, дорогой мой человек?..
А сейчас будьте со мной, не выпускайте моей руки ни на секунду. Водитель вернулся к машине, а я пошел к стоявшим там людям. Помню, шел я медленно, будто ступал по битому стеклу, и только глаза мои бешено метались. Вот соседка, жившая этажом ниже, она всегда ссорилась с нами, потому что наша стирка, все это тряпье, которое носил отец, капало сверху на ее сушившееся белье, а сейчас она здесь. Вот и доктор, ставящий папе банки, если у того поднимается давление, а вот женщина из местечка, где родилась мама, это она приносит в наш дом книги на польском, а вот еще один знакомый, а вот и другая женщина…
Там было, наверное, человек двадцать. Я и не знал, что у нас так много знакомых. В квартале с нами почти не разговаривали. Возможно, эти люди как-то связаны с парикмахерской? Не знаю. Я к ним не приближался. Не видел ни его, ни ее. Меня вдруг заметили, узнали, стали на меня показывать и перешептываться. Рюкзак как-то сам соскользнул со спины. Тащить его у меня не было никаких сил.
Он обнимает себя руками.
– Вдруг подходит ко мне один высокий такой, с черной бородой-метелкой из Хевра Кадиша[139], говорит мне: «Ты сирота? Ты сирота Гринштейнов? Где ты был? Только тебя ждем!» Он крепко схватил меня за руку, сдавил ее и потащил за собой, а по дороге еще и приклеил мне на макушку картонную ермолку…
Довале пристально смотрит на меня. Его глаза впиваются в мои. Я отдаю ему все, что есть у меня, и все, чего у меня нет.
– Он подводит меня к такому строению из камня, мы заходим внутрь. Я не смотрел. Зажмурил глаза. Думал, может быть, папа или мама будут там, они ждут меня. Произнесут мое имя. Ее голосом или его голосом. Ничего я не услышал. Открыл глаза. Их там не было. Только какой-то тучный религиозный парень с закатанными рукавами быстрыми шагами прошел сторонкой с лопатой в руках. А тот, с бородой, волочит меня дальше. Мы прошли в зал и вошли в еще одну дверь. Я заметил, что это совсем небольшая комната, были там на одной стене большие раковины, с ведром, и еще несколько влажных полотенец или простыней. И продолговатая такая тележка на колесиках, а на ней – какой-то сверток, обернутый белой материей, и я уже понял, что это: там человек…
А тот, высокий, говорит мне: «Проси прощения», – а я…
Довале роняет голову на грудь, обнимает себя крепко-крепко.
– Я не двинулся с места. А он тычет мне пальцем в плечо сзади: «Проси прощения», – говорит он мне еще раз. Я спрашиваю: «У кого?» Я не смотрел на тележку, только вдруг промелькнуло в голове: «Это вообще-то не очень уж длинный сверток, и, возможно, это не она, это не она!» Может быть, я зря испугался. Просто мозг сыграл злую шутку. И тут я испытал такое счастье, которое не испытывал никогда в жизни. Ни до этого, ни после этого. Безумное счастье, словно это я сам спасся от смерти в эту минуту. Он снова толкает меня в плечо: «Проси прощения!» И я снова спрашиваю: «У кого?» И тут его осенило, он перестал тыкать пальцем и спросил: «Ты не знаешь?» Я ему ответил, что не знаю. Он перепугался: «Тебе не сказали?» Я снова ответил: «Нет». И он наклонился низко-низко, стал со мной вровень, я видел его глаза перед собою, и он сказал мне тихо, с нежностью: «Ведь это твоя мама здесь».
А после этого что я помню?
Помню, помню… дал бы бог, чтобы я не очень-то помнил, может быть, и осталось бы в голове место для других вещей.
Тот, из Хевра Кадиша, тут же повел меня назад, в большую комнату, а там уже собрались люди, которых я видел раньше, и когда мы вошли, они расступились, и я увидел своего папу, его поддерживал компаньон, сам же он с трудом стоял на ногах, как младенец, он висел на Сильвиу и даже меня не видел…
Я думал… что же я думал…
Он дышит глубоко. Намного глубже глубины собственного тела.
– Я думал, что должен подойти к нему, обнять его. Но я был не в состоянии сделать и шага и, уж точно, посмотреть ему в глаза. А люди за моей спиной говорили: «Ну, иди к папе, иди уже к папе, кадишл!»[140] Сильвиу шепотом уже сообщил папе, что я здесь, и он поднял голову, и глаза его открылись, словно он увидел Мессию. Он оставил Сильвиу, шатаясь, подошел ко мне, широко раскрыв руки, и с плачем выкрикивал ее имя и мое – вместе. И я вдруг увидел его старого, в присутствии всех плачущего на идише, что теперь мы с ним остались вдвоем, и как же это с нами случилось такое несчастье, и за что это нам, ведь никому мы не делали зла!..
Я не двинулся с места. Не сделал и шага в его сторону, а только разглядывал его лицо и думал, какой же он болван, потому что все могло быть совсем наоборот, – миллиметр в ту или иную сторону, и все было бы совсем по-другому. И если он сейчас обнимет меня или только прикоснется ко мне, я ударю его, я убью его, я могу, я все могу, все, что я говорю, происходит на самом деле. И в ту же секунду, как я об этом подумал, тело меня перевернуло. Одним ударом меня подбросило, швырнуло на руки, картонная ермолка слетела, и я услышал, как все дышат, и стало очень тихо.
Я начал убегать, а он бежал за мной, и он все еще не понял, он кричит на идише, чтобы я остановился, вернулся, но я весь перевернутый, я все переворачиваю. Снизу я видел, как все расступаются, когда я пробегаю между ними, и я выбежал оттуда, и никто не набрался смелости меня остановить. А он бежал за мной и кричал, и плакал, пока не остановился на пороге комнаты. Тогда и я остановился на площадке перед зданием, и мы стояли так и смотрели друг на друга, я – так, и он – так, и тогда я по-настоящему увидел, что без нее он ничего не стоит, что вся его жизненная сила происходила из того, что она была с ним. В одно мгновение он стал половиной человека.
И он посмотрел на меня, и я увидел, как его зрачки медленно-медленно приближаются друг к другу. И вдруг я почувствовал, что он начинает понимать. Не знаю, каким образом, но в таких вещах он обладал инстинктом зверя. Вы никогда не убедите меня, что это не так: в одну секунду он осознал и постиг все, что я проделал по пути сюда, весь мой дерьмовый счет. Все он в один миг прочитал на моем лице. И он поднял вверх обе руки, и, я думаю, я уверен: он меня проклял. Потому что из него вырвался крик, подобно которому я никогда не слышал от человека. Крик, как будто я его убил. И в это мгновение я упал, у меня подломились руки, и я распростерся на асфальте.
Люди, находившиеся на площадке, смотрели на меня и на него. Я не знаю, что он сказал, какое проклятие выкрикнул, возможно, все это было только у меня в голове, но я видел его лицо и чувствовал, что это страшное проклятие, и тогда я еще не знал, что оно будет властвовать надо мной всю мою жизнь, но так это было, куда бы я ни шел, куда бы ни убегал.
Послушайте: там впервые у меня промелькнула мысль, что я, возможно,ничего не понял, что он и вправду был готов лежать на той тележке вместо нее. С ней у него не было никаких расчетов, он на самом деле ее любил.
Его тело обмякло.
«Ну что ж…» – бормочет он и снова угасает на долгое время…
– И тогда он сделал мне вот так рукой, отрекся от меня, и повернулся ко мне спиной, и потащился в зал продолжать похороны. А я поднялся на ноги и побежал прочь среди людей и машин, уже точно зная, что все кончено, домой я не вернусь, для меня этот дом закрыт.
Он медленно ставит термос у ног. Голова его наклонена, как и в ту минуту, когда он начинал свой рассказ.
– Куда мне было идти? Кто ждал меня? Первую ночь я спал в бомбоубежище нашей школы, вторую ночь – в кладовке синагоги, а на третью ночь уже приполз домой, поджав хвост. Он открыл мне дверь. Ни словом не обмолвился о том, что было. Приготовил мне ужин, как обычно, но без всяких разговоров, ни со мной, ни с самим собой.
Довале выпрямляется. Голова его болтается на тонкой шее.
– Вот так и началась наша жизнь после нее…
Я и он, в одиночестве, но это уже для другого вечера, а сейчас я немного устал.
Молчание. Никто не шевелится.
Проходит минута, еще минута. Иоав, директор зала, смотрит направо, налево, покашливает, прочищая горло, обеими руками бьет себя по толстым ляжкам, встает и начинает поднимать стулья, ставя их сиденьями на стол вверх ножками. Люди встают и тихо уходят, не глядя друг на друга. Кое-кто из женщин кивает Довале на прощание. Он стоит с потухшим лицом. Высокая статная женщина с серебряными волосами подходит к сцене, прощается с ним, склонив голову. На пути к выходу она проходит мимо моего столика и кладет на него свернутую записку. Я обращаю внимание на морщинки смеха вокруг заплаканных глаз.
Мы остались втроем. Маленькая женщина, обхватив обеими руками красную сумку, стоит рядом со стулом, опираясь на одну ногу. Она такая крошечная, маленькая Эвриклея. Она ждет, смотрит на него с надеждой. Постепенно он возвращается из глубин, в которые погрузился, поднимает на нее взгляд и улыбается.
– Спокойной ночи, Пиц, – говорит он, – не оставайся здесь. И не иди домой пешком. Окружение тут не слишком хорошее. Иоав! Вызови ей такси. Спишешь с моего счета, если там еще что-то осталось.
Она не двигается с места. Застыла как вкопанная.
Он тяжело спускается со сцены в зал и встает рядом с ней. Он еще ниже, чем кажется на сцене. Склоняется перед ней с какой-то старомодной рыцарской грацией, целует в щеку и отступает на шаг. Она все еще неподвижна. Стоит на цыпочках, глаза ее закрыты, и вся она тянется к нему. Он снова приближается к ней, целует ее в губы.
– Спасибо, Пиц, – говорит он, – спасибо за все. Ты и представить себе не можешь…
– Пожалуйста, – говорит она со всей своей деловой серьезностью, но лицо ее заливается румянцем, и птичья грудная клетка вздымается.
Она поворачивается и уходит, слегка прихрамывая, ее рот округлен в улыбке чистого счастья.
Теперь в зале – только я и он. Он стоит передо мной, опираясь рукой о край стола, и я тотчас присаживаюсь, чтобы не давить его массой моего тела.
– «Я приговариваю тебя к смертной казни через утопление», – цитирует он слова отца к сыну из рассказа Кафки и поднимает над головой термос, из которого вытекают последние капли. Несколько из них попадает и на меня.
Смуглый парень в майке снова на кухне, моет посуду и изливает душу в песне «Let it be».
– У тебя есть еще минута?
Руки его дрожат от напряжения, когда он снова поднимает себя на сцену и усаживается на краю.
– Даже целый час.
– Ты не спешишь домой?
– Я никуда не спешу.
– Просто, знаешь… – Он слабо улыбается. – Только пока адреналин чуть-чуть не спадет.
Голова его опущена на грудь. Он снова выглядит так, будто заснул сидя.
Внезапно Тамара оказывается здесь, вокруг меня, я чувствую ее присутствие с такой силой, что у меня перехватывает дыхание. Я настраиваюсь на нее. Слышу, как она шепчет мне в ухо, цитирует нашего любимого Фернандо Пессоа: «Достаточно существовать, чтобы быть совершенным».
Довале вздрагивает и открывает глаза. Ему понадобилась почти минута, чтобы сфокусировать взгляд.
– Я видел, ты немного записывал, – говорит он.
– Думал, стоит попробовать что-нибудь об этом написать.
– Правда? – Лицо его наполняется улыбкой.
– Когда все будет готово, я передам это тебе.
– По крайней мере, от меня останется несколько слов. – Он смущенно улыбается. – Как опилки после спиленного дерева…
– Смешно, – говорит он после краткой паузы, отряхивая руки от пыли сцены. – Я не из тех, кто скучает, ни по кому.
Я несколько удивлен, но не говорю ни слова.
– Но этим вечером, даже не знаю… Возможно, в первый раз с тех пор, как она умерла.
Он проводит пальцем по очкам, лежащим рядом с ним на сцене.
– Были сегодня такие моменты, что я буквально ее чувствовал… Не только как мою маму, я имею в виду, а как человека. Единственного человека, бывшего здесь, в мире.
– А папа, – продолжает он, и голос его нежен, – продержался после ее смерти еще почти тридцать лет. В его последние годы я ухаживал за ним. По крайней мере он умер дома, со мной.
– Что, в Ромеме?
Он пожимает плечами:
– Я не ушел далеко.
Я вижу Довале и его отца: они идут по коридору навстречу друг другу. Пыльное время накрывает их.
– Ты не будешь возражать, если я отвезу тебя домой? – предлагаю я.
Он размышляет секунду. Пожимает плечами:
– Если ты настаиваешь…
– Иди и собирайся, – говорю я, вставая из-за стола. – Я подожду тебя на улице.
– Минутку, не так быстро. Садись. Побудь моей публикой еще одну секунду.
Он делает глубокий вдох, грудь расширяется, обе его ладони приложены к губам, словно рупор:
– Представление окончено, Кейсария!..
Он посылает мне со сцены свою сверкающую улыбку.
– Это все, что я могу дать вам. На сегодня у Довале больше нет раздач. И завтра тоже не будет. Церемония окончена. Прошу всех разойтись, соблюдая осторожность. Пожалуйста, следуйте указаниям лиц, ответственных за безопасность, и полицейских. Мне сообщают, что на выезде движение сильно перегружено. Всем спокойной ночи.
Январь 2013 – июнь 2014
«Я не мог не написать эту книгу…»
Послесловие автора
Как появилась книга «Как-то лошадь входит в бар»?
Обычно я пишу книгу не потому, что хочу написать ее, а потому, что написание книги становится абсолютно неизбежным…
…Много лет тому назад, еще в 1991 году, работая над своей «Книгой внутренней грамматики», я слышал рассказ о четырнадцатилетнем юноше, в силу обстоятельств оказавшемся далеко от своей семьи, которого вдруг срочно отправляют домой на похороны, не сообщая при этом, кого придется хоронить – отца или мать…
Этот случай запал мне в душу, но относительно недавно я встретил одного из своих старых друзей, который поведал мне похожую историю. Все во мне перевернулось при мысли, что люди могут быть такими черствыми, такими жестокосердными. Как можно посылать юношу в долгий путь на похороны, не сообщив, кого ему предстоит хоронить?
Равнодушие к судьбе ближнего – одно из самых изощренных, самых страшных деяний, причиняющее острую боль, наносящее непоправимый вред человеку. Случается, мы проявляем равнодушие к тем, кто находится в трудном положении, в стесненных обстоятельствах; возможно, это не равно ножу, вонзенному в спину, и потоков крови не видно.
Но равнодушие убивает. Я в этом убежден.
История четырнадцатилетнего подростка, с которым так жестоко поступили, буквально преследовала меня, и всякий раз, заканчивая давно запланированную книгу, я говорил себе: «Теперь я напишу историю юноши, которого везут из пустыни Негев в Иерусалим на похороны, но в течение почти четырехчасового пути он так и не знает, кого ему предстоит похоронить – отца или мать. Я не могу бросить его на произвол судьбы, откладывая книгу еще на год, еще на два…»
Однако мне нужно было найти «ключ» к этой истории, придумать ход, который поможет завладеть вниманием читателя…
И однажды в одной из израильских телевизионных программ я увидел отрывок из представления стендапера.
И вдруг я задумался…
Ведь самое странное, что случилось в жизни этого подростка, – равнодушие окружающего мира к его личной трагедии. В представлении стендапера есть нечто подобное: актер со сцены рассказывает собравшимся об очень личных, очень глубоких переживаниях, но публика вообще-то абсолютно равнодушна к его горестям. Есть некая дисгармония между желанием стендапера выступить перед народом, открыть ему свою душу, снискать его любовь. И тем, что публика пришла на представление «немного проветрить голову», как у нас говорят, она желает слышать со сцены только шутки, остроты, анекдоты.