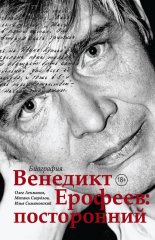Бельканто Пэтчетт Энн
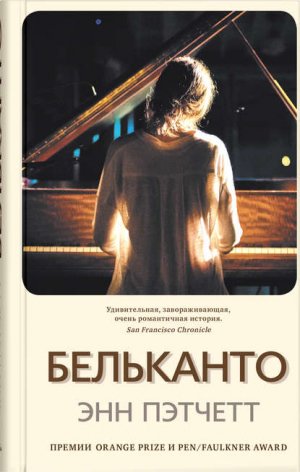
– А у него есть Беллини? – спросила Роксана, выслушав перевод. – Мне нужны его романсы. А также все оперные партитуры: Россини, Верди, Моцарт. – Она придвинулась к священнику и спросила, как о чем-то невозможном: – И Оффенбах.
– Оффенбах! «Сказки Гофмана»! – французские слова священник выговаривал хоть и плохо, но более-менее внятно. Название оперы он лишь читал на обложке пластинки.
– Так у него это есть? – спросила Роксана Гэна.
Гэн перевел вопрос, и священник ответил:
– Я видел у него партитуры. Позвоните ему, его зовут Мануэль. Я бы и сам с огромной радостью позвонил, если мне разрешат.
Так как командир Бенхамин закрылся в одной из верхних комнат с примочкой на своем пылающем лице и беспокоить его было нельзя, Месснер обратился к Эктору и Альфредо. Те выслушали просьбу без интереса.
– Для сеньориты Косс, – пояснил Месснер.
Эктор кивнул и махнул рукой, не глядя. Когда Месснер уже был в дверях, Альфредо пролаял: «Только один звонок!» – решив, что, согласившись чересчур быстро, они выказали себя слабыми лидерами. Оба командира сидели в кабинете и смотрели любимую мыльную оперу президента. Героиня, Мария, как раз говорила своему возлюбленному, что больше не любит его, надеясь, что в отчаянии он уедет из города и тем спасется от собственного брата, который задумал его убить, потому что тоже любит Марию. Месснер еще минуту постоял в дверях, глядя на рыдающую актрису. Она изображала горе столь убедительно, что он не сразу заставил себя уйти.
– Звоните Мануэлю, – сказал он, вернувшись в гостиную. Рубен сходил на кухню и принес оттуда телефонную книгу, а Месснер дал священнику свой сотовый и показал, как набрать номер. После третьего гудка в трубке ответили:
– Алло?
– Мануэль? – прокричал отец Аргуэдас. – Мануэль, алло! – Он чувствовал, что голос его срывается от волнения. Он говорит с человеком снаружи! Как будто с привидением из прежней жизни, с серебристой тенью, шествующей из придела в алтарь. Мануэль. Отец Аргуэдас пробыл в заложниках меньше двух недель, но при звуке этого голоса почувствовал себя так, словно уже умер для мира.
– Кто это? – В голосе зазвучала подозрительность.
– Это твой друг, отец Аргуэдас! – Глаза священника наполнились слезами, и, жестом попросив прощения у присутствующих, он отошел в угол и спрятался в пышных складках оконных штор.
На другом конце провода повисла длинная пауза.
– Это что, шутка?
– Мануэль, нет! Это я звоню!
– Отец?
– Да! Я тут в… – начал было отец Аргуэдас, но потом заколебался. – Меня тут задержали.
– Мы знаем! Отец, с вами все в порядке? Как они с вами обращаются? Так, значит, они разрешают вам звонить?
– Со мной все в порядке. Со мной все прекрасно. Звонить – нет, они нам не разрешают, просто сейчас особые обстоятельства.
– Мы каждый день молимся о твоем здравии. – Теперь уже срывался голос его друга. – Я домой прихожу только пообедать! Буквально только что вошел в дверь! Если бы ты позвонил пять минут назад, меня бы не было дома! Ты цел, здоров? Мы тут наслушались о вас всяких ужасных вещей!
– Вы молитесь о моем здравии? – Отец Аргуэдас намотал на руку тяжелую занавеску и прижал щеку к мягкой материи. Единственный раз на его памяти имя отца Аргуэдаса упоминали во время мессы перед тем, как он принял сан – вместе с именами еще двадцати трех священников. Подумать только, те люди, за кого он молился, теперь сами молятся за него! Подумать только, Господь слышит его имя из стольких уст! – Пусть они молятся за всех нас – за заложников и террористов одинаково!
– Мы молимся, – заверил Мануэль. – Но за твое здравие служим отдельную службу.
– Поверить не могу! – прошептал он.
– У него есть ноты? – спросила Роксана Косс, а Гэн повторил вопрос священнику.
Отец Аргуэдас наконец опомнился.
– Мануэль! – Он закашлялся, пытаясь скрыть волнение. – Я звоню тебе с просьбой об одной услуге.
– Проси что хочешь, друг мой! Им нужны деньги?
Предположение, что он, находясь среди толпы богачей, может просить деньги у учителя музыки, заставило отца Аргуэдаса улыбнуться.
– Ну что ты, нет! Мне нужны ноты! У нас тут есть оперная певица…
– Роксана Косс.
– Ну, ты сам все знаешь. – Отец Аргуэдас порадовался сообразительности своего друга. – Ей нужны ноты, чтобы репетировать.
– Я слышал, ее аккомпаниатор погиб. От рук террористов. Я слышал, что они отрезали ему руки.
Отец Аргуэдас был потрясен. Что еще о них напридумывали, пока они тут сидят?
– Ничего подобного! Он умер своей смертью! У него был диабет! – Должен ли он защищать террористов? Разумеется. Нельзя же допустить, чтобы их ложно обвинили в отрезании рук у пианиста. – Здесь все не так ужасно. Правда, вполне терпимо. Мы нашли другого аккомпаниатора. Он сидит в заложниках вместе с нами и играет очень хорошо. – Он перешел на шепот. – Может, даже лучше, чем первый. Ей нужны самые разные ноты, оперные партитуры, романсы Беллини, Шопен для аккомпаниатора. У меня есть список.
– Все, что она хочет, у меня есть, – уверенно заявил Мануэль.
Священник услышал, как его друг шуршит бумажками, ищет ручку.
– Я ей так и сказал.
– Ты говорил обо мне Роксане Косс?
– Разумеется. Потому я и звоню.
– Она теперь знает, как меня зовут?
– Она хочет петь по твоим нотам, – заверил его священник.
– Даже сидя под замком, ты продолжаешь делать добрые дела, – вздохнул Мануэль. – Какая честь для меня. Я им все принесу сейчас же. А обедать вообще не буду.
Они уточнили список, и отец Аргуэдас еще раз перепроверил его с Гэном. Когда все было согласовано, священник попросил своего друга не класть трубку. Чуть поколебавшись, он протянул телефон Роксане.
– Попросите ее что-нибудь сказать, – обратился он к Гэну.
– Что именно?
– Что-нибудь. Не имеет значения. Попросите ее перечислить названия опер. Она согласится?
Гэн передал просьбу Роксане Косс, и та взяла телефон и поднесла его к уху.
– Алло? – сказала она.
– Алло? – в тон ей ответил Мануэль, старательно подражая ее английскому выговору.
Она посмотрела на отца Аргуэдаса и улыбнулась. И смотрела на него все время, пока перечисляла названия опер.
– «Богема», – сказала она. – «Так поступают все женщины».
– Помилуй боже! – прошептал Мануэль.
– «Джоконда», – продолжала Роксана, – «Капулети и Монтекки», «Мадам Баттерфляй»…
Священнику показалось, что в груди у него разливается какой-то яркий белый свет, жаркое сияние, от которого глаза заслезились, а сердце принялось биться так, как бьется ночью отчаявшийся человек в запертые двери храма. Если бы он был способен сейчас поднять руку и дотронуться до нее, то наверняка не смог бы удержаться от соблазна. Но этого не случилось. Он был почти парализован ее голосом, музыкой ее слов, ритмичным плеском оперных названий, слетающих с ее губ, исчезающих в телефоне, чтобы достигнуть ушей Мануэля за две мили отсюда. Священник понял, что переживет эту переделку. Что когда-нибудь наступит день, когда он будет сидеть с Мануэлем на кухне в его забитой нотами квартирке, и они вместе будут бесстыдно предаваться сладостным воспоминаниям вот об этой самой минуте. Он должен выжить – хотя бы ради этой чашки кофе со своим другом. И пока они будут вспоминать, перебирая названные ею оперы, отец Аргуэдас будет думать, что из них двоих он гораздо счастливее, потому что именно на него она смотрела, пока говорила по телефону.
– Дайте мне сотовый, – сказал Месснеру Симон Тибо, когда разговор с Мануэлем закончился.
– Они разрешили только один звонок.
– Мне наплевать, что они разрешили. Дайте мне этот чертов сотовый.
– Симон…
– Они смотрят телевизор! Дайте сюда сотовый! – Террористы оборвали в доме все телефонные провода.
Месснер вздохнул и передал ему сотовый:
– На одну минуту.
– Клянусь. – Он уже набирал номер. На шестом гудке включился автоответчик. Симон услышал свой голос, говорящий сначала по-испански, а затем по-французски, что их нет дома и они просят перезвонить позже. Почему Эдит не переписала сообщение автоответчика? Как это понимать? Он прикрыл рукой глаза и заплакал. Звук собственного голоса в телефоне казался ему невыносимым. Когда он замолк, раздался длинный глухой гудок. – Je t’adore, – сказал он. – Je t’aime, je t’adore[9].
Все снова разбрелись по комнате, вернулись в свои кресла, чтобы вздремнуть или разложить пасьянс. После того как Роксана вышла из комнаты, а Като вернулся к письму, которое писал сыновьям (ему так много надо было теперь сказать сыновьям!), Гэн заметил, что Кармен по-прежнему сидит в своем углу, но наблюдает теперь не за певицей или аккомпаниатором, а за ним. Переводчику стало неловко, как всякий раз, когда она на него смотрела. Ее лицо, казавшееся столь неуместно красивым, когда ее принимали за юношу, теперь как будто окаменело, даже дыхания было почти не заметно. Кармен больше не носила кепку. Ее большие темные глаза были устремлены на Гэна, словно она боялась отвернуться, словно, отвернувшись, признала бы, что разглядывала молодого человека до того.
Гэн, при всех своих лингвистических талантах, часто терялся, когда говорить надо было своими словами. Если бы господин Хосокава все еще сидел рядом, он бы мог сказать Гэну, например: «Пойди и узнай, чего хочет эта девушка», и Гэн пошел бы и узнал безо всяких колебаний. Иногда молодому человеку казалось, что у него душа машины и он способен приходить в движение только после того, как кто-нибудь другой повернет в нем ключик. Он отлично себя чувствовал на работе или когда был предоставлен самому себе. Сидя дома наедине с книгами или записями, он знакомился с языками, как другие мужчины знакомятся с женщинами: поначалу легкая непринужденная беседа, потом – страсть. Он разбрасывал книги по полу и поднимал по одной наугад: читал Чеслава Милоша по-польски, Флобера по-французски, Чехова по-русски, Набокова по-английски, Манна по-немецки, затем наоборот – Милоша по-немецки, Флобера по-русски, Манна по-английски. Это была игра, эстрадный номер, с которым он выступал перед самим собой; постоянное чередование языков поддерживало его ум в тонусе. Но совсем иное дело подойти к другому человеку, который неизвестно почему пялится на тебя с другого конца комнаты. Возможно, командиры правильно произвели его в секретари.
Тонкую талию Кармен обхватывал широкий кожаный ремень с заткнутым за него пистолетом. В отличие от бойцов мужского пола свою зеленую рубаху она содержала в чистоте, а дыра на коленке у нее была тщательно заштопана теми самыми черными нитками, которыми Эсмеральда зашивала вице-президентское лицо. Эсмеральда оставила катушку с воткнутой в нее иголкой на столике в гостиной, и Кармен, улучив момент, тайком сунула ее в карман. Ее обуревало желание поговорить с переводчиком с того самого дня, как она поняла, чем он занимается, но она не могла придумать, как при этом не дать ему догадаться, что она девушка. Но потом Беатрис решила за нее этот вопрос, секрет был раскрыт, и никаких причин тянуть больше не было – если не считать того, что спина у Кармен словно к стене приросла. Он ее заметил. Он тоже стал смотреть на нее – на этом все и застопорилось. Кармен не могла уйти из комнаты и в то же время была не в силах подойти к нему. Девушку будто парализовало. Она пыталась разозлиться, вспомнить все, чему учили ее командиры на тренировках, но одно дело – делать что-то во имя народа, и совсем другое – просить для себя самой. Она совершенно не умела ни о чем просить.
– Дорогой Гэн, – сказал Месснер, опуская руку ему на плечо, – я никогда не видел вас сидящим в одиночестве. Вам, наверное, иногда кажется, что все вокруг вас хотят что-то сказать и никто не знает, как это сделать.
– Иногда, – произнес Гэн рассеянно. Ему казалось, что, если он дунет в ее сторону, она поднимется вместе с потоком воздуха и просто улетит из комнаты, как перышко.
– Мы оба рабы обстоятельств, вы и я, – произнес Месснер по-французски, на том языке, на котором говорил дома, в Швейцарии. – Правда, «рабы» нехорошо звучит. Пусть будут «слуги». Слуги обстоятельств.
Он опустился на табурет у рояля и проследил глазами за взглядом Гэна.
– Мой бог, – произнес он спокойно, – неужели это девушка?
Гэн ответил, что да, девушка.
– Откуда она здесь взялась? Раньше здесь не было никаких девушек! Только не рассказывайте мне, что они нашли способ переправить сюда других своих сообщников.
– Она здесь с самого начала, – сказал Гэн. – Их здесь две. Мы в первое время их просто не замечали. Вот эта – Кармен. А Беатрис, другая, пошла смотреть телевизор.
– Как это мы их раньше не замечали?
– Очень просто, не замечали, и все, – пожал плечами Гэн, совершенно уверенный, что уж он-то заметил это давно.
– Я только что был в кабинете.
– Значит, вы снова не заметили Беатрис.
– Беатрис. А эта – Кармен. Ну и ну. – Месснер встал. – Тогда с нами со всеми что-то не так. Будьте моим переводчиком. Я хочу с ней поговорить.
– Но вы сами прекрасно говорите по-испански.
– Мой испанский хромает, и глаголы я спрягаю неправильно. Пошли. Посмотрите на нее, Гэн, она пялится прямо на вас! – Это было правдой. Кармен увидела, что Месснер направляется в ее сторону, и от ужаса не могла даже моргнуть, застыла как статуя. Она молилась святой Розе Лимской о том, чтобы та ниспослала ей благословенный дар невидимости. – Либо ей приказали не спускать с вас глаз под страхом смерти, либо она хочет вам что-то сообщить.
Гэн встал. В конце концов, он переводчик. Он сейчас просто пойдет и будет переводить для Месснера. В то же время он чувствовал в груди странное трепетание – похоже на щекотку, только щекотали Гэна изнутри.
– Столь замечательное обстоятельство – и никто ни слова! – не унимался Месснер.
– Мы все были заняты новым аккомпаниатором, – возразил Гэн, чувствуя, что с каждым шагом ноги у него все более слабеют. Бедра, коленная чашечка, берцовая кость. – Мы вообще забыли о девушках.
– Да, признаю, что с моей стороны было непростительным мужским шовинизмом считать, что все террористы – мужчины. В конце концов, мир уже не тот. Необходимо помнить, что девушки точно так же могут выбрать профессию террориста, как и молодые люди.
– А я не могу себе такого представить, – сказал Гэн.
Когда они были уже совсем близко, Кармен нашла в себе силы положить руку на пистолет. Мужчины встали как вкопанные.
– Вы собираетесь нас застрелить? – спросил Месснер по-французски. Это простое предложение он не мог произнести по-испански, потому что не знал слова «застрелить» – а ведь все хотел выучить. Гэн перевел, и голос его звучал неуверенно. На лбу у Кармен выступил пот, глаза были по-прежнему широко раскрыты, и она не произнесла ни слова.
– Вы уверены, что она говорит по-испански? – спросил Месснер Гэна. – Вы уверены, что она вообще умеет говорить?
Гэн спросил ее, говорит ли она по-испански.
– Poquito[10], – прошептала она.
– Не стреляй в нас! – добродушно попросил Месснер и указал на пистолет.
Кармен оставила пистолет в покое и скрестила обе руки на груди.
– Не буду, – пообещала она.
– Сколько тебе лет? – продолжал Месснер.
– Семнадцать.
Это было похоже на правду.
– Какой у тебя родной язык? – спросил Месснер.
Гэн слегка изменил вопрос при переводе: на каком языке она говорит дома?
– Кечуа, – ответила она. – Мы все говорим на кечуа, но знаем испанский. – Тут она наконец попыталась заговорить о том, что заботило ее больше всего: – Мне надо лучше знать испанский. – Голос у девушки был глухой и хрипловатый.
– Ты говоришь по-испански вполне хорошо.
Что-то в ее лице изменилось от этой похвалы. Назвать это улыбкой нельзя было даже при очень сильном желании, однако брови Кармен дрогнули, и она чуть приподняла лицо, словно ловя солнечный свет.
– Я стараюсь учиться лучше.
– Как такая девушка связалась с такой компанией? – спросил Месснер. Гэн нашел вопрос слишком прямолинейным, но изменить при переводе не решился. Месснер достаточно хорошо понимал по-испански и мог поймать его на слове.
– Я хочу освободить народ, – ответила Кармен. Месснер почесал затылок.
– Они все говорят: «освободить народ». Но я никогда не мог понять, кто этот народ и от чего именно они хотят его освободить. Разумеется, я не закрываю глаза на проблемы, но в этом «освободить народ» столько неопределенности! Право же, гораздо легче вести переговоры с грабителями банков. Уж они точно знают, чего хотят: денег. Они хотят получить деньги и с их помощью освободить самих себя, а на народ им плевать. Так намного честнее, не правда ли?
– Вы кого спрашиваете: меня или ее?
Месснер посмотрел на Кармен и извинился по-испански.
– С моей стороны это грубо, – сказал он Гэну. – Мой испанский слишком скуден. – Он снова обратился к Кармен: – Но я тоже пытаюсь выучить его лучше.
– S[12], – ответила она. Ей не следовало болтать с ними. Командиры могут войти в любую минуту. Кто угодно может ее застукать. Она слишком у всех на виду.
– С тобой хорошо обращаются? Ты здорова?
– S, – снова ответила она, хотя и не совсем понимала, почему он спрашивает.
– Она настоящая красотка, – сказал Месснер Гэну по-французски. – Удивительное лицо – в форме сердца. Только не говорите ей об этом. Она, похоже, скромница, засмущаем барышню до смерти. – Он снова повернулся к Кармен: – Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать кому-нибудь из нас.
– S, – с трудом вымолвила она.
– Никогда не встречал таких застенчивых террористов, – заметил Месснер по-французски. Теперь все трое чувствовали себя так, словно попали на затянувшийся, невыносимо скучный прием.
– Вам понравилась музыка? – спросил Гэн.
– Очень красивая, – прошептала она.
– Это был Шопен.
– Като играл Шопена? – вмешался Месснер. – Ноктюрны? Как жаль, что я это пропустил.
– Шопен играл! – вздохнула Кармен.
– Да нет, – уточнил Гэн. – Играл сеньор Като. А музыку, которую он играл, написал сеньор Шопен.
– Очень красивая, – повторила она, и вдруг ее глаза наполнились слезами, и она замолчала, отрывисто дыша.
– Что случилось? – спросил Месснер. Он хотел было потрепать ее по плечу, но передумал. Высокий парень по имени Хильберто окликнул ее с другого конца комнаты, и звук собственного имени как будто вывел Кармен из паралича. Она быстро вытерла глаза и решительно выпрямилась и пошла прочь, даже не кивнув своим собеседникам на прощание. Они смотрели ей вслед, пока девушка не исчезла в холле вместе с парнем.
– Может, это музыка на нее так подействовала, – вздохнул Месснер.
Гэн не мог оторвать глаз от места, на котором она только что стояла.
– Тяжело девушке выдержать такое, – сказал он наконец. – Выдержать все это.
И хотя Месснер тут же начал возражать, что тут всем тяжело, он прекрасно понимал, что Гэн имеет в виду, и в глубине души с ним соглашался.
Всякий раз, когда Месснер уходил, в доме на долгие часы повисала томительная грусть. В особняке вице-президента воцарялась тишина, и никто уже не слушал заунывные вопли громкоговорителей с другой стороны стены. «Ваше положение безнадежно!», «Сдавайтесь!», «Никаких переговоров!». Полицейские все бубнили и бубнили, пока слова не сливались в сплошной гул, напоминающий злобное жужжание шершней, потревоженных в своем гнезде. Заложники пытались вообразить, как чувствуют себя арестанты в тюрьме, когда час посещений подходит к концу и заняться нечем, кроме как сидеть в своих камерах и гадать, стемнело на улице или еще нет. Все в доме были глубоко погружены в свою обычную дневную депрессию, думали о престарелых родственниках, которых так и не успели навестить, как вдруг Месснер снова постучал в дверь. Симон Тибо отнял от лица голубой шарф, с которым не расставался, а командир Бенхамин жестом приказал вице-президенту узнать, что происходит снаружи. Рубен на минутку замешкался, отвязывая от талии кухонное полотенце. Бойцы велели ему поторапливаться. Они, конечно, знали, что это Месснер. Только Месснер решался подходить к двери.
– Какой чудесный сюрприз! – сказал вице-президент.
Месснер стоял на ступенях, с трудом удерживая в руках тяжелую коробку.
Командиры решили, что этот внеплановый визит означает прорыв, шанс покончить наконец со всем этим. Надежда и отчаяние переполняли их. Увидев, что это всего лишь очередная посылка, командиры почувствовали сильнейшее разочарование. С них было довольно.
– Сейчас не время, – сказал командир Альфредо Гэну. – Он прекрасно знает, в какое время ему позволено приходить.
Альфредо только-только устроился отдохнуть в кресле. Он страдал бессонницей с тех самых пор, как вселился в вице-президентский дврец, и любой, кто мешал ему вздремнуть днем, потом сильно жалел об этом. Командиру неизменно снились пули, свистевшие у него над ухом. Когда он просыпался, его рубашка была мокрой от пота, сердце отчаянно билось и чувствовал он себя еще более измученным, чем до сна.
– Мне казалось, что у вас возникли особые обстоятельства, – сказал Месснер. – Вот, прибыли ноты.
– У нас боевой отряд, – оборвал его Альфредо. – А не консерватория. Приходи завтра в положенное время, и мы подумаем, разрешать музыку или нет.
Роксана Косс спросила Гэна, не ноты ли это, и, когда он ответил утвердительно, тут же бросилась к двери. Священник последовал за ней.
– Это от Мануэля?
– Он стоит с той стороны ограды, – сказал Месснер. – Все это он прислал специально для вас.
Отец Аргуэдас прижал к губам сложенные ладони. «Господь всемогущий и милосердный, мы всегда и везде шлем Тебе благодарения и молитвы».
– Вы оба, – приказал командир Альфредо, – вернитесь на место.
– Я оставлю это в холле у двери, – сказал Месснер и хотел было поставить коробку на пол. Просто удивительно, как много может весить музыка.
– Нет, – отрезал Альфредо. У него болела голова. Он уже устал до смерти от всех этих поблажек и заморочек. Должен же быть хоть какой-нибудь порядок, уважение к силе! Разве у него в руках нет оружия? Что, оружие уже ничего не значит? Если он сказал, что коробки не будет в доме, значит, ее в доме не будет. Командир Бенхамин что-то прошептал на ухо Альфредо, но тот упрямо повторил:
– Нет.
Роксана схватила Гэна за руку:
– Разве это не моя коробка? Скажите им!
Гэн спросил, принадлежит ли коробка сеньорите Косс.
– Здесь ничего не принадлежит сеньорите Косс! Она пленница, точно такая же, как вы все! Она здесь не у себя дома! Здесь нет специальной почтовой службы, которая работает только на нее! Она больше не получит ничего! – Тон командира заставил младших террористов вытянуться по стойке «смирно» и принять грозный вид, многие схватились за винтовки.
Месснер вздохнул и перехватил коробку поудобнее.
– Тогда я приду завтра, – сказал он по-английски, обращаясь к Роксане Косс, а Гэн перевел это командирам.
Но он не ушел. Не успел он повернуться, как Роксана Косс закрыла глаза и раскрыла рот. Задним числом было понятно, как это рискованно с ее стороны, учитывая настроение командира Альфредо, который мог расценить ее намерение как акт неповиновения, да и не слишком полезно для ее голоса. Ведь она не пела уже две недели, не спела ни одной гаммы. Роксана Косс, одетая в брюки миссис Иглесиас и белую рубашку самого вице-президента, стояла посреди огромной гостиной и пела арию Лауретты из «Джанни Скикки» Пуччини. За ее спиной должен был сидеть оркестр, но его отсутствия никто не заметил. Никто не мог бы утверждать, что с оркестром ее голос звучал бы лучше или что комнату по такому случаю следовало как следует убрать и уставить свечами. Никто не заметил также отсутствия цветов или шампанского. По существу, все теперь уже знали, что цветы и шампанское – ненужное украшательство. Неужели она действительно так долго не пела? Кажется, голос Роксаны Косс звучал так же прекрасно, как после разогрева. Глаза всех присутствующих затуманились от слез – на то существовало столько причин, что перечислить их все было невозможно. Люди восхищались прекрасной мелодией и скорбели по своим несбывшимся надеждам. Вспоминали, как Роксана Косс пела для них в прошлый раз и тосковали по женщинам, которые тогда были рядом. Вся любовь и желание, какие только может вместить человеческое существо, выплеснулись в двух с половиной минутах арии, и, когда Роксана Косс взяла самые высокие ноты, слушателям показалось, что их жизнь окончена и все понесенные ими потери вдруг вернулись к ним, и выдержать этот груз невозможно. Когда она замолчала, все стояли некоторое время потрясенные и безмолвные. Месснер прислонился к стене, как будто его ударили. Его не приглашали на прием к вице-президенту. В отличие от других он слышал пение Роксаны Косс впервые.
Сопрано глубоко вздохнула и повела плечами.
– Скажите им, – сказала она Гэну, – пусть знают. Или они дают мне коробку прямо сейчас, или никто из вас больше не услышит ни от меня, ни от пианиста ни одной ноты в течение всего этого дурацкого социального эксперимента.
– Вы серьезно? – спросил Гэн.
– Я никогда не блефую, – ответила она.
Гэн перевел ее заявление, и все глаза устремились на командира Альфредо. Тот усиленно тер переносицу, стараясь избавиться от головной боли – безрезультатно. Музыка потрясла его почти до потери рассудка. Ему уже ничего никому не хотелось доказывать. Он почему-то вспомнил свою сестру, которая умерла от скарлатины, когда он был еще маленьким. Все эти заложники так похожи на избалованных детей, которые вечно чего-то требуют и клянчат! Они понятия не имеют о том, что значит страдать. Командир сейчас был бы рад просто выйти из дома и встретить за стеной любую уготованную ему судьбу, будь то пожизненное заключение или пуля в голову. От недосыпа он был не в состоянии принимать решения. Любое умозаключение представлялось ему безумным. Альфредо развернулся и вышел из комнаты: он направился в кабинет вице-президента. Через некоторое время оттуда послышались неразборчивые голоса телевизионных дикторов, и командир Бенхамин велел Месснеру войти внутрь, а своим бойцам – тщательно обследовать содержимое коробки на предмет присутствия там чего-нибудь, кроме нот. Он пытался говорить уверено, как человек, полностью контролирующий ситуацию, однако уже и сам понимал, что это не так.
Парни забрали у Месснера коробку и вывалили ее содержимое на пол. Там были ноты, переплетенные и непереплетенные, сотни страниц, покрытых нотными знаками. Бойцы просеивали все это музыкальное богатство, перетряхивали его и перелистывали, как будто между партитур могли найтись деньги.
– Потрясающе, – сказал Месснер. – Только что тем же самым занималась полиция за стеной, и вот опять пожалуйста.
К мальчишкам подошел Като и опустился рядом с ними на колени. Он брал у них из рук каждый просмотренный лист и аккуратно складывал Россини к Россини, Верди к Верди, Шопена к Шопену. Иногда прерывался на минуту и читал какую-нибудь страницу, словно это было письмо из дома, и его голова при этом покачивалась в такт музыке. Когда господину Като попадалось что-то особо интересное, он с низким поклоном передавал это Роксане Косс. Он не просил Гэна переводить: все, что ей нужно было знать, находилось в партитурах.
– Мануэль шлет вам свои наилучшие пожелания, – сказал Месснер отцу Аргуэдасу. – Он сказал, что, если понадобится что-нибудь еще, он это для вас найдет.
Священник понимал, что впадает в грех гордыни, и все же наслаждался тем, что сыграл столь важную роль в доставке нот. Ему трудно было говорить – до того кружилась голова от голоса Роксаны Косс. Отец Аргуэдас пошел посмотреть, открыты ли окна. Он надеялся, что стоящему за стеной Мануэлю удалось хоть что-нибудь услышать, хотя бы одну ноту, хотя бы один пассаж. Благословен тот день, когда он оказался в этой тюрьме! Тайны Христовой любви никогда не были ему ближе – ни тогда, когда он служил мессу или причащался Святых Тайн, ни даже в тот день, когда он принимал сан. Он понял, что только сейчас перед ним приоткрывается тот истинный путь, по которому ему предстоит идти в жизни, слепо и безрассудно, как назначено судьбой. В приятии судьбы – вознаграждение, в смиренном предании своего сердца Богу – величие, не подвластное описанию. Как много мы подчас обретаем именно в те минуты, когда думаем, что все потеряно!
В тот день Роксана Косс больше не пела. Ее голос сделал достаточно, и теперь сопрано занимала себя тем, что, сидя у окна на кушетке вместе с господином Хосокавой, просматривала партитуры. Когда им нужно было что-то сказать друг другу, они звали Гэна, но удивительно – до чего же редко они прибегали к его услугам! Присутствие господина Хосокавы вселяло в нее спокойствие. Когда они общались без слов, ей казалось, что он во всем и полностью с ней согласен. Она напевала начало партитуры, чтобы он понял, что у нее в руках, а затем они вместе листали страницы. Господин Хосокава не умел читать ноты, но он с удовольствием их рассматривал. Он не понимал языка либретто, языка певицы, языка этой страны. Ему все легче было свыкаться со всем тем, что он потерял, со всем, чего не знал. Вместо этого он восторгался тем, что имел, – возможностью сидеть рядом с этой женщиной и смотреть, как она читает. Рука Роксаны Косс порой касалась его руки, когда певица клала ноты на кушетку между ними, и продолжала покоиться на руке господина Хосокавы, пока Роксана продолжала читать.
Через некоторое время к ним подошел Като. Он поклонился Роксане, потом господину Хосокаве.
– Вы не будете возражать, если я поиграю? – спросил он своего начальника.
– Это было бы замечательно, – ответил господин Хосокава.
– А госпожа Косс не будет возражать, это не помешает ее чтению?
Господин Хосокава жестом изобразил игру на рояле, а потом кивнул на Като.
– Да, – сказала Роксана и тоже кивнула. Потом протянула руку за нотами. Като подал ей ноты.
– Сати, – сказал он.
– Сати, – улыбнулась она и снова кивнула.
Като подошел к роялю и заиграл. Теперь он играл совсем не так, как в первый раз, когда окружающие никак не могли поверить, что такой талант находился среди них и никто о нем не знал. Это было совсем не похоже на пение Роксаны, когда сердца у всех, казалось, замерли и забились вновь лишь после того, как она замолчала. Сати – это всего лишь музыка. Ее красотой можно наслаждаться, не впадая в ступор. Пока Като играл, мужчины спокойно продолжали читать книги или смотреть в окно. Роксана продолжала перелистывать партитуры, но то и дело останавливалась и прикрывала глаза. Только господин Хосокава и священник в полной мере понимали важность этой музыки. Они ясно слышали каждую ноту. Музыка отмеряла сбежавшее от них время. В ней воплощалась их жизнь в эту самую секунду.
В доме находился еще один человек, отдававший должное этой музыке, но не из числа заложников. В прихожей стояла и, не отрываясь, глядела в угол гостиной Кармен, и она прекрасно все понимала, хоть и не могла выразить словами. Благодаря музыке в ее жизни наступила счастливейшая пора. Ребенком, лежа на своем соломенном тюфяке, она никогда не грезила о таких чудесах. В ее семье, оставшейся далеко за горами, никто не мог себе даже представить дома, построенного из кирпичей, со стеклами, вставленными в окна, дома, где никогда не бывает ни очень холодно, ни очень жарко. Она сама никогда бы не поверила, что на свете может существовать такой огромный ковер, похожий на цветущий луг, или такой потолок, сверкающий золотом, или женщины из белого мрамора, что стоят по обеим сторонам камина и держат на головах каминную плиту. Даже этого было бы достаточно – музыки, и картин, и сада, который она патрулировала с винтовкой в руках, – но здесь была еще еда, которую давали каждый день, так много еды, что часть даже пропадала, как они ни старались доесть все. Здесь были глубокие белые ванны и блестящие изогнутые краны, из которых бесконечным потоком лилась горячая вода. Здесь были стопки пушистых белых полотенец, подушек и шелковых одеял, и столько места в комнатах и коридорах, что можно просто затеряться в них, и никто тебя не найдет. Да, конечно, командиры добивались лучшей жизни для народа, но разве они сами не были народом? Так ли будет ужасно, если больше ничего не случится и они все вместе останутся в этом роскошном доме навсегда? Кармен молилась изо всех сил. Молилась, стоя рядом со священником, в надежде, что это придаст ее просьбам убедительности. Она молилась о том, чтобы ничего не произошло. Она молилась, чтобы Господь взглянул на них сверху и увидел, как прекрасно они устроились, и оставил бы их в покое.
Сегодня ночью Кармен дежурила. Ей пришлось долго ждать, пока все в огромной гостиной уснут. Некоторые читали с фонариками, другие ворочались и вздыхали. Заложники, как дети, никак не могли угомониться, постоянно вставали то за водой, то в туалет. Наконец все успокоились. Кармен осторожно прокралась мимо тел и подошла к Гэну. Он лежал на спине, на своем обычном месте рядом с софой, на которой спал его начальник. Очки он снял, но даже во сне придерживал их рукой. В красивых чертах его лица таилось волшебство знания. Она видела, как его глаза быстро бегают взад и вперед под нежной, тонкой кожей век, но тело было неподвижно. Гэн спал. Дышал он спокойно и размеренно. Если бы только можно было заглянуть в его голову! Может быть, она изнутри вся набита словами, аккуратно разложенными в специальные ящички – по языкам? В сравнении с ним ее собственные мозги – пустой чулан. Конечно, он может отвергнуть ее просьбу, ну что тут страшного? Она точно ничего не потеряет. Всего-то и надо, что попросить. Открыть рот и попросить – но при одной мысли об этом у нее ком вставал в горле. В просьбах она смыслила не больше, чем в нотной грамоте и классической живописи. Кармен затаила дыхание и вытянулась на полу рядом с Гэном – бесшумно, как лунный свет, что ложится на листья деревьев. Она повернулась на бок и приблизила губы к уху спящего. Она была не мастерица просить, но она была гением тишины. Когда они тренировались в лесах, Кармен пробегала милю, не поломав ни прутика. Без единого звука она умела подкрасться к человеку сзади и хлопнуть по плечу. За незаметность Кармен послали на приступ в первых рядах – отвинчивать крышки на вентиляционных люках. И действительно, никто ничего не заметил. Она помолилась святой Розе Лимской и попросила у нее мужества. После стольких молитв о тишине она молила святую помочь ей заговорить.
– Гэн! – прошептала она.
Гэну снилось, что он стоит на морском берегу в Греции и смотрит в воду. Вдруг кто-то за его спиной, в дюнах, произнес его имя.
Сердце ее билось в груди, как молот. Кровь шумела в ушах. Кармен прислушалась и уловила голос святой.
– Сейчас или никогда, – говорила ей святая Роза Лимская. – Я с тобой только в это мгновение.
– Гэн!
Голос за спиной начал удаляться, и Гэн послушался, последовал за ним прочь с пляжа и из сна. Каждый раз пробуждение в вице-президентском доме вызывало в нем мучительное недоумение. Где он? Что это за отель? И почему он лежит на полу? Гэн все вспомнил и открыл глаза, думая, что снова зачем-то понадобился господину Хосокаве. Взглянул на софу, но вдруг почувствовал на своем плече руку. Повернув голову, он увидел рядом с собой красивого мальчика. Ах нет, не мальчика! Кармен. Своим носом она едва не касалась его носа. Он вздрогнул от удивления, но не от испуга. Как странно, что она лежит на полу, – вот все, что он подумал в эту минуту.
Совсем недавно военные наконец прекратили шарить по дому прожекторами, и ночь снова стала похожа на ночь.
– Кармен? – спросил он. Вот бы Месснер увидел ее теперь, в лунном свете! Он был прав, лицо у нее формой напоминало сердце.
– Только тихо! – прошептала она ему в самое ухо. – Слушай!
Но куда подевались все слова? Хорошо, что она лежит. Сердце колотилось просто невыносимо. Видит ли он в темноте, что она вся трясется? Чувствует ли ее дрожь через деревянные половицы? Слышит ли, как ее одежда с шуршанием трется о кожу?
– Закрой глаза, – велела ей святая Роза. – Помолись.
И она сразу сумела глубоко вздохнуть.
– Научи меня читать, – произнесла она быстро. – Научи меня писать письма по-испански.
Гэн посмотрел на нее. Глаза ее были закрыты. Казалось, это он сам пришел и лег рядом с ней. Ресницы трепещут на ее щеках, густые и темные. Неужели она спит? И разговаривает во сне? Он подумал, что мог бы поцеловать ее, не двигаясь с места, но тут же выбросил эту мысль из головы.
– Ты хочешь читать по-испански? – повторил он таким же едва слышным шепотом.
«О небо, – подумала она. – Он тоже умеет быть неслышным. Он, как я, умеет разговаривать без звука». Она перевела дыхание и открыла глаза.
– И по-английски, – прошептала она. И улыбнулась. Она не могла удержать улыбку. Она сумела попросить обо всем, о чем хотела!
Бедная застенчивая Кармен, вечно прячущаяся за спины других! Кто знал, что она умеет улыбаться? Однако она умела, и при виде этой улыбки Гэну захотелось пообещать девушке все что угодно! Он еще не совсем проснулся. Или, точнее, не проснулся совсем. А что, если он желал ее, сам о том не подозревая? Так желал, что даже увидел во сне, как она лежит рядом? «Вещи, непостижимые для ума, – подумал Гэн. – Секреты, которые мы скрываем даже от самих себя».
– Да, конечно, – произнес он, – и по-английски.
От радости она сделалась отважной и беспечной. Она подняла руку и положила ему на глаза. Глаза закрылись. Ее рука была прохладной и сухой. И пахла металлом.
– Засыпай, – сказала она. – Засыпай.
Глава шестая
Годы спустя, вспоминая об этих событиях, заложники делили свое заключение на два периода: до коробки с нотами и после нее.
До коробки террористы полностью контролировали вице-президентский дом. Заложники, даже когда напрямую им никто не угрожал, постоянно размышляли о неизбежности собственной смерти. Даже допуская, что, если им очень повезет, никого из них не застрелят во сне, они ясно видели, что стоит на кону в этой игре. До или после освобождения каждый из них или все вместе они умрут. Разумеется, они всегда это знали, но теперь смерть подобралась к ним вплотную, по ночам садилась на грудь, впивалась в лицо своим ледяным голодным взглядом. Да, мир – очень опасное место, а разговоры о личной неприкосновенности – не более чем волшебные сказочки из тех, что детям рассказывают на ночь. Одно неосторожное движение – и тебе конец. Заложники размышляли о бессмысленной смерти первого аккомпаниатора. Да, они тосковали по нему – но как чудесно и легко нашлась ему замена. Они тосковали по своим детям, по своим женам. Конечно, заложники еще не умерли, они просто находились в этом доме, но какая разница? Смерть уже высасывала воздух у них из легких. Она вытянула из них все силы, все желания. Влиятельные бизнесмены сидели, вжавшись в кресла, возле окон и часами смотрели на дождь. Дипломаты листали глянцевые журналы, не замечая фотографий. Бывали дни, когда у них едва хватало сил переворачивать страницы.
Но после того как Месснер принес в дом ноты, все изменилось. Террористы все еще держали двери на замке и ходили с оружием, но теперь всеми командовала Роксана Косс. Она вставала в шесть часов утра, потому что в это время рассветало у нее за окном, а раз уж она вставала, она желала работать. Она принимала ванну, Кармен делала для нее чай и тосты и приносила ей в комнату на желтом деревянном подносе, специально для этого выданном вице-президентом. Теперь, когда Роксана знала, что Кармен девушка, а не юноша, она разрешала ей садиться на свою кровать и пить из своей чашки. Ей нравилось расчесывать волосы Кармен, черные и блестящие, как нефть. Иногда по утрам, когда настроение было особенно плохим, только эти волосы между пальцев придавали всему происходящему хоть какой-то смысл. Роксана утешалась фантазией о том, что ее захватили исключительно ради того, чтобы она ухаживала за прической юной особы. Она воображала себя моцартовской Сюзанной, а Кармен – графиней Розиной. Косы ложились вокруг головы девушки идеальными кольцами. Роксане и Кармен было нечего сказать друг другу. Когда Роксана заканчивала прическу, Кармен вставала у нее за спиной и начинала расчесывать ее волосы до тех пор, пока те не начинали сиять, а затем тоже заплетала их в косу. И в эти короткие минуты утреннего уединения они становились сестрами, подругами, равными. Им было хорошо вдвоем. Они и думать не думали о Беатрис, которая играла с мальчишками в кости на полу кухни.
В семь часов Като уже ждал Роксану возле рояля. Его пальцы беззвучно пробегали по клавишам туда и обратно. Роксана научилась говорить «доброе утро» – «Ohayo Gozaimasu» – по-японски, а Като выучил несколько фраз по-английски: «Доброе утро», «Спасибо», «До свидания». Этим лингвистические способности обоих исчерпывались, так что Роксана и Като желали друг другу доброго утра и в середине дня, и поздним вечером. Общались они, главным образом передавая друг дружке нотные листы. И хотя в их отношениях царила несомненная демократия, Като, который занимался разбором присланных Мануэлем нот, лежа на куче одеял, служивших ему ночным ложем, иногда специально выбирал произведения, которые, по его мнению, подходили к голосу Роксаны или которые он сам хотел услышать. Он чувствовал, что совершает неслыханную дерзость, но что с того? В жизни он был вице-президентом огромной корпорации, работал с цифрами – и вдруг его повысили до аккомпаниатора. Он больше не был собой. Он превратился в кого-то другого.
В четверть восьмого начинались гаммы. В первое утро люди в это время продолжали спать. Пьетро Дженовезе устроился под роялем, и, когда молоточки принялись ударять по струнам, ему пригрезилось, что звонят колокола собора Святого Петра. Но мало ли кто спит? Пора работать! Довольно рыдать на диване и пялиться в окно. Теперь у нее есть ноты и аккомпаниатор. Роксана Косс отважно попробовала голос на «Джанни Скикки» – и убедилась, что голос не пропал.
– Мы тут гнием заживо, – еще за день до начала репетиций сказала она господину Хосокаве с помощью Гэна. – Мы все. С меня достаточно. Если кому-нибудь приспичит меня пристрелить, придется стрелять в меня во время пения.