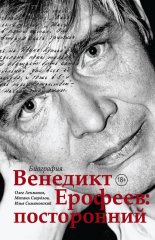Бельканто Пэтчетт Энн
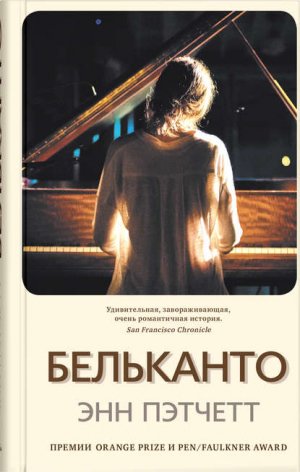
– Разумеется, он говорил с Бенхамином! – Тибо листал поваренную книгу, которую вытащил из высящейся перед ним стопки. Глядя на то, как стремительно его палец двигался по странице, можно было смело утверждать, что посол владеет навыками скорочтения. – Разговор прошел успешно, не правда ли? Эктор или Альфредо наверняка настояли бы на сырой курятине – чтобы закалить бойцов. Так что сказал вам добрый революционер?
– Что он пошлет нам в помощь девушек. Он категорически отверг Ишмаэля, но я не удивлюсь, если он тоже здесь появится. – Гэн достал из коробки морковку и ополоснул ее под краном в раковине.
– Мне бы они двинули винтовкой в лицо, – благодушно сказал вице-президент. – А вам они предоставили персонал.
– Как насчет чего-нибудь простенького вроде петуха в вине? – спросил Тибо.
– Все вино конфисковали, – возразил Рубен. – Конечно, мы могли бы еще раз послать Гэна на переговоры. Вино, скорее всего, спрятано где-то здесь, если, конечно, они его не выпили.
– Значит, придется выкручиваться без вина, – вздохнул Симон Тибо. Можно подумать, что вино – опасное оружие вроде ножа! Кошмар. В Париже можно вообще не думать о том, есть у тебя дома вино или нет: закончилось – вышел из дома, дошел до угла, и вот тебе какое хочешь вино в любых количествах. Как чудесно осенью выпить молодого бургундского в «Липпе»: нежные солнечные блики играют на латунных перилах, Эдит в своем свитере цвета морской волны, волосы зачесаны назад и скручены небрежным узлом, бледные пальцы сжимают бокал. Тибо видел все это словно наяву: солнце, свитер, темно-красное вино, белые пальцы. Когда Тибо послали в Центральную Африку, они взяли с собой столько вина, что город можно было залить. Из сырого грязного подвала Тибо постарался сделать настоящий винный погреб. Французское вино – краеугольный камень французской дипломатии. Он раздавал его как жевательную резинку. Гости у них на приемах засиживались допоздна, а потом топтались у ворот, тысячу раз произносили «спокойной ночи», но не уходили. В конце концов Эдит возвращалась в дом и выносила всем по бутылке вина. Совала их каждому в руки. Только после этого гости исчезали в темноте, разбредались по своим машинам, крепко сжимая полученные призы.
«Сие есть кровь моя, – говорил Тибо жене, поднимая стакан с вином, когда гости наконец уходили. – Лишь за тебя одну изливаемая». После этого они вдвоем возвращались в гостиную, подбирая по дороге скомканные салфетки и грязные тарелки. Как правило, прислугу они отправляли домой еще в начале вечера. Наступало время их особой близости, абсолютной любви. Они оставались вдвоем. Они вместе приводили в порядок свой дом.
– А там нет рецепта «петух без вина»? – спросил вице-президент, заглядывая в поваренную книгу. Все эти фолианты он видел впервые. Интересно, они принадлежат его семье или прилагались к дому?
Тибо поправил шарф Эдит на своем плече, пробормотал что-то про жарку и снова углубился в чтение. Но не успел он перелистнуть страницу, как на кухню явились трое: долговязая Беатрис, хорошенькая Кармен и Ишмаэль, и все с ножами – кто с двумя, кто с тремя.
– Это вы нас звали, да? – спросила Беатрис Гэна. – А я, между прочим, уже на сегодня отдежурила. Я телевизор хотела посмотреть.
Гэн взглянул на настенные часы.
– Твой сериал давно закончился, – сказал он, стараясь смотреть девушке прямо в глаза.
– Там еще есть всякие интересные передачи, – ответила она. – Там полно интересных передач. А тут они говорят: «Девушки должны помочь». Всегда так!
– Но меня тоже послали, хоть я и парень, – возразил Ишмаэль.
– Почти парень, – уточнила Беатрис.
Ишмаэль покраснел и повертел между ладонями деревянную рукоятку ножа.
– Командир сказал, чтобы мы помогли с обедом, – сказала Кармен. Она обращалась к вице-президенту. Она не встречалась глазами с Гэном, и Гэн на нее не глядел. Так почему же казалось, что они смотрят друг на друга не отрываясь?
– Мы весьма благодарны, – сказал Симон Тибо. – Мы совершенно не умеем обращаться с ножами. Едва нам доверят столь опасную вещь, как нож, начнется кровопролитие. Нет-нет, мы никого убивать не станем, я вас уверяю. Мы просто откромсаем себе пальцы и истечем кровью прямо здесь, на полу.
– Да бросьте, – сказал Ишмаэль и захихикал. Его совсем недавно, как и многих других мальчишек в доме, по-дилетантски постригли. Длинные кудри Ишмаэля обкорнали так, что где-то волосы лежали аккуратно, где-то топорщились, как молодая травка, а где-то и вовсе зияли проплешины, обнажая розовую, как у новорожденных мышат, кожу. Ему сказали, что так он будет выглядеть взрослее, но, по правде говоря, вид у него теперь был не взрослого, а больного.
– Кто-нибудь из вас умеет стряпать? – спросил Рубен.
– Немного, – пробормотала Кармен, судя по всему, очень озабоченная тем, как смотрятся ее ступни на черно-белом шахматном полу.
– Конечно, мы умеем стряпать! – вспылила Беатрис. – А кто, по-вашему, нам готовит?
– Ну, может быть, ваши родители, – сказал вице-президент.
– Мы взрослые! И сами о себе заботимся. У нас нет пап и мам, чтобы носились с нами, как с маленькими. – Беатрис злилась оттого, что ей не дали посмотреть телевизор. И вообще, на сегодня она уже выполнила все свои обязанности – обошла верхние этажи и два часа стояла на часах у окна. Она почистила и смазала винтовки командиров, а заодно и свою собственную. Нечестно посылать ее на кухню. По телевизору в это время как раз идет чудесная передача: девушка на высоких каблуках, в расшитой звездами курточке и пышной юбке поет ковбойские песни и пляшет.
Ишмаэль вздохнул и положил на стол три своих ножа. Его родители умерли. Однажды ночью какие-то люди увели отца из дома, и больше никто его не видел. Мать скончалась от обычной простуды около года тому назад. Ишмаэлю было почти пятнадцать, хотя его тело не спешило подтверждать этот факт. Но он уже не был ребенком, если считать ребенком того, у кого есть родители, которые приготовят ему ужин.
– Ну, значит, вы умеете обращаться с луком, – сказал Тибо, доставая из коробки луковицу.
– Получше вашего! – с вызовом ответила Беатрис.
– Тогда возьмите этот опасный нож и порежьте им несколько луковиц. – Тибо пододвинул к ним разделочные доски и миски. А почему, собственно, разделочные доски не причислили к оружию? Если такую доску крепко схватить обеими руками, можно отлично ухнуть кого-нибудь по затылку. А миски чем не оружие – тяжелые керамические миски, выкрашенные в нежно-голубой цвет? Они выглядят безобидными, пока в них лежат бананы, но если их разбить, чем они будут хуже ножей? Разве нельзя загнать человеку в грудь керамический осколок? Тибо попросил Кармен мелко порубить чеснок и нарезать ломтиками сладкие перцы. Ишмаэлю он протянул баклажан: – Очисти и порежь на кусочки.
Ишмаэлю достался тяжелый и длинный нож. Интересно, кто из юных террористов забрал овощные ножи? Кто счел их достойными орудиями самообороны? Пытаясь снять кожуру с баклажана, Ишмаэль загонял лезвие глубоко в желтую губчатую мякоть. Некоторое время Тибо за ним наблюдал, потом остановил.
– Не так, – сказал он. – Так для еды ничего не останется. Давай покажу, как надо.
Ишмаэль взглянул на свою работу, затем протянул и нож, и полуочищенный овощ Тибо, причем нож – лезвием вперед. В кухонном этикете мальчик явно был не силен. Тибо взял в одну руку нож, в другую баклажан и принялся быстро и ловко снимать кожуру.
– Брось сейчас же! – завопила Беатрис, отбросив свой собственный, скользкий от лука нож. Кусочки уже порезанного лука рассыпались по полу, как тяжелый мокрый снег. Девушка выхватила из-за пояса пистолет и направила его на посла.
– Господи! – только и смог сказать Рубен.
Тибо не понял, что такого он сделал. Он было подумал, что она обозлилась на то, что он поучает Ишмаэля. Решив, что все дело в баклажане, Тибо положил на стол сначала его, а потом уже нож.
– Не ори! – сказала Кармен Беатрис на кечуа. – А то у нас у всех будут проблемы.
– Он взял нож!
Тибо поднял вверх руки, показал девушке свои пустые ладони.
– Это я дал ему нож! – вмешался Ишмаэль. – Я сам дал!
– Он собирался только очистить баклажан. – Гэн тоже решил вмешаться в разговор. Он не понимал языка, на котором говорили девушки с Ишмаэлем.
– Ему нельзя брать в руки нож! – взвизгнула Беатрис по-испански. – Так велел командир. Вы его что, вообще не слушали? – Пистолета она не опускала, и грозно насупила густые брови. Глаза у Беатрис защипало от лука, и по щекам потекли слезы, совершенно неверно истолкованные присутствующими.
– А как насчет такого предложения? – мягко начал Тибо, не опуская рук. – Все отойдут, и я покажу Ишмаэлю, как правильно чистить баклажан. Ты будешь держать меня на мушке и, если я сделаю что-нибудь не так, можешь меня застрелить. Можешь и Гэна заодно застрелить, если я сделаю что-нибудь ужасное.
Кармен отложила свой нож.
– Не думаю… – начал Гэн, но на него никто не обращал внимания. В груди у переводчика словно застряла вишневая косточка – твердая и холодная. Ему не хотелось быть застреленным и тем более не хотелось, чтобы кто-то великодушно предлагал его застрелить.
– Что значит, я могу тебя застрелить? – еще сильнее разошлась Беатрис. Какой-то заложник будет давать ей разрешение! Да и вообще она не собиралась ни в кого стрелять.
– Так и сделаем! – заявил Ишмаэль, вытаскивая свой собственный пистолет и направляя его на посла. Он пытался удерживать на лице серьезное выражение, но получалось плохо. – Я тоже тебя застрелю, если на то пошло. Показывай мне сейчас же, как чистить баклажан! Я убивал людей и по меньшим поводам, чем баклажан!
«Беренхена» – так это слово звучало по-испански. Красивое слово. Похоже на женское имя.
Тибо снова взял в руки нож и снова принялся за работу. Для человека, вынужденного чистить баклажан под прицелом двух винтовок, он держался на удивление спокойно. Кармен не вмешивалась. Она снова начала измельчать чеснок, громко и сердито стуча по доске ножом. Тибо не поднимал глаз от блестящей кожуры.
– Трудно действовать таким большим ножом. Резать надо совсем неглубоко. Представь, что ты чистишь рыбу. Очень нежную. Вообще, это очень деликатная работа.
Кожура красиво сползала на пол завитыми ленточками, и от этого зрелища на душе становилось как-то спокойнее.
– Ладно, – сказал Ишмаэль. – Я понял. Отдавай нож обратно. – Он спрятал пистолет. Тибо взял нож за лезвие и протянул его мальчишке. Вместе с ножом он передал Ишмаэлю еще один баклажан. Что скажет Эдит, если услышит, что его убили за баклажан или за включенный телевизор? Если уж ему суждено здесь умереть, надо постараться сделать это хоть сколько-нибудь достойным образом.
– Ну что же, – сказал Рубен, вытирая лицо кухонным полотенцем, – в умении делать из мухи слона нам не откажешь.
Беатрис вытерла слезы рукавом своей защитной рубашки.
– Это лук, – пояснила она, засовывая свой только что смазанный пистолет обратно за пояс.
– Я с огромным удовольствием порежу его за тебя, если ты сочтешь меня достойным такой работы, – сказал Тибо и отправился мыть руки.
Гэн стоял возле раковины и раздумывал, как лучше сформулировать свой вопрос. Как он ни прикидывал, выходило как-то невежливо. Он обратился к Тибо шепотом и по-французски:
– Почему вы сказали, что она может меня застрелить?
– Потому что вас они никогда не застрелят. Вы им всем слишком нравитесь. Я не подвергал вас никакой опасности, просто хотел обставить все посерьезнее. А вот говорить ей, что она может застрелить меня – это и вправду было рискованно. Я для них пустое место, а вы – целый мир. То же самое, если бы я сказал, что они могут застрелить беднягу Рубена. Эта девчонка вполне могла бы в него пальнуть.
– И все-таки… – сказал Гэн. Он очень хотел выказать твердость, но чувствовал, что ему это не удается. Иногда он казался себе самым слабым из заложников.
– Я слышал, вы отдали ей свои часы.
– Кто вам сказал?
– Все уже в курсе. Она хвастается ими при всяком удобном случае. Ну разве она застрелит человека, который подарил ей свои часы?
– Ну, этого никому не дано знать.
Тибо вытер руки и беззаботно обнял Гэна за плечи.
– Я бы никогда не позволил им вас убить – вы мне как брат! Вот что, Гэн, я приглашаю вас к нам в гости в Париж, когда все это закончится. В ту же секунду, как это закончится, я покидаю свой пост и вместе с Эдит возвращаюсь домой. Когда вам захочется путешествовать, возьмите с собой господина Хосокаву и Роксану и приезжайте. Вы можете жениться на одной из моих дочерей, если хотите. Тогда вы станете скорее моим сыном, а не братом. – Он наклонился и прошептал в самое ухо Гэна: – И тогда мы над всем этим здорово посмеемся.
Гэн невольно вдохнул воздух из легких Тибо, и попытался вобрать в себя толику его мужества, его беспечности. Он попробовал уверить себя, что когда-нибудь все закончится и они приедут в Париж в гости к послу, но не смог себе этого представить. Тибо поцеловал Гэна в левый висок и отправился искать большую сковороду.
– Вы говорили по-французски, – укорил Гэна Рубен. – Как грубо с вашей стороны!
– Что может быть грубого во французском языке?
– Да то, что здесь все говорят по-испански! Я уже забыл, когда последний раз находился в помещении, где все общаются на одном языке, а вы берете и переходите на язык, который я провалил в университете. – Это была правда: когда на кухне говорили по-испански, переводчик не требовался никому. Никто не маялся, глядя в потолок, пока остальные ждали, чтобы им расшифровали непонятные слова. Никто не терзался подозрением, что о нем говорят какие-то гадости. Из шести человек, находящихся на кухне, испанский был родным языком только для Рубена. Гэн говорил по-японски, Тибо – по-французски, а трое с ножами в детстве, в родной деревне, изъяснялись на кечуа, а потом освоили смесь кечуа и испанского, что помогало им в той или иной степени понимать настоящий испанский.
– Идите отдыхайте, – сказал Ишмаэль переводчику. С ножа у него свисала, покачиваясь, ленточка кожуры. – Незачем вам тут торчать.
Услышав это, Кармен, которая до этого момента не отрывала глаз от чеснока, подняла голову. Отвага, обретенная ею в прошлую ночь, с утра ее покинула, и сил у нее хватало лишь на то, чтобы избегать Гэна. Но при этом она вовсе не хотела, чтобы Гэн ушел. Ей хотелось верить, что ее послали на кухню не зря. Она молилась святой Розе Лимской, чтобы робость, которая навалилась на нее, как непроглядный туман, покинула ее столь же внезапно, как и пришла.
Гэну тоже явно не хотелось уходить.
– Я могу не только переводить, – сказал он. – Я могу, например, мыть овощи. И если что-то понадобится размешать, тоже справлюсь.
Вернулся Тибо с двумя огромными металлическими сковородками в руках и разом грохнул их на плиту. Каждая сковорода закрывала собой три горелки.
– Кто это тут говорит об уходе? Неужели Гэн помышляет о том, чтобы нас покинуть?
– Я помышляю о том, чтобы здесь остаться.
– Отсюда никто не уйдет! Обед для пятидесяти восьми человек – это вам не шутка! Чем больше рук, тем лучше, даже если эти руки принадлежат весьма достойному переводчику. На что они рассчитывают? Нам теперь заниматься этим каждый вечер, а я – начальник пищеблока? Лук уже порезан? Могу я вас спросить о состоянии лука или вы снова начнете мне угрожать?
Беатрис направила свой нож на Тибо. Все ее лицо было залито слезами.
– Я бы могла вас преспокойно застрелить, но ведь не застрелила же? Так что скажите спасибо. Нарезала я ваш идиотский лук. Мы закончили?
– По-вашему, это похоже на законченный обед? – спросил Тибо, наливая на сковородки масло и поджигая под ними конфорки. – Идите вымойте кур. Гэн, давайте сюда лук. Мы его обжарим.
– Почему это он хочет готовить мой лук? – вскричала Беатрис. – Это мой лук! И не буду я мыть кур – для этого нож не нужен! Меня сюда послали только работать с ножом!
– Я ее убью! – пробурчал Тибо по-французски. Гэн взял миску с луком и прижал к груди. Любой момент можно счесть подходящим и любой неподходящим в зависимости от того, как на это посмотреть. Они могут стоять здесь часами, в шести квадратиках кафельной плитки друг от друга, и не сказать друг другу ни слова – или кто-нибудь из них решится и заговорит. Гэн надеялся, что это будет Кармен. Но на то, что их освободят, Гэн тоже надеялся – и что-то надежды его не спешили претворяться в жизнь. Гэн передал лук Тибо. Тот высыпал его на сковородки, и лук начал шипеть и плеваться не хуже Беатрис. Собрав остатки храбрости, Гэн подошел к комоду рядом с висевшим на стене телефоном (провод был оборван). В ящиках он нашел несколько листочков бумаги и карандаш. Он написал слова «cuchillo», «ajo», «chica», каждое на отдельном листке, и передал их Кармен. Тибо в это время скандалил с Беатрис по поводу того, кому мешать лук. Он подумал обо всех языках, которые знал, обо всех городах, где побывал, обо всех важных переговорах, которые переводил. То, на что ему сейчас надо было решиться, было сущим пустяком, однако у него дрожали руки.
– Нож, – сказал он и положил первый листок со словом на стол. – Чеснок. – Следующий листок он положил на головку чеснока. – Девушка. – Последний листок он передал Кармен. Посмотрев на бумажку, она спрятала ее в карман. Потом кивнула и тихо что-то пробормотала, что-то похожее на «ах».
Гэн вздохнул. Стало чуть-чуть легче, но только чуть-чуть.
– Вы хотите учиться?
Кармен снова кивнула, неотрывно глядя на ручку комода. Она пыталась увидеть на ней святую Розу Лимскую, крошечную женщину в голубом одеянии, примостившуюся на изогнутой металлической скобе. Она старалась вернуть себе голос с помощью молитвы. Она подумала о Роксане Косс, чьи руки заплетали ей косу. Может быть, хоть это вернет ей храбрость?
– Не думаю, что из меня получится хороший педагог. Я пытаюсь учить господина Хосокаву испанскому языку. Он записывает слова в записную книжку и учит их наизусть. Может быть, нам с вами тоже так попробовать?
Помолчав с минуту, Кармен издала тот же звук, что и раньше: негромкое «ах!», из которого нельзя было понять ничего, кроме того, что девушка его услышала. Да что же она за идиотка такая?
Гэн огляделся кругом. Ишмаэль за ними наблюдал, но, по всей видимости, ничего подозрительного не замечал.
– Баклажан выше всяческих похвал! – воскликнул Рубен. – Тибо, взгляните, какой баклажан! Все кусочки одинакового размера!
– Я забыл вытащить семена, – признался Ишмаэль.
– Не страшно, – утешил Рубен. – Семена так же пойдут в дело, как и все остальное.
– Гэн, будете помогать обжаривать лук? – спросил Тибо.
– Одну минутку, – сказал Гэн и прошептал Кармен: – Вы не передумали? Вы по-прежнему хотите, чтобы я вам помогал?
И тут Кармен показалось, что святая со всей силы стукнула ее между лопаток, и слово, которое будто стояло поперек ее горла, вдруг вылетело из него, как застрявшая кость.
– Да! – сказала она, тяжело дыша. – Да!
– Значит, будем заниматься?
– Каждый день! – Кармен подобрала «нож» и «чеснок» и положила их в карман вместе с «девушкой». – Я когда-то учила буквы. Только давно не повторяла. Раньше я писала прописи каждый день, а потом мы начали готовиться вот к этому.
Гэн представил себе ее в горах, где всегда холодно по ночам, как она сидит у огня с раскрасневшимся от тепла и усердия лицом, прядь темных волос падает ей прямо на глаза – как теперь. У нее в руках дешевый блокнот и огрызок карандаша. Мысленно он встал рядом с ней, начал хвалить ровные линии ее «T» и «H», изысканный изгиб ее «Q». С улицы он мог слышать щебетание птиц, которые возвращались в гнезда перед наступлением темноты. Когда-то он принимал ее за мальчишку, и это воспоминание повергло его в ужас.
– Мы заново пройдем все буквы, – сказал он. – С этого и начнем.
– Что, я одна тут работаю? – прокричала Беатрис.
– Когда? – одними губами спросила Кармен.
– Сегодня ночью, – тоже губами ответил Гэн. И тут им овладело совершенно невероятное, невозможное желание. Он захотел сжать ее в объятиях. Поцеловать ее в волосы. Прикоснуться кончиками пальцев к ее губам. Прошептать ей на ухо слова по-японски. Кто знает, будь у них время, он мог бы начать учить ее и японскому языку.
– Сегодня ночью в кладовке с фарфоровой посудой, – сказала она. – Давай начнем сегодня ночью.
Глава седьмая
Священник был прав относительно погоды, хотя перелом наступил несколько позже, чем он предсказывал. К середине ноября гаруа прекратился. Его не унесло ветром. Он не сошел на нет постепенно. Он просто взял и кончился: мир, еще вчера мокрый и размытый, точно книга, которую уронили в ванну, вдруг моментально просох и заиграл светом и невероятными красками. Господину Хосокаве это напомнило сезон цветения вишни в Киото, а Роксане Косс – октябрь на озере Мичиган. Ранним утром, еще до начала репетиции, они стояли вместе у окна. Он указал ей на пару ярких, как хризантемы, желтых птичек, сидящих на веточке дотоле невидимого для них дерева. Немного поклевав мягкую кору, они улетели – одна, а за ней и другая скрылись за стеной. Один за другим все заложники, а потом и их тюремщики тоже подходили к окнам, смотрели, щурились от солнца и смотрели снова. Столько людей прижималось к стеклам ладонями и носами, что вице-президент Иглесиас вынужден был достать тряпку и бутылку с чистящим средством и протереть все стекла.
– Только посмотрите на сад, – сказал он, не обращаясь ни к кому в особенности, – сорняки так вымахали, что закрывают цветы.
Можно было ожидать, что при таком количестве влаги и полном отсутствии солнца рост растений замедлится, но получилось наоборот. Сорняки вокруг как будто почувствовали близкое дыхание джунглей и с жадностью тянули листья к небу, а корни – вглубь земли, пытаясь вернуть вице-президентский сад в первозданное состояние. Они впитывали каждую каплю влаги. Они бы выпили еще один гаруа. Если предоставить их самим себе, они задушат в своих объятиях весь дом и разрушат стену. Ведь и сад этот когда-то был частью густого леса, чьи лианы тянулись до самого океанского побережья. От полного удушения растительностью дом спасал лишь садовник, который выдергивал и сжигал все, что считал недостойным жить. Но садовник сейчас находился в бессрочном отпуске.
Солнце взошло около часа тому назад – и за это время некоторые растения успели вымахать на полсантиметра.
– Надо что-то делать с садом, – вздохнул Рубен, хоть он и понятия не имел, как при всех своих домашних хлопотах выкроит время еще и на сад. Да и вряд ли ему позволят выйти за дверь. И уж тем более взять в руки секатор, лопату и нож для обрезки ветвей. Все, что хранилось в садовом сарае, наверняка представлялось террористам смертельным оружием.
Отец Аргуэдас открыл окна в гостиной и возблагодарил Бога за солнечный свет и свежесть воздуха. Даже внутри дома, в глубине сада и за стеной, он теперь куда лучше различал уличные шумы, не заглушаемые более дождем. Из-за стены больше ничего не выкрикивали, однако священнику казалось, что там по-прежнему стоит толпа людей, штатских и военных. Он подозревал, что либо у них нет вообще никакого плана действий, либо они разработали план столь хитроумный и сложный, что заложникам в нем не осталось места. Командир Бенхамин продолжал вырезать из газет все упоминания о захвате, а заложники как-то услышали по телевизору обрывок разговора о том, что к дому роют туннель, что скоро полиция ворвется через него в дом, и кризис разрешится почти так же, как начался: в комнаты непонятно откуда вломятся незнакомцы и изменят их жизнь. Но никто в это не поверил. Слишком неправдоподобно это звучало, слишком походило на сюжет шпионского кино. Отец Аргуэдас посмотрел на свои ноги – его дешевые черные башмаки топтали дорогой ковер – и попытался представить себе, что делается внизу, под землей. Он молился за благополучное освобождение, за благополучное освобождение всех и каждого в отдельности, но он не молился о том, чтобы их спасали через туннель. Он вообще не молился ни о какой спасательной операции. Он просил только Божьего соизволения, его любви и покровительства. Отец Аргуэдас попытался очистить свое сердце от самолюбивых мыслей и наполнить его благодарностью за все, что Господь им даровал. Взять, к примеру, мессу. В прошлой жизни (так он называл ее теперь) ему разрешалось служить мессу, только когда другие священники были в отпуске или больны, и это была шестичасовая месса или месса по вторникам. Чаще всего в церкви он занимался тем же, чем занимался до рукоположения: в дальнем приделе церкви раздавал гостию, которую не он благословлял, зажигал свечи, гасил свечи. А здесь, после долгих прений, командиры разрешили Месснеру принести все необходимое для причастия, и в прошлое воскресенье в столовой отец Аргуэдас отслужил мессу для своих друзей. Пришли даже те, кто не был католиком, и даже те, кто не понимал ни единого его слова, преклонили колени. Люди гораздо более склонны к молитве, когда им нужно попросить о чем-то особенном. Юные террористы закрыли глаза и уткнули подбородки в грудь, командиры встали у дальней стены комнаты. А ведь они могли повести себя совсем иначе. В наши дни столько террористических организаций спят и видят, как бы уничтожить все религии на свете, особенно католицизм. Будь они захвачены «Истинной властью», а не более вменяемой «Семьей Мартина Суареса», им бы точно не разрешили молиться. Боевики «Истинной власти» каждый день выводили бы по одному заложнику на крышу, на обозрение прессы, и стреляли бы ему в голову с целью ускорить переговоры. Отец Аргуэдас размышлял обо всем этом, лежа ночью на ковре в гостиной. Им очень повезло, просто необыкновенно. По-другому нельзя расценить то, что с ними произошло. Разве в некотором глубочайшем смысле слова они не свободны, раз им дана свобода молиться? Во время той мессы Роксана Косс так потрясающе пела «Аве, Мария» – вряд ли (отец Аргуэдас, конечно, не собирался ни с кем состязаться) что-либо подобное слышали когда-нибудь в церкви, даже в самом Риме. Ее голос звучал так легко и чисто, что казалось, потолок раскрывается и их мольбы возносятся прямиком к Богу. Голос касался их, будто крылья огромной птицы, и даже те католики, которые давно уже не исполняли обрядов, и даже некатолики, которые пришли просто потому, что больше нечего было делать, и даже те, кто понятия не имел, что священник говорит, и даже окаменевшие сердцем атеисты, которым плевать было, что говорит священник, – всех охватило умиление и успокоение. В их сердцах как будто затрепетала вера. Священник смотрел на желтовато-белую оштукатуренную стену, надежно защищавшую их от внешнего мира. Футов десять высотой, кое-где покрытая плющом, – красивая стена, в древности такая же, наверное, окружала Масличную гору. Да, поначалу это было неочевидно, но сейчас Аргуэдас понимал, каким благословением может стать стена.
Сегодня утром Роксана пела Россини – в полной гармонии с природой. «Жестокую красавицу» она исполнила семь раз. Роксана Косс явно пыталась довести ее до совершенства, выявить в ней нечто такое, что было запрятано в самом сердце партитуры и никак ей не давалось. С Като она общалась по-особому. Указывала на нотную строчку. Он ее играл. Она отстукивала ритм по крышке рояля. Он снова играл то же самое место. Она пела отрывок без аккомпанемента. Он играл его без ее пения. Она пела вместе с ним. Так они повторяли друг за другом, забыв себя, думая лишь о музыке. Она закрывала глаза, когда он касался клавиш, и слегка кивала головой в знак одобрения. Он так легко справлялся с любой партитурой. Совсем не рисовался. Его исполнение было легким, ненавязчивым, идеально оттеняющим ее голос. Для Роксаны Косс Като играл совсем не так, как для себя. Като-аккомпаниатор играл как человек, который старается не разбудить соседей.
Роксана держалась так прямо, что все совершенно забывали про ее маленький рост. Она опиралась рукой на рояль, потом складывала ладони перед грудью. Потом начинала петь. Некоторое время назад она последовала примеру японцев и сняла обувь. Господин Хосокава очень долго крепился, не желая нарушать обычаев чужой страны, но время шло, и через неделю он почувствовал, что больше этого безобразия не вынесет. Носить обувь в доме – варварство. Носить обувь в доме почти так же оскорбительно, как оказаться в заложниках. Его примеру последовали Гэн, Като, господин Ямамото, господин Аои, господин Огава, а потом и Роксана. Теперь она бродила по дому в спортивных носках, одолженных, как и многое другое, у вице-президента, ноги которого были немногим больше ее собственных. И пела она тоже в носках. Когда она чувствовала, что нашла наконец нужные звуки и все у нее получается, она доводила дело до конца без малейших колебаний. Ее пение не становилось лучше – это было попросту невозможно, – но что-то неуловимо менялось в том, как Роксана Косс осмысляла музыку. Теперь своим пением она будто спасала жизнь присутствующих в комнате заложников. Легкий ветерок шевелил занавески на окнах, но люди стояли не шелохнувшись. С улицы тоже не доносилось ни звука. Не чирикали даже желтые птички.
В то утро, когда кончился дождь, Гэн дождался последней ноты и подошел к Кармен. Этот момент был самым подходящим, чтобы незаметно поговорить, поскольку после пения Роксаны все некоторое время находились в состоянии прострации. Взбреди кому-нибудь из заложников в голову просто открыть дверь и выйти на улицу, никто бы его не остановил. Но о бегстве никто и не помышлял. Когда господин Хосокава отправился за водой для Роксаны, та последовала на кухню за ним. Держа его под руку.
– Она в него влюблена, – прошептала Кармен Гэну. Поначалу он ее не совсем понял, расслышал только слово «влюблена». Потом одумался и воспроизвел в памяти все предложение целиком. Это было нетрудно. У Гэна в голове как будто был встроен магнитофон.
– Госпожа Косс? Влюблена в господина Хосокаву? Кармен кивнула, совсем незаметно, но он уже научился понимать ее движения. Влюблена?
Сам Гэн замечал – точнее, изо всех сил старался не замечать, – что это скорей господин Хосокава влюблен в Роксану. Ему и в голову не приходило, что все может быть наоборот, и молодой человек спросил Кармен, почему она так решила.
– По всему, – прошептала Кармен. – По тому, как она на него смотрит, как она к нему льнет. Она всегда сидит рядом с ним, хотя они даже поговорить не могут. Он такой спокойный! Немудрено, что ей хочется быть с ним.
– Она тебе что-нибудь говорила?
– Может быть, – улыбнулась Кармен. – Иногда по утрам она со мной о чем-то разговаривает, но я не понимаю о чем.
Ну да, разумеется, подумал Гэн. Он смотрел, как они направляются на кухню, его работодатель и певица.
– Я бы сказал, что здесь все в нее влюблены. Как же ей выбрать?
– И ты в нее влюблен? – спросила Кармен. Их взгляды встретились – еще неделю назад такое было бы невозможно. Первым отвел глаза Гэн.
– Нет, – ответил он. – Я нет. – Гэн был влюблен в Кармен. Он встречался с ней каждую ночь в посудной кладовке и учил ее читать и писать по-испански, но о своих чувствах молчал. Говорили они о гласных и согласных. О дифтонгах и притяжательных местоимениях. Она записывала буквы в тетрадку. Сколько бы ни давал он ей слов для запоминания, она просила еще больше. Она готова была сидеть с ним всю ночь напролет, повторять, делать упражнения, отвечать на вопросы. А он чувствовал, будто всю жизнь провел в какой-то дреме, не просыпаясь, но и не засыпая по-настоящему. Временами он задавался вопросом, что это – настоящая любовь или просто следствие нервного перенапряжения. Мысли его путались. Он откидывался на спинку кресла и засыпал, но во сне тоже видел Кармен. Да, она простая темная девушка. Да, она террористка из джунглей. Но умом она не уступает девушкам, которых он встречал в университете. Это видно по тому, как она схватывает все на лету. Ее нужно лишь чуть-чуть направить. Кармен поглощала информацию, как огонь поглощает сухой хворост, и просила все больше и больше. Каждую ночь она снимала с плеча винтовку и клала ее на буфет рядом с соусником. Она садилась на пол, пристраивала тетрадку на коленях и вынимала остро оточенный карандаш. Нет, девушкам из университета не сравниться с Кармен. Никому не сравниться с Кармен. Если бы раньше Гэну сказали, что его возлюбленная будет не из Токио, не из Парижа, не из Нью-Йорка и не из Афин, он бы от души посмеялся. И вот оказалось, что его возлюбленная одевается как мальчик, живет в маленькой деревушке в джунглях, название которой ему знать не полагается, и даже если бы он его узнал, все равно вряд ли смог бы эту деревушку отыскать. Его возлюбленная по ночам кладет винтовку возле соусника, чтобы он мог учить ее читать. Она вошла в его жизнь через вентиляционную трубу, а каким способом она его покинет – этот вопрос не давал Гэну уснуть в редкие часы отдыха.
– Господин Хосокава и сеньорита Косс, – продолжала Кармен. – Могли бы влюбиться в кого угодно, но влюбились друг в друга. Чудеса!
– Не забывай о госпоже Хосокаве, – ответил Гэн. Он плохо знал жену своего босса, хотя и видел ее часто. Она была женщиной, исполненной глубокого достоинства, с прохладными руками и спокойным голосом и всегда называла Гэна «господин Ватанабе».
– Господин Хосокава живет в Японии, – сказала Кармен, отвернувшись к двери. – За миллион километров отсюда. Кроме того, домой он не поедет. Конечно, госпожу Хосокаву жалко, но не оставаться же господину Хосокаве одному!
– Что ты имеешь в виду: «домой он не поедет»?
По губам Кармен скользнула тень улыбки. Она чуть откинула голову, так что Гэн наконец разглядел под козырьком ее лицо.
– Мы теперь живем здесь.
– Но ведь не навсегда?
– Наверное, – почти беззвучно ответила Кармен. И тут же испугалась, не сболтнула ли чего лишнего. Она знала, что должна хранить абсолютную верность командирам, но разговаривать с Гэном – совсем не то же самое, что с другими заложниками. Гэн наверняка никому не выдаст секрет, у них все под секретом – и посудная кладовка, и чтение. Кармен верила ему как себе. Она легонько ущипнула его за руку и пошла прочь. Прежде чем за ней последовать, он выждал минуту. Кармен шла совершенно беззвучно, двигалась осторожно и плавно. Никто не замечал, как она проходила мимо. Она вошла в маленькую ванную комнату рядом с холлом. Замечательное розовое мыло в доме уже давно кончилось, полотенца были грязными, но золотой лебедь по-прежнему восседал над раковиной, и, если повернуть кран в форме крыла, из его клюва все так же лилась прозрачная вода. Кармен сняла кепку и умыла лицо. Потом попыталась причесаться, запустив пятерню в волосы. Ее лицо в зеркале казалось слишком грубым, слишком смуглым. Дома некоторые называли ее красавицей, но теперь она видела настоящую красоту – для нее недостижимую. Иногда, когда утром она приносила Роксане завтрак, певица еще спала, и Кармен ставила поднос на тумбочку и слегка касалась ее плеча. Тогда Роксана Косс открывала свои огромные светлые глаза, улыбалась, откидывала одеяло и делала знак Кармен лечь рядом с ней, на теплые вышитые простыни. Кармен забиралась в постель, но так, чтобы ноги в грязных башмаках свешивались с краю. Потом они с Роксаной Косс закрывали глаза и еще несколько минут предавались дреме. Роксана заботливо укутывала Кармен по самую шею. Девушка проваливалась в сон и видела своих сестер и мать. Всего несколько минут сна – а они уже тут как тут, все пришли к ней в гости! Они все тоже хотели понежиться в мягкой и удобной постели, полежать рядом с такой потрясающей, невообразимой женщиной. Золотистые волосы, голубые глаза, кожа – будто кто-то пытался перекрасить белую розу в розовый. Возможно ли не влюбиться в Роксану Косс?
– Гэн! – позвал Виктор Федоров, едва тот схватился за ручку двери в ванную. – Я вас обыскался! Как вы ухитряетесь прятаться в доме, где вообще деваться некуда?
– Я не думал…
– Ее голос сегодня – как вы находите? Само совершенство!
Гэн согласился.
– В общем, пора с ней поговорить.
– Прямо сейчас?
– Я понял, что момент настал.
– Но ведь я вас спрашивал об этом на этой неделе каждый день!
– Ну и что? Тогда я не был готов, что правда, то правда, но сегодня утром, когда она снова и снова пела Россини, я понял: она меня поймет, даже если я буду нести полный бред. Она женщина добрая. Сегодня я в этом убедился. – Федоров постоянно потирал свои громадные руки, будто мыл их под невидимой струей воды. Голос его был спокойным, но в глазах мелькал страх, и даже от его кожи исходил какой-то перепуганный запах.
– Для меня сейчас не совсем подходящий момент…
– Зато для меня подходящий! – рявкнул Федоров и тихо добавил: – У меня уже нервы не выдерживают.
Федоров сбрил с лица густую растительность – процесс болезненный и трудоемкий из-за прискорбного качества имеющихся в доме бритв, – и явил миру мясистые розовые щеки. Он попросил вице-президента постирать и погладить его одежду и, пока штаны и рубашка крутились в стиральной машине, стоял рядом, обмотавшись полотенцем и дрожа от холода. Он принял ванну и выстриг волосы из носа и ушей маникюрными ножницами, которые ненадолго выпросил у Хильберто, предложив парню взятку в размере пачки сигарет. Заодно остриг ногти и даже попытался как-то привести в порядок прическу, но такая задача маникюрным ножницам оказалась не под силу. Федоров сделал все, что мог. Больше ждать было невозможно.
Гэн кивнул в сторону ванной комнаты:
– Я только собирался…
Федоров огляделся, а потом взял Гэна под руку и едва ли не втолкнул его в ванную.
– Ну разумеется! Разумеется! Столько я еще могу потерпеть. Сколько вам будет угодно! Делайте, что вам надо! Я подожду вас тут. Чтобы быть уверенным, что буду первым в очереди к переводчику. – На рубашке у Федорова проступали темные пятна пота, дополняя живописную композицию из более давних, уже выцветших пятен. Гэн подумал, не это ли имел русский в виду, когда говорил, что больше не может ждать.
– Одну минутку, – тихо сказал он и без стука вошел в ванную.
– Жалко, что я не понимаю, о чем вы говорили! – засмеялась Кармен. Она попыталась выговорить несколько русских слов, но получилась какая-то бессмыслица вроде: «Я не буду хрустеть стол».
Гэн приложил палец к губам. Ванная комната была маленькая и очень темная: стены облицованы темным мрамором, пол тоже из темного мрамора. Один из светильников возле зеркала не горел. Надо не забыть попросить вице-президента заменить лампочку.
Она присела на край раковины и прошептала:
– Кажется, у вас был очень важный разговор! Это Лебедь, русский?
Гэн сказал, что это был Федоров.
– А, такой большой. А откуда ты знаешь русский язык? Откуда ты вообще знаешь так много языков?
– Это моя работа.
– Нет-нет! Это потому, что ты знаешь что-то особенное, я тоже хочу это знать!
– У нас всего минута, – прошептал Гэн. Ее волосы были так близко – черные, блестящие, никакому мрамору не сравниться. – Я должен для него переводить. Он ждет за дверью.
– Мы можем поговорить ночью.
Гэн покачал головой:
– Я хочу спросить тебя о том, что ты сказала тогда. Что ты имела в виду, когда говорила, что мы теперь живем здесь?
Кармен вздохнула:
– Ты же понимаешь, я не могу всего сказать. Но сам подумай, разве так уж страшно, если мы останемся все вместе в этом прекрасном доме? – Ванная комната была размером с треть посудной кладовки. Коленями она касалась его ног. Сделай он полшага назад, и окажется на комоде. Ей захотелось взять его за руку. Почему он хочет ее покинуть, почему хочет покинуть этот дом?
– Рано или поздно все это должно закончиться, – сказал он. – Такое не может длиться бесконечно, власти это прекратят.
– Только если люди совершат что-нибудь ужасное. А мы никого не убили. Тут всем хорошо.
– Тут всем плохо. – Правда, произнося эти слова, Гэн совершенно не был уверен в их правдивости. Кармен опустила голову и начала рассматривать свои руки.
– Иди переводи, – сказала она.
– Ты больше ничего не хочешь мне сказать?
Кармен часто-часто заморгала, чтобы скрыть слезы. Как глупо, если она еще и заплачет! Ну что плохого в том, чтобы им жить вместе в этом доме?! Она бы как следует выучила испанский, научилась бы читать и писать, потом выучила бы английский, а потом, может быть, еще и японский немного. Но нельзя думать только о себе. Она это понимала. Гэн правильно хочет от нее избавиться. Она ничего ему не дает. Она только отнимает у него время.
– Я ничего не знаю.
Нервы у Федорова сдали окончательно – он заколотил в дверь.
– Перево-о-одчик! – пропел он.
– Минутку! – крикнул Гэн через дверь.
Ее время истекло. Сдержать слезы у Кармен не получилось. Она хотела быть с ним от рассвета до заката. Быть с ним неделями, месяцами, и чтобы никто не мешал: им так много надо друг другу сказать!
– Может быть, ты права, – сказал он напоследок. Кармен сидела на краешке мраморной раковины у зеркала – большого, овального, в раме из золоченых листьев, – так что Гэн одновременно видел ее лицо и узкую спину. И свое собственное лицо у девушки за плечом. В его лице было столько любви, и она светилась в нем так явно, что Кармен наверняка уже обо всем догадалась. Они находились так близко друг от друга, что, казалось, дышали одними и теми же молекулами воздуха, и этот воздух, потяжелевший от желания, неотвратимо подталкивал их друг к другу. Гэн сделал полшага вперед – лицо его погрузилось в ее волосы, ее руки обвились вокруг его шеи, и они сплелись в объятиях. Как просто все оказалось, какое волшебное облегчение! Надо было обнять ее в ту самую минуту, как я ее увидел, и не отпускать, подумалось Гэну.
– Переводчик? – В голосе Федорова уже слышалось беспокойство.
Кармен чмокнула Гэна. Времени на поцелуи уже не было, но пусть он знает – потом времени будет предостаточно. Поцелуй в этом царстве одиночества похож на руку, вытаскивающую утопающего из объятий удушья в радостное царство воздуха. Она поцеловала его еще раз. И еще.
– Иди, – прошептала Кармен.
И Гэн, которому в данную минуту не надо было ничего, кроме этой девушки и стен этой ванной комнаты, поцеловал ее снова. Он задыхался, он почти терял сознание. Некоторое время ему пришлось постоять, опершись на ее плечо, потому что иначе он не смог бы выйти из ванной. Кармен поднялась с раковины, открыла Гэну дверь и выпустила его обратно в мир.
– Вам нехорошо? – спросил Федоров скорей раздраженно, чем участливо. Рубашка уже практически прилипла к его спине и плечам. Переводчик что, не понимает, как ему сейчас нелегко? Сколько он мучился, сначала раздумывая, стоит ему заговорить с Роксаной Косс или не стоит, потом набираясь храбрости, чтобы сказать самому себе, что стоит, а потом – решая, что именно ей сказать! А когда он наконец разобрался в своих чувствах, как облечь их в слова? Конечно, Лебедь и Березовский ему сочувствовали, но они все-таки были русские. Они понимали боль федоровской любви и, что греха таить, сами так же изводились. И не исключено, что еще день-другой – и они сами, расхрабрившись, отправились бы к переводчику с требованием срочно устроить им аудиенцию с певицей. Чем больше говорил Федоров о своем сердечном влечении, тем более Лебедь и Березовский убеждались, что этот любовный недуг охватил всю их троицу.
– Я прошу прощения за промедление, – сказал Гэн. Комната перед его глазами плыла и раскачивалась, как линия горизонта в пустыне. Он облокотился на запертую дверь. Кармен была там, всего в двух или трех сантиметрах от него.
– Выглядите неважно, – заметил русский, теперь уже с искренним участием. Переводчик ему нравился. – И голос у вас что-то слабый.
– Не беспокойтесь, все будет хорошо.
– Вы бледный какой-то. А глаза как будто заплаканные. Если вы и вправду заболели, то командиры вас отпустят. После аккомпаниатора они стали очень осторожны в вопросах здоровья.
Гэн поморгал, стараясь поставить на место раскачивающуюся мебель, но яркие полосы кушетки продолжали прыгать и кривиться с каждым ударом его сердца. Он выпрямился и встряхнул головой.
– Ну вот, – сказал он неуверенно, – теперь все в порядке. У меня нет ни малейшего желания отсюда уходить. – Он посмотрел на солнце, светящее в высокие окна. На цветном ковре двигались живые тени от листьев. В эту минуту, стоя рядом с русским, Гэн наконец понял, что говорила ему Кармен. Что за комната! Какие шторы, светильники, диваны с мягкими подушками – и все играют волшебными оттенками золотого, зеленого, голубого. Кто откажется жить в такой комнате?
Федоров улыбнулся и стукнул переводчика по плечу.
– Ну что вы за человек! Душа-человек! Ух, как я вами восхищаюсь!
– Душа-человек! – повторил Гэн. Славянское наречие на вкус было как грушевый бренди.
– Пойдемте же поговорим с Роксаной Косс! У меня нет времени еще раз умываться! Если не пойду сейчас, то потом уже никогда не решусь.
Они отправились на кухню, но с таким же успехом Гэн мог идти один. Он не думал ни о Федорове, ни о том, что тот чувствует, ни о том, что собирается сказать. Думал он лишь о Кармен. О Кармен, сидящей на раковине. Такой он запомнит ее навсегда. Пройдут годы, но как только он подумает о ней, то тут же представит ее себе сидящей на черном мраморе, тяжелые башмаки перемотаны изолентой, руки кажутся такими светлыми на черном камне. Разделенные на пробор волосы заложены за изящные ушки и свободно струятся по плечам. Он вспоминал ее поцелуй, ее руки, обхватившие его за шею. Но лучше всего было ее лицо, ее чудесное лицо в форме сердца, ее карие глаза, и суровые брови, и пухлые губы, которых он так жаждал коснуться. Господин Хосокава на занятиях постоянно отвлекался. Научишь его какому-нибудь слову – и назавтра он его наверняка забудет. Господин Хосокава сам смеялся над своими ошибками, делал пометки, ставил маленькие галочки рядом со словами, которые ему не давались. Но не такой была Кармен. Сказать что-нибудь Кармен значило навеки впечатать это в нежные извилины ее мозга. Она закрывала глаза, проговаривала слово вслух, записывала в тетрадку – и теперь слово навеки принадлежало ей. Проверять ее было не обязательно. Они занимались как бешеные, будто за ними гналась стая волков. Кармен хотела всего, сразу и как можно больше. Больше лексики, больше глаголов. Хотела понять правила грамматики и пунктуации. Хотела изучить герундий, инфинитивы и причастия. В конце урока, когда у обоих уже не было никаких сил заниматься новыми словами, она прислонялась к дверце буфета и зевала.
– Расскажи про запятые, – просила она. Над ее головой возвышались горы тарелок, золоченый сервиз на двадцать четыре персоны, сервиз c темно-синими ободками на шестьдесят персон, каждая чашка висит на отдельном крючочке.
– Уже поздно. Не обязательно приниматься за запятые сегодня.
Она сплетала руки на своей узкой груди и сползала по дверце на пол.
– Запятые ставят в конце предложения, – говорила она, чтобы его раззадорить, вынудить поправлять и объяснять.
Гэн закрывал глаза, наклонялся вперед, утыкал голову в колени. Когда же ему выдадут визу в страну снов?
– Запятые, – говорил он, с трудом подавляя зевоту, – обозначают паузы в предложении, они отделяют одну мысль от другой.
– Ох ты! – воскликнул Федоров. – Она разговаривает с вашим начальником!
Гэн вздрогнул, пришел в себя и понял, что Кармен рядом с ним нет, а он стоит на кухне вместе с Федоровым. До посудной кладовки оставалось не более десяти шагов. Насколько он знал, никто, кроме них двоих, туда ни разу не заглядывал. Господин Хосокава и Роксана стояли рядом с раковиной. Они представляли собой странное зрелище: оба молчали, но в то же время казалось, что они заняты оживленной беседой. Игнасио, Гвадалупе и Умберто сидели здесь же, за кухонным столом, и чистили оружие: на газете перед ними лежали россыпи металлических деталей, которые они одну за другой смазывали маслом. Тибо тоже сидел за столом и читал поваренную книгу.
– Кажется, мне лучше прийти попозже, – сказал Федоров. – Когда она будет не так занята.
Роксана Косс была, похоже, совершенно свободна. Она просто стояла, вертела в пальцах стакан и подставляла лицо солнечному свету.