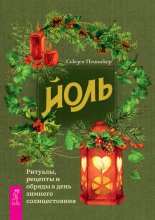Дневник Волкова Паола

Пошел в лес. Еще идучи полем, приметил тучу, вернее сказать, некое притемнение в пасмурном небе, но не придал ему значения. А зашел подальше, чувствую — пропал. Даль задернулась не то белесым туманом, не то сеткой дождя, а весь лес просквозило страшным ветром. И желтые листья так и посыпались с деревьев. Я подумал, что ветер разгонит тучи. Какой там! Пригнал их навалом. И зарядил дождь, мощный, как из пожарной кишки. Я думал переждать его под березами, но с ветвей лило еще сильнее. Я плюнул и, не торопясь, пошел по раскисшей глинистой тропе домой. И чегото мне стало счастливо, радостно. Я шел и, как дурак, смеялся…
Субботу и воскресенье провел на охоте. Самым лучшим там была луна на закате. Я впервые попал на охоту в полнолуние. Еще во всю играл закат, когда появилась большая, сдобная луна и стала против уходящего солнца. Впрочем, она не стояла на месте, а всё время подымалась вверх, накаляясь розовым и увеличиваясь в объеме. Она очень отчетливо рисовалась не кругом, а шаром, густо розовым с синеватыми пятнами ее рельефа. Когда закат потух и остался едва приметный багрец за тучей, накрывшей горизонт, луна стала золотой и блестящей, и от нее в воду погрузился золотой столб. Опять же не полоса, а именно столб, колонна, нечто плотное, объемное, сферическое. По мере того как луна подымалась, колонна всё наращивалась и стала несказанно величественной, как на портике храма Юпитера в Баальбеке. Но в какой-то миг, упущенный мною, когда она уже должна была подвести капитель под мой шалаш, вдруг резко сократилась и вскоре стала круглым пятном на воде: зеркальным отражением круглой лунной рожи. И наступил вечер.
Пенсионный Уваров стал куда жестче к людям: кроет всех почем зря — не боится. А раньше все были для него не без приятности, особенно начальство. Вот что значит независимость. Он и мою фотографию в последней книге — очень хорошую — обхамил. Надо же!..
Анатолий Иванович получил машину через Георгадзе[85], с ручным управлением. После обучения в Клепиках (я послал ему туда деньги, считалось на хлеб), сдал на шоферские права, наездил по деревне двести километров и в пьяном виде разбил в лепешку свой «Запорожец», собственную башку и башку инспектора рыбхоза. Пролежал месяц на печи со свернутой шеей, лишился прав на год и вернулся к своим сетям. Но ненадолго. Вышедший из больницы инспектор рыбхоза конфисковал его сеть, отблагодарив за поездку. Скучная история, которую я заанее предвидел.
В Подсвятье загорелся электрический свет, а в озере Великом напрочь исчезла рыба. Одно с другим не связано, но странно, что технический прогресс идет непременно рука об руку с оскудением природы.
Позавчера выступал в Доме журналистов. Неожиданно приехал Булат Окуджава с невменяемым В. Максимовым. Булат облысел со лба как раз до середины темени. Довольно густые, короткие, курчавые волосы плотно облегали затылок. Анфас они образуют вокруг его головы какоето подобие темного нимба. Булат избалован известностью, при этом неудовлетворен, замкнут и черств. Мне вспомнилось, как десять лет назад он плакал в коридоре Дома кино после провала своего первого публичного выступления. Тогда я пригрел его, устроил ему прекрасный дружеский вечер с шампанским и коньяком. По — видимому, он мне этого так и не простил. Во всяком случае, я всегда чувствовал в нем к себе чтото затаенно недоброе. Но не о том я хотел написать, а о том, что между двумя его выступлениями, как между двумя Геллиными стихотворениями, поместилась вся моя жизнь.
В профилактории недельное сборище одаренной столичной творческой молодежи: режиссеры, писатели, сценаристы, актеры, художники, музыканты, архитекторы. Неделя ленинской учебы: доклады, лекции, встречи с мастерами искусств, семинары, дискуссии. В мастера искусств попал и я, наверное, потому, что живу рядом. Меня попросили провести семинар кинодраматургов. Я пришел и, вместо юных доверчивых комсомольцев, увидел старых евреев, политкаторжан и цареубийц.
Основная задача устроителей — не дать «семинаристам» рта открыть, поэтому докладчик сменяет докладчика, просмотр следует за просмотром, одно мероприятие налезает на другое И всё же, рты открываются и отнюдь не для осанны. Свободолюбивый, с привкусом сивухи дух витает над этим сборищем. Любопытна и показательна в этом плане выставка картин. Уж как боролись за святой реализм, а ни одного полотна правоверного тут не встретишь. Тут представлены: «странный» реализм, примитивизм, сюрреализм и даже робкий поп — арт. А царит над всем горестный портрет Андрея Платонова с босыми ногами странника. Вот кто истинный святой этого сборища…
Вечером были на «Суджанских мадоннах», как и всегда произведших на меня впечатление почти стыдной дешевки, что не мешает зрителям утирать слёзы. В антракте мне пришлось участвовать в маленькой тайной вечери, где все двенадцать апостолов были Иудами.
Себе: О, сделай так, чтоб я тебя опять полюбил!
Сегодня пошел в лес после долгого перерыва. Хорошо! Золото деревьев и зелень озимых за опушкой. Старухи собирают чернушки, выковыривая их изпод палой, уже загнившей листвы. Изредка попадаются красные мухоморы с плоскими крепкими шляпками. Повсюду валяются сонливые, скользкие, хотя в лесу сухо, мокрухи еловые, исходя какойто животной гпилю. Пошел к моему дубу, он весь, До листика, облетел, а другие дубы сохранили свой наряд. Их густая, плотная, медная листва чудо как хороша под крепким осенним солнцем.
На обратном пути увидел в саду Костюковского то непонятное, никому не нужное и невесть с чего возникшее сущест во, что называют «Геллиной дочкой». Исполненный автоматической печали, пошел подписывать счета и очередные премиальные Валентине Федоровне в контору, расположившуюся на зиму в грязнейшем доме Симукова.
Нет ничего страшнее передышек. Стоит хоть на день выйти из суеты работы и задуматься, как охватывают ужас и отчаяние. Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы обязательно вернемся к своей блевотине. Даже в самые обнадеживающие времена я знал, что это мираж, обман, заблуждение, и мы с рыданием припадем к гниющему трупу. Какая тоска, какая скука! И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; у большинства не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. Люди пугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства; опять — никаких нравственных запретов, никакой ответственности, — детский цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль.
Были у Тышлера. Грустная поездка по дрянной, слякотной, грязной осени. Пьяный, безумный, опустившийся Нисский на скамейке под окнами своей мастерской, давно уже запертой на замок. «Подайте рублик академику!» — почти как юродивый в «Борисе Годунове» просит Нисский. Старенькая Ирочка с букетиком астр поджидала нас у подъезда…
И вдруг — прекрасный, радостный, какойто сказочный человек, которому никогда не дашь его лет, с чистой детской улыбкой, с детским любопытством к окружающему и детской безмятежностью. А вокруг — прелестный цирк его живописи. ТЫШЛЕР!
Я понял сегодня, откуда взялась его причудливая манера, и как естественна, органична эта манера для него, насколько чужда она ломанию. Понял, почему у него все женщины, да и не только женщины, порой мужчины, дети и даже лошади носят на голове невероятные шляпы с цветами, флагами, скворечнями, а случается, так и с пиршественными столами, и даже балаганами. В мелитопольском детстве его поразили бочары, носившие на голове тяжеленные бочки. Если человек может нести запросто бочку, то почему он не может нести праздничный пирог, флаг да и всё остальное? Картины Тыш-
лера поют всемогущество человека, который сам себе и цирк, и театр, и Ромео с Джульеттой, и балкон, и веревочная лестница. Как чист источник этого «вредного и чуждого» творчества, как истинно народен талант Тышлера! И сколько в этом восхищенного уважения к человеку, вернее, к людям. Сложный Тышлер на деле прост, наивен, доверчив и поэтичен, как кораблик или бумажный змей. И какая эта цельная, чистая, прямая, святая жизнь!..
С 1–го по 26–е находился в Нигерии, на два дня ездил в Дагомею. Вся поездка записана подробно в моем «зарубежном дневнике». Приехав, заболел, простудился по дороге с аэродрома. Михаил Гаврилович забыл в моторе тряпку, ее засосало в радиатор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Большую часть пути мы ехали с открытым капотом, на воздушном охлаждении. Но на бугре, неподалеку от дачи, машина не потянула, и мне пришлось остаток пути идти пешком. Было двадцать пять ниже нуля, а в Нигерии столько же выше, разница в пятьдесят градусов — многовато.
Сейчас выздоровел и по обыкновению занимаюсь подведением итогов года. Тут бы не умствовать, а плеваться, но жизнь учит смирению, и я без особого зла провожаю этот страшноватый годик. Мама перенесла инфаркт, Люся была на грани смерти, болела инфарктом и Антонина Александровна[86], болела тяжело Лена, зато нам вернули Сталина. Пусть еще не целиком, но почин сделан. Год был насыщен Софроновым, смрадом доносов — тайных и явных, подозрительностью, недоверием, и материально стало куда труднее. Но человек живет не только в макромире, но и в микромире, а последнее не менее важно, особенно художнику. И для меня минувший год оказался благостен, год творческой концентрации и открытия в себе нового. Я написал свою лучшую повесть «Пик удачи» и лучший рассказ «И вся последующая жизнь». И напечатал свой самый странный рассказ «Среди профессионалов» и самый изящный «Фейруз». И лучшая моя книжка вышла — «Чужое сердце». А главное, я стал лучше писать, отчетливо лучше. Я уже у цели. И я люблю писать, я не истратился в приспособленчестве и халтуре. Я съездил в США, Нигерию и Дагомею, хорошо охотился и не утратил Ленинграда. И пить я наконецто стал меньше и куда реже. Короче, можно было оказаться в худшей форме к вехе пятидесятилетия. Можно было и вовсе не доползти до него. А тому что я дошел, именно, дошел — не дополз, я обязан Алле. Своей внутренней бодростью, своим вновь проснувшимся интересом к культуре и ослаблением тяги к дряни я обязан целиком ей. И е же, ее ясному, прямому и проницательному, без всякой бабьей мути разуму обязан я тем, что наконецто стал реально видеть окружающих людей, видеть их такими, как они есть, а не такими, как мне того хочется. Хорошо, что всё стало на свои места и кончились детские игры. Надо иметь мужество жить в действительности, а не в «грёзах любви».
Дай Бог, чтоб ничто нас не разлучило с Аллой. Люди, даже близкие, даже любящие, так эгоцентричны, самодурны, слепы и безжалостны, что очень трудно сохранить союз двоих, защищенных лишь своим бедным желанием быть вместе. Но на этот раз я не дам изгадить себе жизнь.
1970
Завершился акуловский цикл. Сперва пришел плоский пакет, там оказались акуловские фотографии и письмо от Ляли — милое, мягкое, женственное письмо с благодарностью за дачные рассказы. «Мне больно, что никто вас не поблагодарил, а ведь для многих из нас акуловские дни были лучшей порой жизни». И я, в который раз забыв, что нельзя вызывать духов былого, стал ей названивать, чтобы увидеться. Меня не остановил, не насторожил даже последний разговор с Лялей. Она не слушала моих объяснений, почему я не могу приехать в назначенный день, она говорила мимо меня, мимо моих слов, как заведенная, и не могла остановиться. И хоть речь ее была не только связной, но и квалифицированной в слове, я решил: она с приветом, и не ошибся.
Живет она на улице Короленко, напротив кожного диспансера, с которым у меня связаны такие приятные воспоминания. Деревянный домишко стоит в глубине заснеженного двора, куда я едва въехал.
Вначале я увидел лишь несуразную, полную женщину, нищенски одетую, в обставе нищенского жилья. Полторы комнаты, иными словами, — комната с окном и темный чулан со стеллажами, на которых рухлядь альбомов и книг соседствует с рухлядью домашней утвари. В жилой (нежилой) комнате — лежак, письменный стол, стул, табурет, на стене — громадный натюрморт без рамы. Это даже не бедность, а то, что после бедности.
В лице хозяйки сохранилось чтото от той Ляли, которую помню, которую в нежном возрасте четырех лет заставлял целоваться за шоколадное драже. И вместе с тем это лицо жительницы другой планеты: губы всё время пересыхают, а в уголках вскипает пена. В косых прорезях странно заваливаются темные, без блеска глаза. Разговор почти нормален. Трезвая жесткость характеристик отца, матери, теток, вообще всех акуловцев, сурово — горькое отношение к окружающему. Смущает лишь неконтактность с собеседником. Порой мне казалось, что меня нет, и Ляля ведет разговор с пустотой. Она ничего не спрашивала ни обо мне, ни о моих близких, даже о маме, которую она знала и помнит. Слабый интерес был проявлен лишь к моему инфаркту, потому что сама страдает сердцем. И при всём том она добра, угощает, не знает чем бы попотчевать, ставит на стол вино, какието настойки, соки, печение, пироги, то и дело предлагает чай, кофе. Заставляет взять с собой черноплодную рябину, яблоки, какуюто рыбу. И всё это у нее не покупное, а случайное: ктото завез, забыл, оставил, прислал на праздники.
Свое несочувственное отношение к людям объясняет собственной страшной жизнью. Считает, что ее судьбу погубила мать, поместившая ее по материнской глупости в сумасшедший дом, в самый что на есть — в Сокольники. Там ее лечили шоковыми дозами инсулина, наградили сахарной болезнью да и сердце ей сорвали. Пробыла она там всего три месяца, а вышла полуинвалидом и потом, чуть не до последнего времени, состояла на учете в районном психиатрическом диспансере. Ляля считает, что всегда была совершенно здорова, лишь нервно возбудима. Мать ненавидит. Считает, что потеряла мужа изза того, что свекровь проведала о ее мнимой психической неполноценности. Муж — эпилептик, от второй жены родил ребенка — полуидиота. Хороший клубок…
В ответ я пытался рассказать ей о своих нервно — психических недомоганиях, но получилось бледно, и ее не заинтересовало.
Бедная, бедная Ляля — крошечная акуловская красавица!..
А судьбы у акуловцев оказались грустные, что, впрочем, и не удивительно, у кого они веселые? Хозяйка прошла через лагерь и ссылку и умерла в нищете. Дача была конфискована сразу после ареста хозяина, в начале тридцатых годов. Он умер в лагере. Лялин отец, шалопай, забулдыга и гитарист, — он дивно пел под гитару «Мы на лодочке катались» и «Сирень цветет», — умер молодым, потеряв перед этим семью (потеря, по — моему, не слишком тягостная). Мура Муромкина — пенсионерка, муж погиб в войну, один из сыновей — с уголовными наклонностями, другой — пьяница. Галя — унылая старуха; остальные просто умерли. Колька Шугаев погиб на фронте. Странно, я както упустил Таню, о которой писал. Кажется, с ней всё более или менее в порядке. Да, нечасты счастливые судьбы!..
Каждый день хожу на лыжах, но, пожалуй, еще ни разу не доходился до той усталой бодрости, как то бывало в прежнее время. Какаято слабость не оставляет. И не поймешь, в чем ее корень: в сердце, в мышцах, в костях? Небесный пейзаж второй половины двадцатого века: большой ИЛ-14, идущий на посадку, в безумной высоте светлый крестик — ИЛ-62, тянущий за собой ватную дорожку, и белая круглая наивная луна между ними.
Падь оврага была сизо — синей, дымчато — сизой, вернее, и даже вблизи производила впечатление глухой стены. А на другой день она оказалась ярко — синей, как в марте, и все тени под деревьями и в лунках копытных следов в поле были ярко — весенне — синими, и стало ясно, что зима кончается.
И вдруг пошел снег, завернул мороз, зима началась сначала. Снег на деревьях сухо спекся и не отваливается даже при ударе лыжной палкой по сучьям…
На днях шел па лыжах в березняке по ту сторону речки и вдруг услышал выстрел. Через некоторое время наткнулся на шофера из профилактория и двух его дружков из военного городка. У шофера за спиной висела двухстволка, а дружок нес за шею чирка — свистунка. Зазимовал подранок на нашей речке, возле спуска нечистот, где и в морозы вода парится, совершил невероятный подвиг самосохранения, явил некое биологическое чудо и был застрелен в самый канун весны.
Вот и кончилась долгая Фенькина жизнь. Без малого пятнадцать лет назад ее принесла Даша крошечным черным комочком. Спаниель Степа, давно умерший, не принял котенка, и мы велели Даше вернуть его хозяевам. Ей было лень ходить, и она просто вышвырнула котенка за калитку. В тот вечер мы с Я. С. уезжали зачемто в Москву. Степа пошел нас проводить к машине и вдруг стал яростно облаивать сугроб, а потом копать его лапами. В снежной могилке лежал, топорщась каждым волоском шерсти, наш котенок. Выброшенный Дашкой, он никуда не пошел, поняв темным и безошибочным чутьем, что его дом здесь, вырыл себе ямку, чтоб не замерзнуть, и стал ждать. И дождался. Мы умилились, почти расплакались, покрыли Дашку матом и отнесли котенка домой.
Началась бурная жизнь Феньки. С котами, свадьбами, ро — дами четырежды в год, с бесчисленными котятами, которых безжалостно топили, — Фенька дня три орала, потом забывала, что они были, с мышами — домашними и полевыми, странными исчезновениями и появлениями, когда мы уже ставили на ней крест, с дружбой Кузика и бессильной ненавистью Дарки, с хорошей едой и свежим молоком, с любовью и уважением дома, с бельчонком, вскормленным ее сосцами, с пушистой дочкой Жанной, которой мы дали вырасти, с долгой, страшной, мучительной болезнью. У нее был рак, опухоль распадалась. У нее облез живот, задние ноги, кровоточащие, гноящиеся шишки изъязвили брюшко. Дарка перестала кидаться на больную старуху. Она почти всё время спала в кресле или на нашей кровати, оставляя несмываемые следы. Мы не решались умертвить ее, хотя врачи вынесли свой приговор еще год назад.
Сегодня это было сделано. Укол в сердце «нашатырной иголкой», совсем как у Пастернака. До самой смерти мордочка у нее оставалась выразительной, умной, необыкновенно милой У меня такое чувство, будто сегодня завершилась чья-то долгая, достойная и полезная жизнь. Даже жалости особой нету, как после смерти Мичурина, «всё успевшего» по словам Довженко.
За это время вот что случилось: я перевалил за полстолетия. Произошло это без всяких стыдных сопутствий, чего я опасался. Моя официальная полупризнанность позволила мне избежать фальшивых клубных почестей. А моя несомненность для значительного круга людей возвела условность в ранг действительности. Это относится и к вечеру в Литературном музее, и к застолью в Доме актера, и даже к домашнему обеду с Карменом. Просто удивительно, как в Доме актера все гости подтянулись, обрели высокую и добрую речь, растроганность жестов, какуюто даже красоту. Рекемчук был по меньшей мере графом, Петька — Тэном или Рескиным и только Л. остался секретарем СП.
Ну что же, осилим печаль зримо и громко подтвержденного постарения и двинемся дальше.
Ну вот, прошла заветная неделя сплошных премьер[87], которую я так ждал. Я представлял себе какоето окрыленное празднество, где я порхаю всеми любимый, для всех удивительный, непостижимый — еще бы столько нагваздать! — и трогательно милый. Это была одна из самых несносных недель в моей жизни — хамство, ненависть, злоба обрушились на меня со всех сторон. Я нахлебался дерьма. Надо же — настолько не понимать ни людей, ни времени. Всё завершилось разрывом с Салтыковым, невыпуском за границу и хамским письмом Ильина. Так кончились праздники.
Вернулся с рыбалки и узнал по телефону, что скончалась Антонина Александровна. Алла застала еще еще в сознании. «Какая ты стала красивая», — сказала Антонина Александровна при виде Аллы. Может быть, при всех муках это еще не самая страшная смерть. В бедном маленьком теле Антонины Александровны не было места для эгоизма, для дрянного старческого себялюбия, в ней жила лишь беззаветная любовь к дочерям, с которыми она пережила столько страшного и мучительного: блокаду, голод, неустроенность. Ей выпало не много счастья в жизни: никак не складывалась Аллина судьба (Ан. Ал. знала всё про «Казанову» Колясина и тяжело переживала унижение дочери), а потом ее оглушила Люсина болезнь, превратившая цветущую женщину в нолуинвалида. По — моему, она решила умереть, чтоб не пережить дочь. Слава Богу, она была счастлива нашим с Аллой браком, давшим ей помимо всего прочего и чувство реванша.
Странно, как только мы познакомились, я понял, что полюблю ее, и тут же во мне возникло мучительное ощущение ее непрочности, недолговечности.
Поездка на рыбалку с Петькой. Старость, печаль, симпатичность. Как ни удивительно, а он уцелел во всех испытаниях времени, наверное, потому, что тоже не до конца отрывался от природы.
Несколько иное впечатление Петя произвел, когда недели две спустя приехал на дачу после пьянки, но тут же стал — «во время пьянки» и одновременно — «перед пьянкой», ибо уезжая от нас, разбитый, очумелый, стыдящийся своего поведения, он в ближайшем же магазине приобрел бутылку «Плиски», дабы расширить сосуды. Как он был надоедлив, суматошлив, жалок, глуп и настырен! Он всех целовал взасос мокрым ртом, приставал к Якову Семеновичу, до судорог ненавидящему пьяных, пытался играть в преферанс, не видя карт, за обедом в него не шла пища, а ночью, мучимый бессонницей, он кинулся на кухню и там чтото жрал из холодильника. Грустное и мучительное впечатление. Ко всему еще он хочет жениться на двадцатилетней девочке.
В прекрасном, благоуханном, нежно жарком лете творился дурная трагикомедия нашего ничтожного и горького существования. Новая жертва Олег Феофанов. Его сняли с поста редактора дайджеста за то, что он делал журнал, который нравился читателям. Его, видимо, накажут еще, хотя он просто перепечатывал из других журналов прошедшие цензуру материалы. И всё это происходит в дни, когда его шестнадцатилетний сын пытался отравиться изза несчастной любви, лежал у Склифосовского, едва выкарабкался. А директрисса школы, где учился несчастный мальчик, приписала случившееся онанизму.
Вот так и живем. До чего ж мы здоровенные, выносливые, закаленные люди! Богатыри! Геркулесы! Не сходим с ума, не погибаем от инфаркта сердца, легких, печени, от разрыва всех тканей.
Сегодня совершил путешествие по нашей речке, к ее истоку. До истока, разумеется, не добрался, но километров через семь — восемь дошел до места, где она становится ручейком. По дороге миновал несколько живописных деревень, лежащих на холмах. На холме, соседствующем с цоколем одной из деревень, — погост с высокими, какимито праздничными крестами и два новых ярких венка. Отдыхал по пути в развилке громадных, толстых стволов старой ивы, под стать баобабу. В мутноватой освещенной солнцем воде ходят довольно крупные верхоплавки. Затем я вышел к другой, переломленной и полуспаленной молнией иве, усеянной грачами и сороками. При моем появлении они взлетели с громкими ругательствами. Сердцевина ивы выгорела до пол ее роста, но какаято плоть дерева, видимо, сохранилась, коль ива всетаки не рухнула, хотя кажется, что она держится одной лишь корой. И крона сгоревшего дерева зелена, и даже один черный мертвый сук, не сук — головешка пустил зеленый побег. Вот силища!..
Всё время я испытывал чуть смешное волнение, даже замирание какоето, будто и в самом деле шел по неведомым, таинственным местам. И всё трогало, волновало: бычок, лежа щий на скосе бугра, женщины, стирающие белье в речке, девочки, играющие в песчаной яме, мальчишки, рубящие лозняк для костра. Всё казалось необыкновенно значительным, да<и было таким на самом деле, ибо всё это подлинная жизнь.
Что еще было?.. Ручьи, питающие нашу речку, и в них ручейники, муха, неотвязно вившаяся у моего — лица и всё пытавшаяся нырнуть в озерцо глаза, медовые запахи кашки, зарослей, следы животных у воды, синие стрекозы, заводи с лилиями и кувшинками и чувство жизни.
Совсем исчезла тишина в нынешнем просторе. Весь мой поход шел под аккомпанемент тракторов и самолетов. Ни мгновения тишины; Лишь когда далеко забираешься в лес, начинаешь слышать пение и щелканье птиц. Солоухин сказал мне, что в их владимирской глубинке то же самое.
Съездил на охоту, которая открылась четырнадцатого августа. В этом году охота началась утренней, а не вечерней зорькой, как прежде. К моменту выезда на охоту, в половину третьего ночи, все егеря и большинство охотников были в дым пьяны. Какойто сильно ученый человек — профессор, заведующий лабораторией, лауреат, свалился с мостков и чуть не утонул. Егерь тоже свалился, пытаясь его вытащить, утопил ружье. Егерь Виноградов проспал весь день на полу кухни, а, проснувшись на другой день, сразу получил расчет. А. И. был пьян и омерзителен. На вечернюю зорьку опоздал — ездил за водкой в Тюревище, — и я охотился с разжалованным Петром Ивановичем на Шигаре, сидя в челноке, как в доброе старое время, под прикрытием камыша. Взял одного чирка. Шалаши А. И., которого тут не уважают, находятся в самом паршивом месте, где уток сроду не было. За две зорьки я одну подстрелил влёт, другую подранил, в то время как остальные охотники взяли по пять — шесть штук. Я имел возможность попасть на хорошее место, новый директор, молодой интеллигентный парень, хотел посадить меня, куда надо, возле Салтного, но А. И. вмешался и всё изгадил. Он конченый человек. Хуже других пьянчуг, в тех хоть проглядывает какоето мужицкое достоинство, а он шут, затейник. Кончился, безнадежно кончился некогда гордый, самостоятельный человек. Водка и служба сделали свое дело.
Устарела моя охота по всем статьям. Нельзя ездить ни с таким ружьем, ни с такими патронами, ни с таким снаряжением, не говоря уже о егере. Уток стало мало, охотников много. У всех карабины, патроны собственной набивки, удобная маскировочная одежда. Пора мне кончать с кустарщиной и переодить в сегодняшний день. Да и стреляют они лучше меня, тренируются на стендах.
Вернулся с охоты подавленный. Неужели и это минет, как минули былые дружбы, привязанности, как минули Псков и Усолье, как почти минуло Михайловское? Чем тогда жить? А может, это правильно? Довольно цепляться за изжившую себя Мещеру с ее пьяной охотбазой, надо открывать другие пределы, другие просторы, забираться дальше. Есть Украина, есть север, есть Урал и Сибирь, а поближе есть Неро, надо обновлять пейзаж, иначе можно затухнуть. Я ужасно инертен и прилипчив к раз избранному месту. А между тем, старые места в какойто миг перестают быть источником информации. Ведь мне же не охота важна, а то, что ей сопутствует.
Сегодня на «скорой помощи» увезли Якова Семеновича. Неделю он лежал с адскими болями в шее. Думали радикулит, но вызванный из Москвы врач делал таинственное и значительное лицо.
«Скорая помощь», светлая новенькая «Волга», стояла в саду под самыми моими окнами. Она казалась удивительно странной в такой близости от дома, среди осенних деревьев. Когда Я. С. внесли в машину, он сказал спокойным, глубоким голосом:
— Ну, пока до свиданья, а там видно будет.
В этом была такая высота достоинства, что у меня дух захватило, — се Человек!
Неужели всё так и кончается? Так буднично, заурядно, словно бы между прочим? И почему все уверены в худшем, а мой тончайший инстинкт, мой аппарат предчувствия молчит? Или он выключился для самозащиты? Неведомо для себя самого я так спасаюсь от ужаса, боли, отчаяния?..
Вот так давно я ничего не записывал. А за это время вернулся из больницы Яков Семенович, у которого оказался обыкновенный шейный радикулит. Выходит, мой аппарат не отключался, а работал весьма исправно. Сам же я переболел нервами. Скверно, жеманно это звучит, а па деле такая же серьезная и трудная болезнь, как всякая другая, затрагивающая какието важные центры. Я задыхался, корчился от тиков, во мне плясала каждая клеточка мозга, каждая клеточка тела. Да и депрессия началась, как в давние, забытые дни. Но ничего, вылечился, на время во всяком случае. Жил по санаторному расписанию, принимал морские ванны, кучу всяких Лекарств и при этом работал. Выкрутился.
Хороший вечер в ЦДЛ. Хорошо выступал сам, изумительно — Ульянов, достойно председательствовал Рекемчук, великолепно были приняты отрывки из кинофильмов, один рассказ смешно и трогательно прочитала Ауэрбах. Хуже приняли куски из пьес, о чем я так заботился, и даже великий Сличенко никого не взволновал. Алла была права: люди шли на меня, а не на цыган. Всё моя проклятая скромность.
А потом скромно попировали дома. Было не пьяно и хорошо, дружно за столом. Даже Шредель не сумел изгадить вечер. Какой завистливый, неудачливый и противный человек! За всю жизнь не сделал на волос добра, а ходит с вечно обиженной мордой, будто все окружающие перед ним виноваты. А еще говорят, что люди не меняются. Еще как меняются! Другое дело, что о многих наших свойствах, заложенных в нас, мы и сами до поры не догадываемся, не говоря уже о посторонних. Тем не менее, когда это потайное, нечаемое или едва чаемое, выходит наружу, мы вправе говорить о перемене в человеке. Наверное, вся нынешняя пакость сидела и в молодом Шределе, но он не давал ее почувствовать, он был легок, смешон, почти очарователен в своей нелепости.
За это время произошла трагикомическая история с режиссером С. Пока мьге ним горлопанили и строчили сценарий о Комиссаржевской (главная роль, разумеется, предназначалась любимой супруге режиссера), сия супруга оставила своего талантливого мужа. G. умолял ее вернуться, валялся в ногах, всё тщетно, и он отправился прямехонько в сумасшедший дом. Еще один вариант кипобреда. Я думал, что знаю уже всё: предательства режиссера (разных видов), закрытие темы, казавшейся еще вчера самой актуальной, снятие режиссера с работы за избиение на съемках своего помощника, даже убийство главного исполнителя, не говоря уже о таких мелочах, — как шантаж, попытка выбросить меня из титров, повальное пьянство группы, исчезновение героини по причине распутства и т. и. — 0казывется, киношка не исчерпала своих возможностей. Теперь сценарий пойдет в сортир, ну и черт с ним!
А я угадал истинную суть отношения С. с его жепой. В пору, когда он соловьем разливался об их взаимной любви, я сказал Алле, что она терпеть его не может и не пускает в постель. Так оно и оказалось. И когда они вместе ездили в Австралию, у них были раздельные номера в гостиницах.
Жена потребовала развода. С. пригласил ее в сумасшед — ший дом и здесь сказал, что даст развод, если она подарит ему один — единственный, последний день еемейной жизни. Она сказала, что скорее умрет, чем окажется с ним под одной крышей. Тогда безумец начал орать, что опозорит ее перед всем миром, что человечество не видело такого гнева, что это будет его лучшая постановка, и он превзойдет Феллини. Жена убежала в слезах. Через некоторое время он снова вызвал ее и сказал, что осознал свои заблуждения, согласен на развод (с психом нельзя развестись без его согласия), если она проведет с ним одну — единственную ночь, самую последнюю. Она сказала, что не может дышать с ним одним воздухом, не то что… Он снова разорался, — еще громче прежнего. Пришел главный врач и приказал отправить страдальца в буйное отделение. Насилу Нечаев[88] выручил…
Просматривал книжку о литературной Москве: — гравюры среднега качества и бездарный текст о домах, связанных с писателями. И как волнуют простые слова: «Здесь встречались Веневитинов, Рылеев, Погодин, бывал Пушкин». А ведь они не видели ничего волнующего в своих встречах, им Просто было интересно друг с другом, вот и встречались. А иногда встречи не удавались, и оня с трудом скрывали зевоту. И пи один из них не удивлялся ни себе, ни окружающим. Исключение составлял Пушкин, ему удивлялись, уже все знали, что он Пушкин.
А чем черт не шутит, может, прочтут потомки, что за одним столом сидели Ульянов, Нагибин, Трахман и тоже разволнуются. И удивленно подумают: а Трахмана зачем пустили?..
Забыл рассказать о том, что встретил на «Мосфильме» маленькую грязную шофершу с самосвала, оказавшуюся очаровательной таежницей Стеллой Шишаковой. А накануне пришло письмо, — начинавшееся так: «Вам пишет Ваша ученица Стелла. Я теперь в Москве, работаю на личной машине, временно, для накопления литературного опыта». Копит она опыт, как выяснилось, на самосвале, но и тут умудрилась наврать, что ее машину «готовят сейчас к ноябрьским праздникам». Хороший финал всей этой жалкой и противной истории. Да, она просила меня написать предисловие для ее несуществующего сборника. Намётку этого предисловия она мне вскоре прислала. «Я знаю Стеллу Шишакову как талантливого журналиста и одаренного писателя — рассказчика…»
Умерла Антонина Александровна — таков черный знак минувшего года. А по малостям он был даже удачен, но както не хочется об этом писать.
1971
Был в Лениграде, ездил в Пушкинские горы. Ну и пить там стали! Раньше так не пили. Сдерживал пример трезвого Гейченко, а сейчас дали себе волю. Под конец художнички пили в ночных аллеях, закусывая снегом. Хорош, хотя и по обыкновению театрален, был Гейченко в монастырской церкви при свечах. Он извинился перед Пушкиным, что не снял шапку, для него это всякий раз оборачивается простудой, болезнью. Проглядывало в нем чуть — чуть поповское равнодушие от надоевшей привычности обряда. И всетаки Гейченко хоть куда! Полон культуры, интереса, страстей. Живописен Юра Васильев, остальные все куда мельче. Вася Звонцов не так уж добр, как рисовалось, начал вдруг цепляться ко мне и получил по носу. Алеша Соколов — русский пропащий, шутейный человек. В Пете Фомине проглядывает чиновничье отчуждение. Андрей Мыльников — личность, масштабный и неростой человек. Свое благополучие он оплатил отказом от настоящего творчества, к которому был способен, от велений дара и обрел в этом, как ни странно, внутреннюю свободу. В общении мало интересен, хотя и приятен. Глубиной переживаний поездка не отличалась, как, впрочем, и прежде, за редчайшими исключениями.
О Ленинграде говорить нечего: печаль, глухая провинциальность и красота золотых шпилей.
Мы пережили страшную неделю. После нескольких месяцев страха, сомнений, надежд, колебаний мама объявила раком шарик, катавшийся у нее под кожей на груди. И паша поликлиника согласилась с ней. И сразу же, из скандала со мной, из прелести и неуюта дачи, мама перенеслась в 52–ю больницу, в хирургический корпус, и сразу стала мамой моей беззаветной любви, невыносимой жалости и сводящего с ума страха.
Сегодня ее оперировали. Я ушел в лес и в полдень начал высчитывать: вот за ней пришли, вот дают наркоз, вот режут, вот несут клочок плоти на анализ… Тут начиналась неизвестность, и лишь одно можно было сказать с уверенностью, что в два часа всё будет кончено, так или иначе.
На этот раз пришло помилование. Опухоль оказалась доброкачественной, мама отделалась маленькой ранкой. Стоя в уборной на коленях, я благодарил Бога за избавление. А близким людям не мешало бы жить друг с другом так, будто у каждого из них подозревают опухоль:
Произошло много всякого, в том числе крушение еще одной иллюзии. Позвонила Нина В. и попросила о встрече, крайне важной, «не откажи во имя дружбы!». Мы встретились в ЦДЛ. Я ждал просьбу о деньгах и на всякий случай приготовил пятьдесят рублей. Я ошибся, дело было посерьезнее. Она просила меня помочь чудному мальчику, сыну ее близких друзей прописаться в Москве. В юности он совершил тяжелую ошибку — принял участие в вооруженном ограблении, отсидел десять лет, бежал и получил еще пять. Сейчас он вернулся после пятнадцатилетнего отсутствия и отсидел еще десять суток за нарушение паспортного режима. Ему определили местожительством Тарусу, а он думал зацепиться за Москву. Он так любит город своей ранней юности! Мальчик очень интеллигентный, славный, кончил заочно два курса института, хочет учиться. Я сказал, что сделать ничего не могу, давай, мол, лучше выпьем. Нина охотно согласилась, хотя и предупредила, что не пьет, потому что у нее перед глазами такой страшный пример, как ее муж, дошедший до самого края. Его устроили в Кремлевское отделение стационарного отрезвителя, но он бежал оттуда. Нина решила развестись с ним, живем в Малаховке, ей дали комнатку при Институте физкультуры.
Нина попросила разрешения пригласить мальчика, который доверчиво дожидается ее у подъезда ЦДЛ. А я сказал, что вызову Аллу.
Мальчик пришел — высокий, худощавый, загорелый, бритый наголо, с бледными неподвижными глазами уголовника. Приехала Алла и сразу уловила, что от мальчика пахнет тюрьмой, а она понятия не имела о его истории. Нисколько не обиженный, мальчик подтвердил, что именно такой дух исходит от него, и хладнокровно добавил, что это не скоро выветрится. Вскоре мы поняли и другое: то, чем вошла в него тюрьма психологически, не выветрится никогда. На вопрос Аллы: не было ли мокрого дела во время ограбления, он спокойно ответил: я во всем дохожу до края.
По телевизору передавали интересное выступление. В коридорчике рядом ктото безобразничал, мешая слушать. Я пошел унять хулиганов, и мальчик тут же рванулся за мной с большим перочинным ножом в руке. По счастью, там оказались знакомые: Володя Луговой с приятелями, иначе могло бы кончиться кровью.
Основательно нагрузившись, мы поехали к нам, прихватив бутылочку вина. Совсем разнежившись, мальчик сказал, что в лагере он пристрастился к Дидро. Он взял с полки книгу и безошибочно открыл ее на очень подходящем месте: плох и мерзок тот хозяин, который не делится женой с гостем.
После этого я взял в спальню топор, а дверь задвинул стульями и креслом. Спали мы тревожно. Успокаивало немного, что добрая Нина сама усердно угощала мальчика и бегала в уборную делать туалет каждые полчаса.
Всё встало на свои места. Пятидесятилетняя Нина живет с этим поклонником Дидро и хочет сохранить его для себя в Москве. Вот к чему пришла наша школьная красавица, муза Чистых прудов. Она еще успела наговорить Алле гадости про меня. «Как ты могла пойти за старика? Поживи с таким, как Вовик, никаких денег не захочешь. Твойто, небось, уж не может ничего? Хочешь, я тебе парня устрою?..»
Меня же Нина всё время укоряла морщинами, сединой, толщиной, мятым костюмом. Я выгляжу неизмеримо лучше и моложе ее, был хорошо одет, полон добра и снисходительности. Она же видела мятого, опустившегося старика, купившего за свои деньги молодую кобылу. Нина была страшна, как некоторые персонажи Бальзака или Диккенса, перевалившие за грань реальности, или же достигшие высшей реальности. Когда она напялила на себя Аллин халат, в прорези выпучился ее серый квелый страшный живот. Такто вот, певец Чистых прудов!..
Незабываемый день на станции обслуживания. Жара, лиловый котенок с расплющенным задом — машина переехала, его грязная серо — розовая мать, ложившаяся подремать только под колеса машин, сука Маня с дряблыми сосками и ее детки — жалкие червячки; возле их лежбища стоит консервная банка с ржавой водой, валяется громадная соленая рыбина; грустный весельчак, слесарь Петр Иванович, с тонким лицом международного авантюриста, единственный не вор на этой станции. Он заработал за день пять рублей — три за смену мне мотора, два за ТО. А работает он через день. Таким образом, заработок квалифицированного специалиста на этой станции равен семидесяти пяти рублям в месяц. Заработать же больше, пояснил он, нельзя — слишком плохая у них бригада. Молодые ребята — работать не хотят, украсть проще и доходней. Вот и хватают всё, что плохо лежит. Петр Иванович просил посмотреть за его сумкой с инструментами, когда обедал бутылкой молока и ржаным сухарем. Работал он артистично: после делового движения подкидывал кверху гаечный ключ и ловил безошибочным жестом фокусника. Всех задевает, окликает, то и дело подбадривает дебелую кладовщицу: «Не робей, Раиса Петровна, я тут с палкой!»
Старый юрист в широких полотняных штанах с расстегнутой ширинкой рассказывал мне, как он охотился на кабанов в горах Кавказа. Вконец разрушенный человек с большим бледным потным серьезным и неумным лицом.
С дерева, под которым мы сидели на скамейке, все время валились тяжелые, как ртуть, зеленые гусеницы. Петр Иванович называл себя «Гегемоном», жара становилась всё более нестерпимой, котенок терся о мои ноги искалеченным задом, и я вдруг почувствовал, что не хочу жить. И Алла, видимо, поняв это, схватила гдето такси и отправила меня домой, взяв всё на себя.
Умерла Нина К. Всеми забытая, подурневшая, опустившаяся, совсем как в старых романах. Девятнадцать лет назад в Коктебеле ночью на террасе я открыл ей груди, маленькие, нежные, с девичьими твердыми сосками, и мы целовались чуть не до рассвета. А на другой день она пришла ко мне на мансарду — буквально, я действительно жил на мансарде, — и началось то, что мне тогда уже казалось прекрасным, а не издали лет. Потом всё, конечно, стало хуже, тусклее, мусорнее и увяло окончательно ровно через год. Но было, было… Ее подкосила щитовидная железа. Она подурнела, у нее приметно вылезли глаза, набухла шея, испортился характер. Она стала злобпой, скандальной и попросту низкой. Писала доносы на своего бывшего мужа, выгнала из дома сына, осмелившегося жениться. У меня нет к ней жалости. Но если б я всерьез потрудился вызвать в памяти ее прежний образ, мне стало бы слёзно.
Идут дни, месяцы, а я ничего не записываю. Ленюсь, боюсь коснуться в себе чегото мягкого, больного. Нельзя так. Проворонил Поленово с Окой, кладбищем, где лежит Касьян Голейзовский, с красивым старым домом и плохой живописью, с красивым, не глядящим в глаза Федей Поленовым, смешно помнящем, что его род восходит к Рюрику и связан с Державиным, Львоым, Воейковым, с его нелепой женой — грязнулей и синюшным выпивохой Соковниным, с какимито прекрасными старухами — почти призраками, и загадочными молодыми людьми, восстанавливающими по доброй воле порушенную старину, с лошадкой Васей, протащившей нас на бричке по кривым дорогам над Окой, и я не нашел в себе свободных сил, чтобы сказать обо всем этом не наспех, не между делом, а тихо и раздумчиво.
Но об одном сказать я должен. Федя Поленов давно добивался штатной должности своего заместителя по хозяйству. Это дало бы ему возможность целиком отдаться научной работе и творчеству — он пописывает и даже выпустил крошечную милую книжку о родных местах. Наконец ему утвердили эту «единицу», но где взять подходящего человека? Он, правда, давпо уже вел переговоры с директором дома отдыха Большого театра, расположенного частично на территории Поленовской усадьбы, но тому нужна была замена. Иначе его не отпускали. И вот, во время нашего пребывания в доме — музее, замена нашлась. На должность директора взяли «интеллигентнейшего парня, инициативного человека, с огоньком», короче говоря, Вовика, любителя Дидро и Нинки В.
ВЕНГРИЯ
Вот и приехал я сюда вновь, спустя одиннадцать лет. Тогда я был на пороге новой жизни. Венгрия оказалась минутной и радостной задержкой перед последним шагом к этому порогу. И сразу по возвращении из Будапешта началась новая жизнь, странная, радостная, горькая, унизительная, высокая, грязная, светлая, одушевленная, вьюжная, незабываемая и «неповторимая. Затем еще раз, в разгаре своей новой жизни, по пути из Югославии, я взял такси и целый час кружился по улицам и площадям Будапешта, раннего, непроснувшегося, прекрасного. Теперь всё у меня по — иному, но город по — прежнему радует и волнует. Я не позвонил ни стареющей, располневшей и огрубевшей Элли, ни легкому, осиянному человеку Владиславу, ни доброй Шаре, но воскресил их для себя через Дунай, набережные, гору Геллерт, маленькие кафе и скверик возле улицы Ракоци.
Город почти не изменился, только стал шумнее. В первые дни шум едва не закрыл от нас истинного лица Будапешта. Нас поселили в скверной гостинице возле вокзала. Окна номера выходили в какойто трамвайный тупик. Похоже, что то была не просто конечная остановка желтенького трамвая, а трамвайное лобное место. Здесь железную плоть трамвая терзали, раздирали на части и рушили останки с громадной высоты на булыжную мостовую. Примерно каждые четверть часа происходила мучительная смерть трамвая. Трамвай умирал долго, медленно, как бронтозавр Рея Бредбери.
А в Шиофоке, па Балатоне, миссию будапештского трамвая взяли на себя автомашины, паровозы, голуби, молодые горластые немцы и наши певучие соотечественники. Трудно отдать комулибо преимущество. Машины сигналят надсадно и неуемно, словно все пользуются правами «скорой помощи», паровозы всё время спускают пары — когда же они их набирают? — голуби особенно несносны. Я думал, что их грубое, вульгарное воркование — привилегия весны, ничуть не бывало, — распаленный бормот не стихает и в разгар лета. Голоса их напоминают полуденное тремоло ашхабадских ишаков, но те орут раз — два в день, а эти безостановочно. Когда к вечеру замолкают голуби, начинают орать немцы. Они всё время хрипло выкрикают имена друг друга, словно на бесконечной воинской перекличке, горланят песни, демонстрируя корпоративное начало. Наши просто «спевают» по три — четыре часа без перерыва, громко, упорно, с какимто вызовом, окружающим.
К этому надо добавить спортивный самолет, без устали выписывающий над пляжем вензеля, и контролирующие озеро вертолеты.
Я убежден, что шум города по меньшей мере столь же губителен для здоровья современного человека, как смог и выхлопные газы.
Над озером Балатон стоит прочный ярко — голубой свет, превращающий воду и небо в единую стихию.
Осень треплет деревья, обрывает с них последнее тряпье листьев. И вдруг синь во всё небо, а по утрам. всё убрано снегом. К Полудню снег стаивает и горят на клумбах последние осенние цветочки: астры, ноготки, фонарики. А над ними свешивается ярко — красный куст барбариса, и дивно зелена трава, и все ветви усеяны синицами, поползнями. Всё, как и прежде, и всё по — новому. Вот чудо жизни: ничто в природе не приедается, не утомляет повторами, всё как в первый раз, даже с годами еще пронзительнее и невыносимо прекраснее.
А в каминной умирает Дарка. Кричит то «ой, ой, ой!», то «ай, ай, ай!». Почти уже не встает, а лицо безмерно милое, нежное, извиняющееся за то, что ещ плохо, что она кричит и что всё с ней так нехорошо получилось.
Яков Семенович всё дальше уходит в свою спасительную глухоту, в свою изолированность. Он творит там свой мир, свои порядки, свои ценности, свои законы. Но иногда он принимает этот мнимый мир за действительный, и тогда происходит большая путаница, обиды для окружающих и опасность для предметов материального мира.
А у меня опять мое, осеннее. Послабее, чем в прошлом году, но тоже не радостно. Внешне всё это выглядит мелкой раздражительностью, какойто бытовой распущенностью, когда человек не желает поступиться никакими малостями своего скверного характера в угоду близким. Я это понимаю, но ничего не могу поделать с собой. Вот тоскато! А если это будет прогрессировать, к чему я приду? К участи Мопассана? Недаром же покойный Минор находил в нас сходство.
Грандиозное заседание редколлегии «Нашего современника», превратившееся прямо по ходу дела в грандиозное пьянство. «Помянем Феликса!» — так это называлось. Недавно назначенный редактором «Молодой гвардии», наш бывший шеф, Феликс Овчаренко, тридцативосьмилетний красивый и приятный парень, в месяц сгорел от рака желудка. Незадолго перед смертью у него желудок оторвался от пищевода, он испытывал чудовищные боли. Мы вместе встречали Новый год. Он был с молодой, очень привлекательной женой, полой какойто юной победительности и веры в будущее. Викулов сказал, что в гробу он выглядел дряхлым стариком.
На редколлегии как всегда прекрасны были В. Астафьев и Е. Носов, особенно последний. Говорили о гибели России, о вымирании деревни, всё так откровенно, горько, по — русски. Под конец все здорово надрались. Я, конечно, разошелся и непонятно зачем отказался от премии за рассказ «Машинистка живет на шестом этаже». Из благодарности, наверное, что меня приняли на равных в этот сельский клуб. Продолжали мы втроем в ЦДЛ, а потом у меня до шести часов утра. Ребята и на этом не остановились. Кончилось тем, что Женю Носова отправили к Склифосовскому с сердечным припадком. Для меня же наша встреча явилась хорошим противоядием от моего обычного низкопробного литературного окружения.
Вчера материлизовался оренбуржец Иван Уханов. Он оказался небольшого роста, с разрушенной нервной системой. Увидев меня, он так разволновался, что весь задергался и не мог наладиться до самого обеда. За обедом, между закуской и щами, он угостил нас невероятной по неаппетитности историей, как деревенский знахарь спас его мать от язвы желудка. В рассказе участвовали стопка спирта и два ведра сине — зеленой рвоты. А в остальном от Уханова славное и чуть горестное впечатление. Подарил маме оренбургский платок, мне бутылку спирта, коньяк и Алле — шампанское. Смотрел на меня влюбленными глазами и таял от благодарности. Мне он казался крепче, увереннее, грубее и статью, и голосом, и всей повадкой. А это настоящая художническая натура — нервная, ранимая, беззащитная. Хорошо, что еще есть такие люди.
Умер Мутовозов, учитель на пенсии из Пскова. Он писал мне замечательные, не бытовые письма с великолепными цитатами, которые я не ленился переписывать при всей своей расхлябанности и небрежности. Когда меня ругали, он вставал на защиту. Дважды посылал в «Литературку» умные, гневные, саркастические письма по поводу их хамства. Однажды его добрый и не полемический отзыв о «Пике удачи» был напечатан. У меня есть его карточка: большое, серьезное, хорошее, сильное и выносливое лицо. Он огорчался последнее время, что я ему не отвечаю. Но его письмаи не требовали ответа: они давали пищу для размышлений, в них говорилось устами Мутовозова или устами других людей о творчестве, одиночестве, сути жизни и сути смерти. Я всё ждал, когда смогу послать ему свою новую книгу и вот дождался — книгу получила дочь. А я почемуто думал, что у него никого нет и не было, кроме жены, умершей три года назад. Он умирал мучительно, от рака предстательной железы. В письме дочери мелькнула серьезная, глубокая и горькая отцовская интонация. И что меня обрадовало, дочь знала ему цену, знала, что он не просто учитель на пенсии, а необыкновенный, редкий и значительный человек. Он был вроде той английской старушки, которая писала письма разным высокопоставленным особам мира с советами по самым разным поводам. Ей никто не отвечал, и односельчане смеялись над ней. Но когда она умерла, на кладбище ее провожали все европейские монархи, американский президент, доктор Альберт Эйнштейн, Томас Манн и Хаксли, Пикассо и Чарли Чаплин. Мутовозов этим людям не писал, но те, кому он писал, никогда его не забудут.
Печальная судьба героев моего нигерийского очерка. Т., руководивший деятельностью Общества дружбы, за два дня до своего отъезда из страны напился до безумия, разгромил дом, побил посуду, сорвал двери и выбил окна. Юный Валерик К., тассовец, избил в пьяном виде консула и был отправлен на работу в Гану. Генсек, его заместитель и глава профсоюзов Нигерии посажены и ждут суда. Им грозят большие сроки. Камрад — чифа прокатили на перевыборах и он утратил свой пост вице — президента Общества дружбы. Президент Общества, министр Нок, проворовался, украл пятьдесят тысяч фунтов. Чиф — Аволова выброшен из правительства и находится под домашним арестом.
Таковы грустные итоги.
Умерла Марья Васильевна от рака пищевода. Два дня Петя плакал и пил у нас на даче. Один день я сопутствовал ему во всем, на другой день спасовал, и он уехал допивать в Москву. Был трогателен, мил, полон любви и благодарности и по обыкновению крайне утомителен. Он не спит ночью, бродит по дому, как дух Кентервилей, томится, мучается и всё порывается кудато ехать.
После Африки и Парижа. Чуть оглушенный, приглядываюсь к окружающему. Все люди словно разгримированы. Немножко жутковато, но и приятно, что видишь настоящие, а не нарисованные физиономии.
Ну вот, опять итоги. Годик, будь здоров! Но сейчас, в исход года, у нас в семье всё благополучно. Мама отлежала по обыкновению лето в больнице с подозрением на рак, оперировалась, облучалась, измучилась, но вышла здоровой. Люся несколько раз теряла сознание прямо на улице и в метро. Но все живы, и это главное. Впрочем, далеко не все. Умер Твардовский, раздавленный, облысевший от рентгенов, обезъязычевшийся, в полусознании. Умер Коненков, осрамленный своей женой, превратившей его в записного щелкопера. Вообще, многие умерли.
Я издал хорошую книжку, но по обыкновению ни одного отзыва не появилось. Был выпущен средний телефильм по «Перекуру». Напечатал хорошие рассказы. Особенно радует, что люди узнали о Борисе Семеновиче[89]. Это, действительно, очень здорово, и надо сказать, его афоризмы произвели на многих хороших читателей громадное впечатление. А сейчас я по — настоящему написал о маме, и это тоже важно. Мы сделали красивее нашу дачу и привели в порядок квартиру. Я похудел и стал больше похож на человека.
Интересно съездили в Венгрию. Прекрасной оказалась поездка в Конго и в Париж через Габон. Пробил двухтомник в Гослитиздате, заставил платить себе лауреатскую ставку. Было триумфальное выступление в Политехническом музее, о каком можно только мечтать в юности; Как и полашется, всё пришло с опозданием, но всетаки пришло.
1972
Вчера вдруг Дару страшно скрючило, она стала задыхать — ся, вытянув шею и странно изогнув голову. Вызвалй ветеринаршу. Она сказала: сердечное, усыплять не надо, сама умрет. Ночь была ужасной. Дара всё время кричала, звала Аллу. Когда Алла спускалась, кричала тише, порой замолкала. Просилась на воздух. Алла открывала дверь, и Дара втягивала в себя, вся содрогаясь, мерзлый воздух. Кузик истошно пищал запертый в каминной. Утром Дару повезли в Москву на такси. Я видел из окна, как ее уводили. Она почти не могла идти, Алла тянула ее за поводок, а Тйт. ьяна Григорьевна подталкивала сзади. А уши были прижаты к голове — обычная Дарина вежливость к тем, кого она любила. И в свой предсмертный час она продолжала отзываться нежностью нам. Она умерла на руках Аллы — буквально — перед самой больницей. Там удостоверили ее смерть. Она умерла таким же морозным днем, как и тот, когда я привел ее в дом. Тогда у нас испортилось отопление, и Дара спала со мной под одним одеялом, и я чувствовал ее трогательно костлявое тело. Как серьезна собака в жизни человека, даже когда она просто так, не для охоты, не для охраны дома. Она окрашивает собой целый период жизни. Вот сейчас кончилась эпоха Дары.
Пора начать серьезно жить. Основания и возможности для этого есть. Я сохранил остатки здоровья, как это ни противоестественно, работоспособность, кое — какую память и любовь к писанию. И пишу я куда лучше, чем раньше. Я начинаю овладевать своим ремеслом. Надо лишь погасить в себе слабый пламень былой суетности и тщеславия, вернее, тщеславных обид, и еще можно коечто успеть. И надо с железным хладнокровием и усмешкой относиться к мелким бесалиям разных Ильиных и иже с ним. Надо бороться с ними — спокойно, целеустремленно, но ни в коем случае не превращать эту мелкую борьбу в содержание своей душевной жизни. Больше величия.
И не нужны мне лжетоварищи, лжедрузья. Уже круг. Достаточно двух-трех людей для общения. Время благоприятствует серьезности.