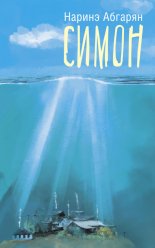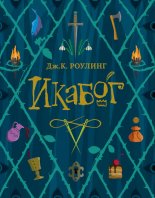Мир и война Акунин Борис

С этим ладно. Теперь амбар.
– Митя! – позвала она. – Тут боле бояться некого! Командуй! Ты знаешь, что делать. Сено и хворост к стенам! Но пока не запаливайте, слышишь?
Была у Катиной надежда, что Бошан, будучи встречен мощным залпом, на мост вовсе не полезет – вообразит, что перед ним целое войско. Тогда можно будет и отсюда овес вывезти.
– А вы разве не с нами? – удивился прапорщик, видя, что помещица поворачивается уйти.
– Я туда, к мосту. Пистолет мой отдай. Он тебе тут больше не нужен, а мне пригодится.
Катина сняла с плеч шаль, замахала ею, оборотясь к опушке. Там ждал конюх Федька. Из тех лошадей, что были захвачены у французов, Полина Афанасьевна отобрала двух порезвей, пригодных для верховой езды. Федор себя ждать не заставил – вынесся на поляну одвуконь.
– Лихова жалко. Каков герой, а? – Митя шел за помещицей. Ему ужасно хотелось поговорить о случившемся. – Его подвиг достоин занесения в анналы! Я ему сказал на прощанье: «Твое имя прославится в веках! Ты воззришь с небес, как будет славить тебя благодарное отечество!».
– Ступай-ка ты, сударь, к амбару. Собирай мужиков. Разожгите побольше факелов, – прервала его Полина Афанасьевна. – А Кузьма на небеса вряд ли попал. Больно звероват был. Легко французов убивал. Богу, чай, все равно, что они нам неприятели. Под землей Кузьма, в геенне огненной. Там героев много.
Только так, ушатом холодной воды и можно было остановить Митенькины восторги.
Но только Катина сказала про огненную геенну, и раздался из земного чрева глухой глас:
– Эй вы, наверху! Оглохли что ли, черти? Да вынайте же меня! Холодно!
Глас был хоть и не вполне внятный, но бессомненно принадлежал геройски погибшему мельнику. У Ларцева глаза стали в пол-лица. Обмерла и Полина Афанасьевна, на самом деле ни в небесное, ни в подземное царство не веровавшая. Но опомнилась первой. Бросилась к колодезному срубу.
Внизу из темной воды торчала косматая башка, белело лицо.
– Наконец-то! – прогудел сердитый бас. – Кто там, не вижу, спускай ведро!
Так вот куда он побежал от повозки, сообразила Катина.
– В колодец прыгнул? Ай да Лихов! – закричал и Ларцев. Перегнулся через край. – Кузьма, миленький, ты жив! Эй, партизаны! Сюда, сюда!
Минуту спустя мокрого мельника обнимали, хлопали по спине мужики. Он отталкивал тянувшиеся к нему руки.
– В-водочки сыщите! Заледенел я!
Ему сунули солдатскую флягу.
Ларцев воздевал руки к солнцу.
– О сколь счастливый день! Клянусь, Кузьма, о твоем беспримерном деянии узнает вся Россия! Я напишу губернатору! Главнокомандующему! Государю! И в «Ведомости»!
Полина Афанасьевна тоже была рада, что Лихов перехитрил смерть, однако Федька уже был тут, кони испуганно храпели, раздувая ноздри на пороховой дым. Пора.
Подобрав юбку, она села на лошадь, похлопала ее меж ушей:
– Ну, ну, тихо! Едем, Федор.
Кто-то взялся за стремя. Повернулась – Лихов.
– Куда, барыня? К мосту?
– Да. Теперь там главное. Надо пособить Фоме Фомичу. Управится ли он, безъязыкий?
– Я с тобой. Слезай, Федька.
Конюх, не дожидаясь, что скажет барыня, спрыгнул на землю. Мельник поднялся в седло.
– Тут боле делать пока что нечего. Едем.
Не предложил, а вроде как приказал. Ударил каблуками в круглые конские бока, поскакал. Что ж, пусть покомандует, заслужил, подумала Катина. И с ним, конечно, надежней.
Разогнались до быстрой рыси, и ехать-то было недалеко, всего с полторы версты, но Катина все же боялась не успеть. После взрыва, верно, миновало не менее получаса. Даже странно, что от моста до сих пор не грянул залп.
– Что-то пальбы не слышно! – крикнула она, поравнявшись с мельником. – Не разбежались ли наши, завидя французов?
– Ништо! – весело отозвался тот. – Обоз длинный, ихние конные, сама видала, повдоль растянулись. Их в кучу собрать, это время нужно. Поспеем!
И сразу стало спокойней.
– За твою доблесть отпущу на волю вас обоих, с Агафьей, – пообещала помещица.
– Воля – вот она! – проорал Лихов. – Ох, славно!
Ишь, рассиялся, подумала Катина. Он и всегда-то был полоумный, а на войне совсем выбесился. Что ж, война и есть сумасшествие. Каково время, таковы и герои. И хорошо, что они есть, без них много не навоюешь.
Кузьма оказался прав. Поспели.
Мост был завален свежесрубленными молодыми деревьями. Мужики лежали по-за кустами, выставив ружья. Сзади похаживал Женкин, боевито покрикивая:
– Двум смэртьям не быват, одной нэ мыноват! Не робэй, рэбьята!
В руке у англичанина была медная дудка, про которую Фома Фомич рассказывал, что она при нем еще с боцманских времен.
– Дудка свистит – пали! Ранше не пали! – приговаривал моряк.
Кузьма, слезши с лошади, присовокупил, убедительно:
– Глядите, мужики. Кто допреж свистка выпалит – зубы вышибу.
И тут же, минуты не прошло, как Катина и мельник спешились, вдали застучали копыта. На том берегу из леса вылетели первые всадники. У переднего на шляпе сверкал позумент. То был сам звенигородский командан.
Скоро на луг высыпал и весь отряд, полсотни или больше кавалеристов. Но до самой реки они не доскакали. Майор разглядел на мосту завал, поднял коня на дыбы, что-то закричал. Прочие тоже стали осаживать. Сбились в кучу, потом кое-как выстроились шеренгой по двое.
– Наобум не полезут, – сказал помещице по-английски Женкин. – Это вояки опытные. Отправят вперед разведчика. Эх, жалко! Кабы все скопом на мост поперли, даже наши паршивые стрелки кого-нибудь да подстрелили бы.
Так и есть. Один спрыгнул на землю, отдал товарищу поводья, пошел вперед. Поступь осторожная, ноги полусогнуты – чуть что, готов упасть или побежать назад.
– Вит, вит! – крикнул Бошан.
Солдат задвигался быстрей, но перед самым мостом опять замешкался.
– Эхе-хе, – шепотом сокрушался Фома Фомич. – Его бы я отсюда легко свалил, но тогда они подумают, что нас тут мало иль что вовсе один стрелок. Ринутся разом и сгоряча прорвутся. Придется потратить залп на этого болвана.
– Свисти уже! – шикнул Лихов. – А то вояки наши зубами стучат. Не драпанули бы.
Женкин поднес ко рту дудку, выдал заливистую трель. Прибрежные кусты оглушительно затрещали, изрыгнули дым и пламя. Стройного залпа не получилось, но это, может, и к лучшему – зато вышло раскатисто, будто палила целая рота.
До француза было недалече, но ни одна картечина в него не попала. Сначала-то он шлепнулся на задницу, но это с перепугу. Тут же вскочил, ошалело сам себя оглядел – должно быть, не поверил удаче – и во всю прыть кинулся к своим.
Бежали от кустов и партизаны, иные даже ружья побросали. Хорошо, с той стороны было не видно, дым прикрыл.
Полина Афанасьевна приподнялась на цыпочки, чтобы заглянуть поверх серой пелены – что Бошан?
Мечется, машет. Шеволежеры слезают с коней. Большинство припали на одно колено, выставили карабины. Другие бегут к деревьям, каждый тянет за собой по четыре лошади. Действуют слаженно, дружно. Верно, не первый раз в подобной переделке. Однако на мост вроде бы лезть не собираются.
Здесь помещица разглядела, что один кавалерист не спешился, а мчит галопом прочь по дороге. Только теперь Катина выдохнула, а то с самого свистка как набрала полную грудь воздуха, так и не дышала.
Получилось! Обманули майора! Отступить не отступил, и это жалко, но послал нарочного за транспортными солдатами. Значит, будет ждать. Пока те построятся, пока сюда доберутся, пока изготовятся к атаке, это час времени.
– Я с мужиками пойду, а ты, барыня, возвращайся к амбару, – подошел Кузьма. – Не сумневайся. Всё исполним, как сговорено. Побежим берегом, потом бродом, потом лесом. На поле все разом кинемся на хвост обоза. Возчики увидят, что нас много – сами разбегутся. Возьмем телеги, укатим к Гнилому озеру.
– Коли с Фомой Фомичом будешь ты, я покойна, – ответила она.
И Женкину:
– Что саблей машете? Много ль от нее проку? Вот вам, сэр [это по-ихнему «сударь»], в подарок мой пистолет, оба ствола заряжены.
Больше Фому Фомича наградить за геройство ей было нечем.
– Хорошая вещь, – обрадовался моряк. – На «Медузе» у судового лекаря был точно такой же, купленный за три гинеи и два шиллинга!
Обратно к вырубке Полина Афанасьевна поскакала одна, в мрачной решимости. Амбар не спасти. Через час французы туда пробьются. А значит, выбора нет…
Правильно сделала, что вернулась. Командир из Митеньки вышел аховый. Мужики разбрелись по лагерю, собирали французское добро, всё подряд: оружие, тарелки, одежду, палаточный брезент. Некоторые успели налакаться из фляжек. Ладно хоть караульные от ямы не отошли, стерегли пленных.
Криками, тычками, пинками помещица быстро навела порядок. Все задвигались, забегали. Вдоль всего амбара, снаружи и внутри навалили разной горючей дряни. Набрали пороху из солдатских лядунок, рассыпали дорожками.
– Зажигай факела! – приказала Катина. – Становись!
Долго собиралась с духом. Сейчас сгорит всё ее богатство, ничего не останется. Как потом жить, чем? Бог знает.
Только что ж теперь кручиниться.
– Жги!
Пламя взметнулось в тридцати или сорока местах. Свой факел Полина Афанасьевна занесла внутрь, запалила пороховой хвост. Шипя и плюясь, огонь побежал к соломенным грудам.
Всё. Кончено.
Выйдя наружу и более на амбар не оборачиваясь, только чувствуя спиной разгорающийся жар, Катина крикнула Ларцеву:
– Бери Александру, бери людей, оставь мне только караульных. Догоним.
Тот ничего не заподозрил. Был доволен, что мужики по его команде построились и идут, куда он ведет.
Ларцев с Сашей для остатнего дела были ни к чему.
Дело было страшное, однако необходимое: перебить пленных французов, чтобы не достались Бошану.
В караульные Катина поставила не абы кого, а мужиков крепких, нечувствительных. С самого начала знала, чем оно всё закончится.
Подошла к яме. Остановилась.
Французы жались один к другому. Их было – пересчитала – двадцать шесть душ. Половина покалеченные, нестоячие.
– Чего ждем, барыня? – негромко сказал Селифан, деревенский скотозабойщик. – Кончать их надо. Я как думаю? Пускай которые ходячие вылазят по одному, вроде как для допросу. Мужики подводят ко мне, я обухом в темя – и готово. Не пикнет. Работы на десять ударов. А лежачих после прямо в яме уходим.
– Пошли отсюда, – повернулась Катина к остальным. – Не будем марать руки окаянством. Французы теперь много не навоюют. Им бы до границы добежать, пока кони с голоду не передохли.
Потом, конечно, она корила себя за слюнтяйство. Покалеченных не убили – ладно, но десяток здоровых возьмут в руки оружие и еще понаделают лиха. Чья будет в том вина? Полины Катиной, ее чувствительного мягкосердечия, за которое сама же она так осуждала покойного супруга.
Даже поделилась своими терзаньями с отцом Мироклем.
Тот молвил:
– Сказано: «Мне отмщение и Аз воздам». Не со всем я в Писании согласен, но в сие верю. Бог иль судьба сама решит, кому и чем воздать.
От такого глупого утешения Полина Афанасьевна отмахнулась, но поп оказался прав.
Мало кто из французов вернулся из России живым. Скоро ударили беспримерно ранние морозы, повалил снег, и пали от бескормицы неприятельские лошади, а вслед за ними сгинули и голодные, холодные солдаты. Воздалось им и за спаленное Вымиралово, и за усадьбу, и за овес. Безо всякого со стороны Полины Афанасьевны окаянства.
Том третий
Мир
Глава XXI
Гость в дом
О том же самом – небыстрой, но неизбежной мзде за всякие злые и добрые деяния – шла застольная беседа в катинском доме год и девять месяцев спустя.
21 июля это было, во вторник, за праздничным ужином. Что праздновали и с кем – о том в свое время, а о справедливости судьбинного промысла завел речь Платон Иванович.
С позапрошлого года в Вымиралове переменилось многое, и не перечислить. Почти всё, иное даже до удивительности. Об этом Платон Иванович тоже рассказал, ради дорогого гостя. Сидение бывшего деревенского старосты за барским столом, в крахмальной салфетке на груди и с бокалом клюквенного морса в руке, тоже было из разряда нововведений.
Оратор был красноязычен и неспешен, но никто никуда не торопился, все слушали с удовольствием, даже про хорошо известное.
– Той злою осенью всем нам представлялось, что Бог отвернулся от чад Своих. Поразил Он нас огнем и мечом, хладом и гладом, всей нашей жизни разрушением. И возроптали многие, вторя Иову многострадальному: «Возопию, и нигде же суд! Пред лицом моим тьма!». И горько сетовали матери, когда в студеных земляных жилищах, средь темного леса, стали умирать слабые младенцы.
Платон Иванович и раньше-то был книжник, а теперь, в новом своем статусе, полюбил выспренность. Его лаудация была пространна и чувствительна.
Поминая тяготы первой после нашествия зимы, вития сказал, что тогдашнее Вымиралово впору было переименовать в «Выгоралово».
– Ничего от села не осталось, одни головешки. Погибла в пламени прегордая усадьба со всеми постройками. И над пустынею высилась только церковь с колокольней. Злой неприятель пробовал сжечь и их, но огонь лишь закоптил каменные стены, и до самой весны средь снежных полей стояло страшное черное нечто, будто храм не Богу, а Диаволу. Но миновало невеликое время, новопобеленная церковь воскресла, яко птица Феникс из пепла, а вместе с нею и наше Вымиралово. Имя ему теперь должно быть «Выживалово»! Открылось нам, что не карал Господь люди своя, а испытывал. Увидев же, что испытание пройдено, прещедро наградил! Ничегошеньки война нам не оставила, лишь рубища и пепелища, а ныне, чудом Божиим, мы благи и преуспеяны как никогда прежде!
Полина Афанасьевна кивала, чтобы не обижать соратника, но внутренне скептицировала. Чуда-то, положим, никакого не было. Помимо рубищ и пепелищ война оставила еще кое-что: сто двадцать крепких французских фургонов, да вдвое столько лошадей. Немалый капитал, который – ежели с умом – можно было обратить в настоящее богатство. А ума помещице хватало.
Первое, что она сделала – еще раньше, чем по дороге на запад ушла вражеская армия – угнала конный поезд подальше в лес и спрятала. Не только от неприятелей, но и от своих. Русская армия реквизировала лошадей и повозки не хуже французской. Надо было переждать, когда военная власть закончится и установится обычная.
Но вот ушел Кутузов бить французов, следом прогромыхали по осенней слякоти многоверстные обозы и отставшие пополнения. В Москве снова воссел губернатор, в искалеченный город стали возвращаться жители, худо-бедно заработали рынки, и Катина начала распродавать свой гужевой транспорт. Шел он нарасхват. Лошади и справные телеги у населения подчистую забрала армия, а всем ведь надо перевозить товар, бревна с досками, дрова. Половина трофеев ушла за неделю, по пятьсот целковых за конную пару с повозкой. Тридцать тысяч рублей! Можно было бы и дороже, если б не спешить, но помещица боялась, что закончится овес. У нее люди и лошади ели одно и то же, другой пищи не было.
С оставшимися шестьюдесятью подводами Полина Афанасьевна распорядилась так: поделила мужиков на артели, отпустила под оброк гужевыми извозчиками. Тут-то настоящие деньги и полились. Москва залечивала великие раны, средь развалин всюду стучали топоры, скрипели пилы, только подвози строевой лес. Скоро Катина уже пожалела, что продала половину фургонов.
В мае она начала ставить новое Вымиралово. Пришлось нанимать по окрестным деревням плотников – свои мужики были нужней на извозе. Для себя и Сашеньки пока что поставила временный сруб в четыре комнатки. Все равно домоседничать было некогда, в сутках не хватало часов для работы.
Уже летом обещание, данное крестьянам, исполнилось: вместо прежних изб поднялись новые. Тогда же отбелили и церковь с колокольней.
А промысел еще только разворачивался. Москва требовала всё больше строительного матерьяла. В особую цену вошел белый камень, который возили в город издалека, из-под Вереи. Платили большущие деньги.
Староста первый додумался расширить дело: не только доставлять матерьял, но и самим строить. Открыл контору на Мясницкой улице, стал нанимать вольных работников – своих крепостных уже не хватало. Вымираловские поля остались пустые, незасеянные. Пускай постоят залежными, наберутся соков, решила Полина Афанасьевна. По выгоде землепашество с московскими промыслами было не сравнить.
Так оно и вышло, что ныне, летом тыща восемьсот четырнадцатого года, Катина сделалась много богаче, чем двумя годами прежде, когда сюда еще не нагрянула война.
Вот чему поражаться надо – странностям судьбы, а не Божьим милостям. Хороша милость, когда столько народу по всей Европе убито-покалечено. Война закончилась еще в феврале, а всё не могут посчитать, сколько людей от нее сгинуло. И как посчитаешь всех умерших от голода, от болезней, от бездомья, да просто со страху?
Вымираловское процветание и катинское скоробогатство были особенно приметны по сравнению с тем, как жили все окрест. Французы спалили не одну деревню, и прочие погорельцы всё еще обитали в землянках, питались впроголодь. Разорились и многие помещики. Некоторые московские дворяне, ранее бывавшие в своих звенигородских имениях наездами, остались без городского жилья и вернулись в родовые гнезда. Те же богачи Мураловы, у которых Катина когда-то купила мертвую деревню, теперь жили по соседству, скромно, чинили худую крышу.
А Полина Афанасьевна только что достроила новый дом – возвела его быстро, в полгода, не скупясь. Белостенный, каменный, чтобы никогда уже больше не сгорел. Сашенька придумала вывести в сад крытую колоннаду, называется «перистиль». Там, на прохладе, все сегодня и сидели. «Птицей Феникс» Платон Иванович назвал Вымиралово, потому что так нарекли усадьбу – Фениксом, в ознаменование ее грядущей несгораемости. Помещица к сим хоромам с высоченными потолками, французскими окнами и бронзовыми шанделябрами пока еще не привыкла. Пустовато было ей в каменных палатах, неуютно. Для себя бы Полина Афанасьевна обустроилась по-другому, но жить тут предстояло Сашеньке, она и руководила архитектором. Бабушка не встревала.
Анфилада из красивых, праздных комнат одним концом упиралась в спальни, другим – в гостевые покои и библиотеку. Прежняя сгорела вместе со всеми книгами, и новая получилась скудной. Александра теперь читала меньше, чем раньше, по московским книжным лавкам почти не ездила. Кто изменился больше всего, так это она.
Была некрасивая девочка-подросток, тощая, мосластая, с большими, как лапы у щенка, ступнями. Но к восемнадцати годам Сашу будто окунули в волшебный эликсир. Сошли прыщики, побелела, зашелковилась кожа, помягчело и занежнело лицо, образовались всяческие округлости. Бывало, часами сидит над книгой, шмыгает носом, а ныне, тоже часами, любуется на себя в зеркало. То так нарядится, то этак, а то, наоборот, разденется и себя по бокам, по талии оглаживает. Недавно освоила папильотки, завивается барашком.
Полина Афанасьевна наблюдала сии метаморфозы с нелегким сердцем. Не знала, что и думать. Казалось, вместе с прыщиками из внучки вышел весь ум. Но может быть, оно к лучшему? Счастливой дурой быть отрадней, чем злосчастной умницей. И потом, кто ж умнеет от любви?
Каждое утро барышня писала по длинному письму, отправляла за границу, в действующую армию – сердечному другу Митеньке. Столь же часто получала ответы толстыми конвертами. Целовала печать, убегала читать к себе, бабушке посланий не показывала.
Ларцев ушел с армией еще в конце двенадцатого года, не долечив руки, и добрался до самого Парижа. Втайне Катина надеялась, что молодой человек в разлуке забудет вымираловскую девицу, найдет какую-нибудь покрасивее и поближе. Но, видно, нет, не нашел. Уже три недели писем от него не было, но это потому что в последнем, из Гамбурга, Митя писал, что отпущен со службы и мчится в Россию. Должно быть, несется быстрее почты, со дня на день прибудет. И когда увидит Сашу в ее новом сиянии, уж точно не разлюбит.
Мысленно Полина Афанасьевна смирилась, что скоро внучка выйдет замуж. Два года назад Мите, пожалуй, родители не позволили бы брать такую незавидную невесту, однако теперь положение другое. Саша стала красавица, с изрядным приданым, Ларцевы же, наоборот, от пожара оскудели. Получится не мезальянс, а равный брак. Еще и по большой любви. Радоваться надо, говорила себе Катина – и старалась. Вспоминала себя юную, как сохла по Луцию, не надеясь на взаимность. Сашенька, слава богу, таких страданий не ведает.
Внучка сидела с рассеянной улыбкой, обмахивалась веером (воздух после знойного дня еще не остыл), мысли ее витали далеко – легко догадаться, где. Почетный гость, сидевший рядом, посматривал на барышню почти с таким же умилением, как бабушка.
Дорогим гостем, которого нынче привечали в усадьбе Феникс, был Фома Фомич Женкин. Он отбыл из Вымиралова тогда же, когда Ларцев, но отправился не за армией, а на Балтику и поступил на корабль. Воевал с французами на морях, писем не писал. Тем больше было радости, когда вчера Платон Иванович приехал из Москвы с нежданным спутником. Женкин ныне сделался капитан-лейтенант российского флота. Следовал в Одессу, к новому месту службы. Перед Катиными он предстал нарядный: в парадном мундире, с треуголкой под мышкою, с золоченой шпагой на боку. Говорить по-английски отказывался – только по-русски.
Вчера допоздна рассказывал про всякие морские приключения, а сегодня в честь героя был устроен ужин. Пригласили отца Мирокля с супругой, так что за столом были только свои. Хорошо было. Приязненно и отрадно.
Фома Фомич стал говорить ответную речь, и все восхищались, до чего складно бывший англичанин изъясняется по-нашему. Конечно, чувствовалось, что некоторые тонкости языка от моряка ускользают, и выбор слов у него, скажем так, небезупречен. Например, описывая бой близ Гааги, за который Женкин удостоился ордена Святой Анны, бравый мореплаватель называл капитана корабля «наш старый пэрдун», а своих храбрых матросов «мои засранцы», и то были еще не самые сочные выражения. Слушательницы однако не морщились и увлекательного рассказа не прерывали. Нужно ведь было учитывать, в какой среде Фома Фомич изучал отечественную словесность.
Потом Женкин начал дарить привезенные из плаваний подарки, никого не обошел. Отец Мирокль получил перламутровое распятье – правда, католическое, но моряк в подобных нюансах не разбирался, ему все исповедания кроме родного англиканского были едины. Попадье достался чудесный черепаховый гребень. Ради такого случая Виринея спустила на плечи платок, явив всем свои прекрасные черные волосы, но тут же снова покрыла голову. Платон Иванович обрел серебряные часы на цепочке и, хоть теперь носил в кармане золотые, все равно умилился и прослезился. Своей любимице Александре путешественник привез набор хирургических инструментов – откуда ему было знать, что дева поглупела и больше обрадовалась бы черепаховому гребню. Медный ящичек открыла Виринея, стала с интересом перебирать ножички, хитрые крючки, пилки. Пока Фома Фомич доставал из вояжного сака следующий дар, произошел обмен: лекарский прибор перешел к попадье, гребень – к барышне, и та немедленно принялась рассматривать себя в зеркальце.
Напоследок оборотясь к хозяйке, британец – в руках у него был какой-то плоский ящик – стал благодарить ее за многие милости и «чертовскую доброту», в особенности поминая некогда подаренный двухствольный пистолет, который при блокаде Гамбурга, «в хреновой оказии», спас женкинскую «старую шкуру». Фома Фомич хотел рассказать про то свое приключение, но при слове «Гамбург» Сашенька отложила зеркальце и спросила, сколь долго добираться от этого города до Москвы и не следует ли тревожиться, ежели некто движется сим маршрутом уже три недели, а всё никак не прибудет.
– Должно быть, задержался в Петербурге, – сказала Полина Афанасьевна, злясь на дурочку, что та променяла научный подарок на безделицу. – Распускает хвост перед тамошними красавицами. Они, чай, без кавалеров соскучились.
Но Сашенька не омрачилась.
– Мой Митя не из породы изменников, – уверенно молвила она.
И разговор повернул в другую сторону. Фома Фомич спросил, настигла ль расплата за измену вражеских пособников – подлого предателя Варраву и капитан-исправника Кляксина.
Оба ушли с французами, и про дьячка ничего известно не было – сгинул. А вот про Кляксина в уезде сказывали, что он вместе с многими неприятелями взят в плен на реке Березине, осужден и сослан за Урал. Полина Афанасьевна высказала предположение, что бывший исправник там не пропадет. «Средние люди» – они везде устроятся. По поводу же пономаря в поповской чете возник спор. Добрый отец Мирокль предположил, что Варрава, пройдя чрез тяжкие испытания, переродился и сейчас, может быть, стал совсем другим человеком. Матушка Виринея, напротив, высказала надежду, что «поганый стручок» сдох где-нибудь в придорожной канаве и его расклевали вороны.
Беседа, впрочем, была благодушной и длилась до лунного восхода, а потом вся компания отправилась прогуляться по прохладе.
Ночь выдалась пресветлая. Наверху сияла почти идеально круглая луна, так что фонарь за ненадобностью погасили.
Шли широким лугом, затем берегом Саввы вверх по течению. Река тихо журчала, мерцала серебряными чешуйками.
Что ж, умиротворенно размышляла Полина Афанасьевна, мне шестьдесят четыре года, поздняя осень жизни – хорошая пора. Урожай уже собран, зимние морозы еще не грянули, время отдыхать, любоваться золотою листвой, греть старые кости у камина. Приедет Митя, сыграем свадьбу. Пусть молодые живут в доме, а себе надо выстроить эрмитажец в глубине сада, не путаться под ногами, не мешать их счастью. Не то съедут в Москву или того дальше, и сиди тут одна…
Впереди уже был слышен плеск воды у плотины, виднелась новая мельня, выстроенная вместо той, которую сожгли французы. Лихов с войны еще не вернулся, на мельнице управлялась Агафья – не хуже, чем при Кузьме, для того ей в помощь были выделены два работника. Горбунья исправно платила аренду, и сама в накладе не оставалась. Недавно построила склад, прикупила лошадей. Муж будет ею доволен.
Идти дальше плотины, на пруд, Катина не захотела. Сейчас было не время приближаться к могиле сына. Дойдя до высоких дубов, Полина Афанасьевна повернула обратно.
После выпитого вина в горле сушило. Она спустилась с берега, присела на корточки, зачерпнула ладонью искристой влаги – и ахнула.
В двух или трех шагах, на мелком месте, белело девичье лицо с печально сомкнутыми очами. Длинные волосы плавно шевелились, колеблемые течением. Видно было и тело, укрытое водой до половины. В нижней своей части оно изогнулось, как русалочий хвост, будто вовсе лишенное костей.
На вскрик подбежала Сашенька, тоже закричала.
– Туда смотри! – ткнула Катина на небесное светило. – Прошлой ночью было полнолуние!
И обе затрепетали.
Глава XXII
Краса до венца, а ум до конца
Потом было еще много шума, метаний и ужасаний. Последние исходили только от мужчин – Платона Ивановича и отца Мирокля. Женщины, все три, сидели на корточках над вытащенной из реки покойницей, в шесть рук ощупывали скользкое тело.
– Девчонка совсем, лет пятнадцать, – говорила попадья. – Не наша.
– Бабушка, ноги все переломаны, как у тех, – сообщала Саша. – Но нужно оглядеть труп при свете, как следует. Проверить, совпадает ли фиксацион на кудрявые волосы и чистую кожу.
Полина Афанасьевна для верности еще осмотрела запястья. Ободраны, и следы веревки.
– Вернулся, ирод, – молвила она, поднимаясь. – Платон Иваныч, будет вам причитать. Ступайте на мельницу. Телега нужна. И мужиков Агафьиных зовите.
– Господи, что же теперь будет? – Сашенька дрожала, обхватив себя за плечи. – Неужто сызнова начнется?
– А то и будет, что ныне мы его, душегубца, уж добудем, – ответила Катина.
Она ощущала странное облегчение. Во-первых, от того, что покойница не своя, а чужая. Во-вторых, от того, что убийца где-то недалече и заплатит разом за всё. В-третьих, обрадовалась, что внучка опять поумнела. Воистину, не было бы счастья, так несчастье помогло.
Прибыли двое мельничных работников с телегой. Крестясь, погрузили тело, от пояса вниз текучее, как кисель. Медленно повезли.
В распахнутых воротах ждала Агафья. Была она не по-всегдашнему и тем более не по-ночному нарядна: в городском платье, сапожках, оборчатом чепце. На озаренном луной лице – вот странно – сияла улыбка.
– Ты чему радуешься? – поразилась помещица. – Тут, вишь, беда какая.
– Кузьма Иванович вернулись, – тихо засмеялась горбунья. – Мне нынче любая беда нипочем.
– Кузьма вернулся?! – поразилась помещица. – Где же он? Почему не вышел?
– Не доехал еще, в Звенигороде он. Весточку прислал, собственной рукой писанную. Грамоте выучился! – похвасталась счастливая Агафья. – Его завтра уездные начальники чествовать будут за беспримерные военные геройства.
– Да, я слышала, что он явил себя в армии молодцом и многажды награжден. Очень за тебя рада. Но что же ты не поедешь быть с мужем в такой торжественный час?
– На что я ему там, горбатая? Позор один. – В голосе мельничихи не было ни малейшей горечи, одна лишь радость. – Мне довольно, что Кузьма Иванович завтра сюда пожалуют. Сызнова я при нем буду!
Катину потянула за руку Сашенька, отвела в сторону, горячо зашептала:
– Выходит, я тогда права была! Это он, Лихов!
– В чем права?
– Он убивал! Его рук дело!
Полина Афанасьевна рассердилась:
– Что ты несешь? Совсем ум растеряла! Кузьма тут еще и не был. Сама ведь слышала.
– Далеко ль отсюда до Звенигорода?
И стала Катина внучку корить: как-де ты можешь говорить такое про Лихова после всего, что было. Вспомни, как он чуть жизнь не положил, взрывая французов, как ему твой Митя салютовал, как ты сама потом мокрого, продрогшего Кузьму обнимала.
Но Александра не устыдилась.
– Все время, пока мельника не было, никого у нас не убивали, а стоило ему вернуться – опять началось. Что вы, бабушка, на это скажете?
– А то и скажу… – Полина Афанасьевна задохнулась от негодования. Очень ее расстроило, что внучка такая бессердечная. – Почем ты знаешь, что не убивали? Мало ли после ухода французов находили по округе покойниц? Каждый божий день! Сколько народу со своих мест поднялось! Кто от разоренных сел в Москву потянулся, кто, наоборот, назад, домой! Ты вспомни, сколько было замерзших, потонувших, ограбленных? Никто не разбирался, не до того было. А и после, даже до сего времени, нищих-бродяжных ненамного меньше стало, и тоже мрут. Нескоро еще Россия оправится от лихолетья. Главное же, припомни: когда последнюю маниакову жертву из реки вынули? Которая сразу сгнила-то? Когда Лихова уже не было, он в ополчение ушел. То, что новая убиенная явилась, когда Кузьма с войны вернулся, это совпадение.
На последний довод Александре возразить было нечего. Она со вздохом кивнула, согласилась:
– С той жертвой это да. Я читала, в английском суде слово есть, alibi, по-латыни означает «в ином месте». Когда кого-то подозревают в преступлении, а у него всем очевидное alibi, англичане такого не судят.
– Тут и без англичан ясно, незачем по-латински мудрствовать! – все еще не досердилась Катина. Да вдруг как хлопнет себя по лбу. – Постой-ка… А может, никакое это и не совпадение! Что если оно нарочно подгадано?
– Как это?
– Маниак все это время был где-то близко. И откуда-то знает, что мы тогда думали плохое про Кузьму. Два года злодей таился. Возможно, никого не убивал. Вчера было полнолуние, и стало извергу невмоготу, а тут известие, что Лихов вернулся. Вот душегуб и решил себя потешить, в надежде, что мы с тобой на Кузьму подумаем.
У Саши расширились глаза.
– Но тогда… тогда это совсем близкий кто-то. Кто нас знает. И всё про нас ведает… Даже то, что мы обсуждали только промеж собой…
Видя, что внучка испугана, Катина решила про страшное, да ночью, да по соседству с мертвым телом, больше не говорить.
– Ладно. Утро вечера мудренее. Тогда и потолкуем. Эй, везите телегу в усадьбу!
Но утром, когда помещица встала и вышла к кофею, Александры дома не было. Прислуга сказала, что барышня едва свет принарядилась, уехала кататься верхом.
Удивившись, Катина спросила:
– Принарядилась?
– В узкое малиновое платье с хвостом, которое давеча из Москвы доставили, и еще шляпу надели с лентами, розовую, – сообщила горничная. – Я им говорю: «Жалко платье в седле-то трепать», а они мне: «Дура ты, Стешка. Оно для того и пошито, мазонка называется».
– Еще и амазонкой поехала? – пуще прежнего изумилась Полина Афанасьевна. Обычно Саша каталась верхом попросту, по-мужски.
В гости, значит, отправилась. Но почему с утра пораньше? К кому? И это после страшного ночного события!
Выходит, показалось вчера, что пробудилась прежняя быстроумная Александра. Один ветер в голове…
Труп помещица осматривала одна. Занятие и так было невеселое, а из-за Сашиного досадного вертопрашества вдвойне.
Никаких сомнений в том, что убийство точь-в-точь такое же, как позапрошлогодние, не осталось.
Кожа у покойницы была гладкая, белая, чистая. Высохшие волосы кудрявились. Кости внизу все переломаны, таз от ушиба синий. Про содранные запястья было ведомо еще вчера.
Никаких дополнительных следов или улик Полина Афанасьевна не нашла, но при свете дня лицо убитой показалось ей смутно знакомым, где-то когда-то виденным. И лапти были розоватой липовой коры – ею славилась роща, принадлежавшая графу Толстому. Не из его ли людей девка?
Послала за графским управляющим.
Тимофей Петрович приехал, опасливо взглянул на мертвую. Сначала поморщился от наготы, потом ахнул:
– Это же Наталка, дочка нашей птичницы! Ах, ужасы! Ах, беда! Мать ее, Таисья, вдова. У ней кроме Натальи никого! Вчера Таисья всюду бегала, дочку искала. Та ушла третьего дня вечером в лес и не вернулась. До чего была девка славная! Всё-то поет…
От сокрушений Тимофей Петрович перешел к испугу.
– Господи, неужто снова Лешак вызверился? Народ узнает – замутится.
А народ уже замутился, Катина это видела по собственной прислуге. Во дворе ни души, все забились по щелям. И в селе, конечно, тоже знают. Можно даже не гадать, какая сорока разнесла – Марфа Колченогова, она ночью во дворе из окошка выглядывала, телегу с покойницей видела, а об остальном догадалась. Вот ведь ушлая баба! Ее муж через французов помер – тот самый Ваньша Тележник, которого Виринея сонной травой успокоила. Только вдовела Марфа недолго. В первую же зиму окрутила пленного французского сержанта, взяла в мужья. Был он раньше Жером Вуатюрье, а стал Ерема Француз, потому что настоящую фамилию никто в деревне выговорить не умел. Совсем Марфа иностранного человека приручила. Он и в православную веру покрестился, и бороду запустил и даже в крепостные записался – жена заставила, чтоб от нее не сбежал. Катина поселила его при усадьбе – оказался на все руки мастер. Когда крестьяне увидели, что человек он хороший, перенарекли из Еремы Француза в Ерему Колченогого – чтоб не обижать (переломанная нога у сержанта срослась криво).
Делать нечего. Пришлось просить Платона Ивановича по старой памяти идти в село, успокаивать крестьян. Фому Фомича помещица спровадила в Москву, не до него было. Англичанин хотел задержаться, пока убийца не будет пойман, и обещал самолично его вздернуть на рее, но в сыске от моряка никакого проку не было. Полина Афанасьевна его расцеловала, посадила в бричку, дала в дорогу всяческой провизии и отправила.
Александра вернулась в середине дня, красивая, как картинка, в своей амазонке.