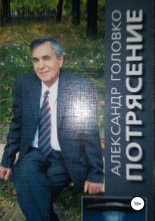Сага об угре Свенссон Патрик
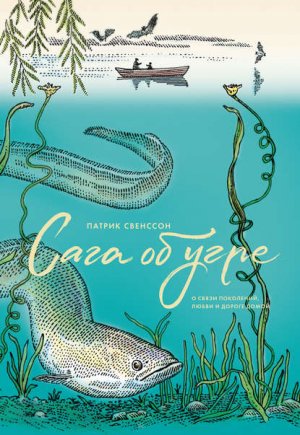
Естественно, существуют разные взгляды на то, насколько важно найти угря в Саргассовом море. Некоторые ученые считают, что это не принципиально: мы и так знаем, что угри идут на нерест туда. Другие говорят, что знания человека о жизненном цикле угря всегда будут незавершенными, пока никто не наблюдал угря на нерестилище. Для этих ученых ускользающий угорь — нечто вроде священного Грааля естественных наук.
В последние десятилетия некоторые ученые, в том числе Джеймс Мак-Клив, начали поднимать другой неудобный вопрос: поскольку мы не можем отследить путь всех угрей к истокам, строго говоря, ни одного из них, — как мы можем вообще быть уверены, что угорь размножается только в Саргассовом море? Правда, Йоханнесу Шмидту понадобилось почти двадцать лет, чтобы найти самые мелкие «ивовые листочки» именно там, однако он обследовал лишь ничтожную часть Мирового океана. Шмидт и сам писал в 1922 году, что пока на предмет личинок угря не обследован весь Мировой океан, невозможно с уверенностью сказать, где угорь нерестится, — по крайней мере, где нерестятся все угри. А до сих пор практически все экспедиции, занимающиеся угрем, сосредоточивались на уже известных областях в Саргассовом море. А вдруг часть угрей отправляется в иное место? Скорее всего, это не так, но откуда мы знаем?
Кроме того, Саргассово море само по себе большое. Является ли оно единым нерестилищем или в его пределах располагается несколько нерестилищ? Нерестятся ли европейские и американские угри в одном месте или же в разных? Ряд ученых — среди них Фридрих-Вильгельм Теш — считают, что американский угорь нерестится в западной части Саргассова моря, а европейский держится восточнее, хотя эти зоны пересекаются. Другие считают, что на основании находок лептоцефалов различных видов таких выводов сделать нельзя. Единственное, что нам известно, — что прозрачные «ивовые листочки» покидают Саргассово море, европейские и американские вперемешку, и беспомощно плывут с мощным океанским течением, в то время как их родители, судя по всему, остаются на месте, умирают и разлагаются.
И по сей день все ведущие зоологи и морские биологи, лучше всех разбирающиеся в угрях, вынуждены делать оговорки. «Мы полагаем…» — пишут они. «Данные указывают…», «Можно предположить, что…». Терпеливо исключая наименее вероятное, наука медленно продвигается в сторону вероятного, которое, в свою очередь, все ближе к истине.
Например, можно предположить, что факты, касающиеся японского угря — ближайшего родственника нашего, — касаются и европейского угря тоже. А когда речь заходит о японском угре, некоторые классические компоненты вопроса об угре менее загадочны.
Японский угорь, Anguilla japonica, выглядит примерно как европейский. Его жизненный цикл в общем и целом такой же. Он вылупляется из икринки в океане и плывет в виде прозрачного «ивового листочка» к побережью. Затем превращается в стеклянного угря и поднимается в водоемы Японии, Китая, Корейского полуострова и Тайваня. Становится желтым угрем, долгие годы живет в пресной воде, через много лет превращается в серебристого угря и скатывается в океан, где размножается и умирает.
Но когда речь заходит о размножении, о том, где и как оно происходит, то надо сказать, что японский угорь долгое время представлял собой еще большую загадку, чем европейский. Только в 1991 году ученым удалось установить, где он нерестится. С такой же самоотдачей, как и Йоханнес Шмидт, хотя и не так долго, японский морской биолог Катсуми Цукамото плавал по морям со своими сетями и инструментами в поисках самых мелких лептоцефалов. Однажды осенней ночью 1991 года ему удалось найти экземпляры, которым было несколько дней — или даже несколько часов — от роду. Это случилось далеко в Тихом океане, к западу от Марианских островов.
Всего через несколько лет после этого открытия было обнаружено нечто еще более сенсационное. Осенью 2008 года группе ученых из Токийского института исследования атмосферы и океана удалось поймать взрослых японских угрей как раз в том месте к западу от Марианских островов, где они размножаются. Они поймали одного самца и двух самок. Все трое уже отнерестились и были в плохом состоянии. Вскоре все трое умерли. Но это означало, что азиатская версия священного Грааля естественных наук наконец-то обнаружена.
Хотя — что все это означает? Строго говоря, ничего, по словам одного из ученых, принимавшего участие в экспедиции, — Майкла Миллера. Все это не доказывает ничего, кроме того, что уже было известно. Мы знали примерно, где угри размножаются. Но мы по-прежнему не знаем, где именно, как они добираются туда и скольким из них это удается. Мы по-прежнему не видели, как они размножаются. Мы не знаем почему. Почему «почему»?
Загадочное притягивает, однако кое-что говорит в пользу того, что новые компоненты вечного вопроса об угре рано или поздно будут разгаданы. В Японии не только обнаружили живых серебристых угрей после нереста — там ученые сделали то, что еще никому не удавалось ни с европейским, ни с американским угрем. Удалось заставить японского угря, Anguilla japonica, размножаться в неволе. Еще в 1973 году ученые Университета Хоккайдо сумели извлечь икринки из половозрелых самок угря и искусственно оплодотворить их, так что из икринок вылупились личинки. Эти эксперименты были продиктованы не столько заботой об угре, сколько чисто материальными соображениями. Угорь — очень популярный продукт японской кухни, за ним стоит многомиллионная индустрия. Если бы угря удалось разводить, как делают, например, с лососем, это обеспечило бы стране куда больше угря за меньшую себестоимость. Поэтому рынок готов вкладывать большие суммы в исследования, позволяющие сделать это возможным.
Однако и здесь угорь, что неудивительно, выказал весьма слабое желание сотрудничать. Сенсационные прозрачные «ивовые листочки», полученные путем искусственного оплодотворения в Университете Хоккайдо, едва вылупившись из икринок и прочувствовав отсутствие океанского течения в своем аквариуме, тут же все до одного умерли. Маленькие лептоцефалы просто объявили голодовку. Чем бы ни пытались японские ученые накормить прозрачных крошечных существ, те отказывались есть и умирали.
В течение многих лет со многими поколениями искусственно созданных, но столь же недолговечных лептоцефалов японские ученые пытались выяснить, как же сохранить жизнь новорожденным личинкам угря. Что они едят? Ответа на этот вопрос никто не знал. Никому не довелось наблюдать, чем они питаются на воле. Опробовали огромное количество различных питательных веществ. Планктон, икра других рыб, микроскопические коловратки, частицы осьминогов, медуз, креветок и мидий. Лептоцефалы упорно продолжали свою голодовку и предсказуемо умирали — все до единого.
Понадобилось еще тридцать лет, прежде чем ученые создали блюдо, которое лептоцефалы изволили скушать. Это был порошок, сделанный из сушеной икры акул, и при помощи этого деликатеса удалось поддерживать жизнь в нескольких личинках целых восемнадцать дней. Это стало сенсацией и новым рекордом, однако ученые еще пока очень далеки от ответа на вопрос, как вырастить в неволе прозрачные «ивовые листочки», чтобы они превратились во взрослых угрей, которых можно подавать к столу.
Угри продолжали упрямиться и портить ученым жизнь и другими способами. Хотя ученым удалось заставить их есть — к тому же со временем диета совершенствовалась, так что некоторые особи доживали до стадии стеклянного угря, — большинство из них по-прежнему умирало всего через несколько дней. Только четыре процента новорожденных угрей прожили пятьдесят дней и один процент — сто дней. Количество тех, кто успевал вырасти и превратиться в стеклянных угрей, по-прежнему оставалось ничтожным.
Помимо этого, лабораторные угри вели себя иначе, чем обитающие в море. Пойманные для эксперимента самки производили в неволе значительно меньше икринок, чем на свободе. К тому же оказалось, что все угри, вылупившиеся в лаборатории, — самцы. Никто до конца не понимал, почему так получилось, но ученые начали делать стеклянным угрям инъекции эстрогена, чтобы таким искусственным путем создать самок. В 2010 году японским ученым впервые удалось замкнуть жизненный цикл угря, то есть получить икру и затем лептоцефалов от угрей, рожденных в лаборатории. Но в результате использования гормонов большинство потомства родилось с тяжелыми уродствами. «Ивовые листочки» выглядели совсем не так, как те, которых вылавливали в открытом море, у них были странно деформированные головы, да и плавали они с трудом. Казалось, угри отказываются передавать другим контроль над своим воспроизводством. Словно их существование — их глубоко личное дело.
И по сей день ученые работают над тем, чтобы найти методы — если они вообще имеются — для выращивания угря в неволе, что много значило бы не только для японской кухни, но и впоследствии для выживания угря по всему миру. И по сей день ученые очень далеки от своей цели. Но с новыми временами приходят новые методики, научные идеи и инновации, и для того, кто сегодня хочет поближе изучить угря, есть немало надежд и перспектив. Вероятно, вскоре будет придуман такой миниатюрный и легкий передатчик, что он запросто сможет проследовать с серебристым угрем до самого нерестилища в Саргассовом море. Возможно, тогда удастся с еще большей точностью указать точку на карте, где происходит нерест, а потом, отследив достаточное количество угрей, подтвердить или опровергнуть теорию о том, что существуют и другие их нерестилища. И тогда легче будет понять, что осложняет путь угря обратно к истокам. И даже, вероятно, что-то по этому поводу предпринять. Возможно, европейские и американские ученые, по примеру своих японских коллег, научатся оплодотворять икринки европейского и американского угря и помогать личинкам вылупляться в неволе. Может быть, эти искусственно выведенные угри выживут, вырастут достаточно большими и здоровыми, чтобы их можно было съесть. Или, само собой, чтобы быть выпущенными на свободу.
Оптимистично настроенный человек сказал бы, что это всего лишь вопрос времени. Если есть желание и достаточное количество времени, наука постепенно разрешит все загадки, ждущие решения. Вопрос об угре веками оставался открытым, но опыт показывает, что человек рано или поздно даст на него ответ. Дайте срок!
Беда в том, что для угря срок истекает.
Стать сумасшедшим
Помню бабушку на газоне, со склоненной головой и вытянутыми вперед руками. В руках у нее раздвоенная ветка, которую она отломила от стоящей тут же яблони. Впервые я увидел хождение с лозой.
Она медленно пошла по траве прочь от яблони, свернула налево, потом направо — осторожно, словно каждое движение было шагом в неизведанное. Взгляд у нее был отсутствующий, как если бы она забыла о нас, стоящих рядом и наблюдающих за ней.
Внезапно она остановилась, ее руки дрогнули и устремились вниз. Казалось, ветка тянула ее с огромной силой, рвалась, будто пытаясь вырваться из рук. Тут бабушка подняла глаза, рассмеялась и сказала: «Не могу этого объяснить. Она все делает сама. Я даже не шевелюсь».
Папа покачал головой, подошел к ней и положил одну руку на раздвоенную ветку. Так они и держали ее вместе, медленно двигаясь рядышком по кругу по траве, словно в странном замедленном танце, а вернувшись обратно на то же место, остановились, и руки бабушки снова потянуло вниз с огромной силой. Папа поднял глаза и тоже засмеялся, а ветка все продолжала рваться.
— Я с трудом могу ее удержать.
Когда он отпустил, бабушка замерла на месте. Держа перед собой ветку, она с удивлением рассматривала ее.
— Нет, я не могу этого объяснить. Но я это чувствую. Она как бы сама меня тянет.
— Ничего не понимаю, — пробормотал папа.
Однажды вечером у реки папа отставил ведро с рыболовными снастями и отломил от ивы раздвоенную ветку. Оборвав листья, он держал ее перед собой.
— Ну что, попробуем?
Я чуть нервно кивнул, а потом наблюдал, как он медленно пошел прочь в своих ярко-желтых прорезиненных штанах и больших резиновых сапогах. Осторожно, ставя ноги немного косолапо, он пошел вдоль реки, прочь от меня, по упругой мокрой траве, а когда он обернулся, я увидел лишь его силуэт в лучах вечернего солнца: он стоял, держа в руках ветку, осторожно и как бы даже неохотно, словно она вела его куда-то, куда он не стремился попасть. Потом он снова прошел весь путь обратно ко мне, и ничего не произошло; подойдя, он остановился, кинул ветку в траву и покачал головой.
— Нет, ничего не происходит. Наверное, у меня нет способностей к этому делу.
Тогда ни я, ни папа не знали, что есть простое объяснение тому, почему движется лоза. На самом деле оно существует уже сто пятьдесят лет. Проводились бесчисленные научные эксперименты для проверки способности лозы находить под землей воду, нефть и металлы. Практически все эксперименты показали, что это не работает. Лоза не дает никакой информации о том, что есть и чего нет под землей.
Тем не менее она движется. Иногда даже удается доказать, что человек, держащий лозу, осознанно на нее не влияет. Объяснением является то, что в науке называют идеомоторными актами. Это непроизвольные мелкие мышечные сокращения. Их нельзя назвать осознанными действиями — они скорее выражают чувство, мысль или представление у конкретного человека. Иногда их еще называют эффектом Карпентера — по имени английского физиолога Уильяма Карпентера, впервые описавшего этот феномен в 1852 году. Кстати, тот же феномен скрывается за движениями планшетки по доске «Уиджа»[9].
Иными словами, человек, держащий лозу, сам того не осознавая, заставляет ее указывать в землю мелкими, едва заметными движениями. Но для того, чтобы это сработало, у человека должна быть идея или представление — неосознанная воля, ведущая его к определенному месту. Необязательно к верному месту, если человек ищет металл или воду, но к какому-то месту. Что находит его подсознание именно в этом месте, где лоза рвется у него из рук? Почему мышцы сокращаются в этом месте, а не в каком-то другом?
Этого идеомоторный эффект объяснить не может. Возможно, это связано с более тонкими ощущениями органов чувств. Или же мы неосознанно считываем свое окружение и делаем выводы, сами того не понимая. Как бы то ни было, мы постоянно совершаем такой неосознанный выбор. Хотя порой, возможно, лишь случай определяет, когда пора сокращать ту или иную мышцу. Когда пора остановиться или пора уходить.
Бабушка верила в Бога.
— Он велик, — говорила она. — Он больше, чем ты можешь себе представить.
— Больше, чем дедушка?
— Гораздо больше!
В церковь она не ходила, однако в Бога верила. В Иисуса, в непорочное зачатие и в воскресение из мертвых. А также в загробную жизнь, где она встретится со своей матерью и отцом, со старшими братьями и сестрами, с мужем. А потом и с сыном. И еще она верила в домовых. Одного она видела собственными глазами, когда в возрасте пятнадцати лет работала служанкой. Однажды поздно вечером она шла домой по проселочной дороге, и вдруг рядом с ней у края дороги появился он. Домовой. Весь в сером. Ростом не больше метра. Бабушка была не одна — с ней шла подруга, которая тоже видела домового. Некоторое время странное маленькое существо шло рядом с ними, а потом исчезло.
Я ни во что не верил. Меня водили в церковь на детские занятия, но потом меня оттуда выгнали, потому что я ни минуты не мог усидеть спокойно, а когда мы с классом ходили на экскурсию в церковь, я поднял руку и спросил пастора: «А кто вообще все это придумал?»
Папа тоже был неверующий. В свое время он ходил в народную школу, где учили родословную королей и читали Евангелие, но папа не признавал авторитетов. Ни в домового, ни в Бога он не верил.
И только когда речь заходила об угре, мы начинали ощущать неуверенность.
Однажды мы поставили с вечера удочки, а когда проверяли их утром, то поймали только одного угря. Правда, он был довольно большой, весом около килограмма, серо-желтый, с широкой головой. Мы, как обычно, положили его в ведро с водой и отнесли в гараж.
Во второй половине дня я пошел поменять ему воду и обнаружил, что угорь исчез. Ведро было высокое, белое, вода в нем не доходила до краев сантиметров на двадцать. А угорь смирно лежал на дне, когда я последний раз заглядывал к нему, и лишь слегка шевелил жабрами. Теперь его не было. Ведро стояло на прежнем месте, все так же с водой, но без угря.
Я не знал, что и подумать. Сначала я решил, что он выбрался из плена и уполз. Однако гараж был закрыт. Я поискал вокруг ведра, но угорь и вправду бесследно исчез. Неужели папа уже почистил его? Без меня? В это трудно было поверить, но спросить я не мог: его не было дома и он должен был вернуться поздно. Наверное, он все же что-то сделал с угрем до того, как уехать.
Когда папа вернулся вечером домой, я встречал его, едва он вылез из машины.
— Ты забрал угря?
— Угря? Но ведь он в ведре!
— Нет, его там нет. Кто-то его украл.
Мы зашли в гараж и некоторое время стояли неподвижно, уставившись на пустое ведро. Теперь и папа убедился, что угря там нет.
— Не думаю, чтобы его кто-то взял, — сказал он. — Кому и зачем понадобился угорь? Скорее всего, он удрал. Лежит здесь где-нибудь.
Мы перевернули весь гараж. Там было грязно и полно всякого барахла. Доски, лестницы, инструменты, ящики из-под напитков, лопаты, грабли, ведра, ящики для картошки и рыболовные снасти. Мы передвинули каждый предмет, обыскали все укромные места.
Он лежал в самом дальнем углу, за резиновыми сапогами. Неподвижный, покрытый пылью и камешками. Я взял его в руки — тело было холодное и мягкое. Кожа пересохла, стала шершавой от пыли. Он висел у меня в руке, как грязный носок, глаза были стеклянные и безжизненные.
Он явно был мертв. Провел на суше как минимум часов пять-шесть. А то и еще больше.
— Положи его в ведро, я потом вынесу, — сказал папа.
Я опустил его в воду и некоторое время смотрел на него. Сначала он лежал на поверхности вверх светлым животом. Потом внезапно перевернулся. Тело начало извиваться, голова задвигалась из стороны в сторону, и он принялся медленно-медленно плавать в ведре по кругу, открывая и закрывая жабры.
Такое мне приходилось видеть и раньше. Ранним утром у реки, когда еще не до конца рассвело, мы спустились по склону и подошли к удочке, поставленной на небольшом уступе, поднимавшемся над водой на метр. На леске, свисавшей с уступа, висел угорь. Не в воде — он висел в воздухе, головой почти на уровне удилища, а кончиком хвоста в нескольких сантиметрах от воды.
Я слыхал об угрях, которые, схватив добычу, стремительно вращаются всем телом вокруг собственной оси. Этот угорь вращался с такой бешеной скоростью, что запутался в леске, и продолжал вращаться до тех пор, пока не повис в воздухе.
Теперь он висел неподвижно, свесив голову набок. Я взял его в руки. Несколько метров толстой лески обмоталось вокруг него, прорезав кожу и оставив по всему телу кровавые полосы, словно его подвергли бичеванию. Я осторожно освободил его от лески, — угорь у меня в руках был мягкий, тяжелый и мертвый. Тогда я положил его в ведро и увидел, как он всплыл кверху брюхом; прошло десять секунд, двадцать секунд — потом он медленно повернулся и начал плавать по кругу.
Есть обстоятельства, когда каждому приходится выбирать, во что верить, и я, сколько себя помню, всегда больше верил в то, что человек считает доказательным: науку предпочитал религии, рациональное — трансцендентному. Но угорь спутал мне все карты. Для того, кто хоть однажды видел, как угорь умирает, а потом снова возрождается из мертвых, рационального мышления уже не достаточно. Можно объяснить почти все, можно говорить о различных процессах насыщения кислородом и метаболизме или о защитном секрете на коже угря и специально сконструированных жабрах. С другой стороны — я видел это своими глазами. Я свидетель. Угорь может умереть, а потом снова возродиться.
«Странные они, эти угри», — говорил папа. И всегда произносил эти слова с плохо скрываемым восторгом. Словно он нуждался в чем-то загадочном. Словно оно заполняло в его душе какую-то пустоту. И я дал себя убедить. Я решил, что каждый находит, во что верить, когда ему это понадобится. Нам нужен был угорь. Вместе мы не были бы такими без него.
Только много лет спустя я прочел Библию и понял, что именно так возникает вера. Поверить — значит приблизиться к тайне, которая лежит за пределами языка и чувства. Вера требует отказаться от логики и здравого смысла. Апостол Павел писал об этом в своем Первом послании к Коринфянам: «…чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Тот, кто верит, должен отпустить свое интеллектуальное мышление, дать себя убедить — не рациональными аргументами, не достижениями естественных наук, не истиной, увиденной в микроскоп, а чувством. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым», — писал апостол Павел. Тот, кто верит, должен не бояться стать сумасшедшим.
Только сумасшедший верит в чудеса. В них есть нечто одновременно пугающее и притягательное. Когда Иисус идет по воде, аки по суху, Его ученики, сидящие в лодке, поначалу пугаются, приняв Его за призрака. Но Иисус говорит: «Ободритесь, это Я. Не бойтесь», и тогда Петр решается ступить на воду и пойти Ему навстречу. Этот первый шаг, когда Петр переносит ногу через борт лодки и ставит на поверхность воды, — начало всех начал. Знакомое встречается с неизвестным. То, что он считал понятным, оказалось чем-то другим. И он решает поверить. Когда Иисус подходит к лодке, все ученики падают на колени и говорят: «Истинно Ты Сын Божий».
Когда они все вместе переплывают Галилейское море и начинается шторм, ученики пугаются до смерти и будят Иисуса, который спит на корме. Иисус лишь машет рукой на шторм и произносит: «Умолкни, перестань!» — и ветер мгновенно стихает. «Что вы так боязливы, маловерные? — говорит Он им наставительно, почти насмешливо. — Где же вера ваша?»
Я так никогда и не смог поверить ни в одно религиозное чудо, но понимаю тех, кто хотел бы сменить страх на убеждение. Понимаю, что тот, кто встречается с чем-то неизвестным и пугающим, скорее поверит в чудо, чем будет пребывать в неуверенности. Это очень по-человечески. Поверить — это передать себя в чьи-то руки. Только сравнениями мы можем объяснить что-то.
А обещание в христианской вере — то, что ожидает тех, кто решится стать сумасшедшим, — к тому же самое великое из всех обещаний: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
Иисус обещает Своим последователям вечную жизнь, и поэтому воскресение — важнейшее из чудес. Смерть и затем воскресение Иисуса — самая суть христианского учения. Без этого вера становится бессмысленной. Вера должна действовать не только в жизни, но и простираться за ее пределы. Апостол Павел пишет в своем Послании к Коринфянам: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна».
Только сумасшедший может верить в воскресение, но временами мне хотелось побыть сумасшедшим, и мне кажется, что папе иногда хотелось того же самого. Ибо что такое по сути своей воскресение из мертвых? Если верить в него дословно, то это означает, что человек (или угорь) может умереть, а потом снова ожить. Однако в своем Послании к Коринфянам апостол Павел говорит и еще кое о чем. «Последний же враг истребится — смерть», — пишет он. Смерть неизбежна, но есть способы с ней сладить. Чуть дальше Павел говорит о преображении — о том, что смерть не конец, а своего рода метаморфоза: «…вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».
Стало быть, человек (или угорь) может умереть, чтобы в мгновение измениться и вернуться в нетленном виде. Нет, это не правда. Это сравнение. Но сравнение, само собой, может нести собственную правду. Не обязательно верить в чудеса только ради того, чтобы верить в суть отдельно взятого чуда. Сумасшедшим можно быть по-разному. И не обязательно верить в Евангелие (и в угря) в буквальном смысле, чтобы проникнуться сутью его посыла: те, кто умирает, остаются с нами в какой-то форме.
Бабушка верила в Бога, а я нет, и папа тоже нет. Хотя много позднее, когда бабушка умирала, я сидел у ее постели, и она со слезами сказала мне: «Я всегда буду с вами». И в это я, разумеется, поверил. Для этого мне не нужна была никакая религия.
Мне кажется, нечто подобное Иисус обещает Своим последователям. «Я с вами во все дни до скончания века», — говорит Он, когда является ученикам через три дня после смерти.
И, может быть, именно на это мы надеемся, когда верим. В Бога ли или в угря.
Угорь вымирает
«Последний же враг истребится — смерть». Это касается не только верующих, но и тех, кто предпочитает знание. Это касается и всех тех людей, которые и по сей день пытаются постичь угря.
Потому что угорь вымирает, и вымирает всё быстрее. Есть сведения, говорящие о том, что угри начали вымирать еще в XVIII веке — то есть примерно тогда, когда ими всерьез заинтересовались естественные науки. Более надежные сведения об уменьшении популяции угря имеются по крайней мере с пятидесятых годов ХХ века. А в последние десятилетия проблема нарастает, как снежный ком. Большинство научных отчетов констатируют, что ситуация на сегодняшний день катастрофическая. Угорь умирает — и это не естественный конец долгой и полной метаморфоз жизни. Он вымирает. Скоро его не останется.
Это самый свежий и самый острый вопрос: почему он вымирает?
Для начала уместно было бы поместить вопрос о вымирании угря в более широкий контекст, который его окружает. Жизнь изменчива — это первый закон эволюции. Жизнь коротка — это первый закон жизни. Но то, что происходит сейчас — как с угрем, так и со многими другими видами, — по своей сути и масштабам выходит далеко за пределы обычного течения жизни и эволюции.
Рейчел Карсон оказалась одной из тех, кто заметил это на ранней стадии. Ее последняя книга называлась «Безмолвная весна». Она вышла в 1962 году и стала одним из наиболее влиятельных произведений своего времени, посвященных способности человека разрушать то, что он, по его словам, любит. «Безмолвная весна» повествует о губительном применении ДДТ и других синтетических инсектицидов, когда бездумное опрыскивание лесов и полей убивает не только насекомых, но и все прочие формы жизни: птиц, рыб, млекопитающих, а со временем и человека. Сочетая глубокие научные знания и прекрасный проникновенный стиль, Рейчел Карсон не только объясняет масштаб проблемы, но и образно показывает, в чем она выражается на практике.
Автор предсказывает то время, когда жизнь вокруг нас станет незаметна и не слышна — потому, что она исчезла из мира наших ощущений, потому, что ее больше нет. Она предвидела безмолвную эпоху, вёсны без гудения насекомых и песен птиц, без рыб, прыгающих в водоемах, без летучих мышей, мелькающих в свете луны. Она наблюдала постоянное уничтожение многих форм той жизни, которую мы привыкли видеть вокруг себя, и понимала, почему так происходит: «Маршируя к своей четко заявленной цели — власти над природой, человек обзавелся убийственным списком заслуг не только по целенаправленному опустошению земли, на которой он живет, но и по уничтожению жизни, которая соседствует с ним на этой земле».
Идентифицируя себя с животными, выходя за пределы своего «я», Рейчел Карсон смогла достичь более глубокого понимания того, что уже тогда начало происходить на Земле. Понимание породило отчаяние, а из него выросли мужество и убежденность, что это ее право, более того, ее обязанность — рассказать о том, что ей известно. И еще — что надо торопиться. В июне 1963 года, когда «Безмолвная весна» уже начала завоевывать мир, Рейчел Карсон выступала перед особой комиссией американского сената по проблемам экологии и начала свое выступление словами: «Проблема, которую вы выбрали сегодня для обсуждения, должна быть решена в наше время. Я остро ощущаю, что первый шаг должен быть сделан сейчас, на данном заседании конгресса». Ее поспешность и нетерпение не были риторическими. Она сама умирала. Еще до выхода книги «Безмолвная весна» Рейчел Карсон заболела раком груди, а когда она выступала перед комиссией сената, метастазы уже проникли в печень. Она знала: это ее последний шанс превратить убежденность в действие, и ей это удалось — по крайней мере в том, что касалось инсектицидов. В 1972 году в США было запрещено применение в сельском хозяйстве ДДТ — во многом благодаря сногсшибательному успеху «Безмолвной весны». Но к тому времени Рейчел Карсон уже не было в живых. Она умерла в 1964 году, в возрасте шестидесяти шести лет. Наследие, которое она нам оставила, — раннее привлечение внимания к той угрозе, которая сейчас стала очевидна и актуальна для всех нас.
Всего несколько раз в истории Земли — а она насчитывает более трех миллиардов лет — происходили столь обширные и резкие изменения, что уместно говорить о метаморфозе, когда сам состав жизни на планете менялся. Пять раз эти изменения оказывались столь масштабными, что образовали отдельную категорию. Эти пять периодов называют массовыми вымираниями.
Первое из крупных массовых вымираний началось примерно четыреста пятьдесят миллионов лет назад, в конце ордовикского периода, когда живые существа в основном обитали в море. В результате резкого похолодания, которое, в свою очередь, стало результатом дрейфа материков, за период в десять миллионов лет вымерло, по разным оценкам, от шестидесяти до семидесяти процентов всех видов, населявших Землю.
Второе массовое вымирание также случилось по причине резкого похолодания триста шестьдесят четыре миллиона лет назад: тогда вымерло семьдесят процентов видов тогдашних обитателей планеты.
Третье — его еще называют великим пермским вымиранием — стало наиболее катастрофическим. Оно произошло около двухсот пятидесяти миллионов лет назад, на рубеже перми и триаса, и унесло около девяноста пяти процентов видов, живущих на Земле. Относительно его причин существуют разные точки зрения, но предположительно оно было вызвано суммой факторов, способствовавших значительным климатическим изменениям.
Четвертое массовое вымирание происходило в относительно длительный временной период, при переходе от триаса к юре, примерно двести миллионов лет назад, когда исчезло около семидесяти пяти процентов видов.
Последнее массовое вымирание наиболее известно. Шестьдесят пять миллионов лет назад в полуостров Юкатан ударил метеорит, что по крайней мере способствовало вымиранию динозавров, а также семидесяти процентов живущих тогда на Земле видов.
С видовым составом на Земле происходили и другие метаморфозы, почти столь же обширные, но в целом на фоне продолжительной истории жизни на планете массовые вымирания все же достаточно редкое явление. Виды вымирают, растения и животные появляются и исчезают, однако периоды, в течение которых это происходит, столь продолжительны, что это не нарушает природный порядок в целом. Это скорее нормальное течение жизни, когда время от времени приходится с чем-то расставаться.
Однако многие ученые утверждают: то, что мы наблюдаем сейчас, не нормальное течение жизни, а шестое массовое вымирание. В августе 2008 года американские биологи Дэвид Уэйк и Вэнс Вреденбург написали статью под названием Are we in the midst of the sixth mass extinction? («Мы живем в разгар шестого массового вымирания?»). Она была опубликована в престижном научном журнале The Proceedings of the National Academy of Science, и, хотя авторы не первыми поставили этот вопрос, их ответ прозвучал столь убедительно, что угроза перестала восприниматься как гипотетическая, оказавшись в высшей степени реальной.
Уэйк и Вреденбург сосредоточили свое внимание на амфибиях, лягушках и саламандрах и сумели показать, что так и есть: вне всяких сомнений, массовое вымирание уже идет полным ходом. Из известных тогда шести тысяч трехсот видов амфибий примерно трети угрожало полное исчезновение, и ситуация стремительно ухудшалась.
Среди тех, кто прочел эту статью, оказалась научная журналистка Элизабет Колберт. В 2014 году вышла ее книга «Шестое вымирание»[10], в которой автор дала краткий обзор всему, что нам известно об идущем сейчас вымирании. Примерно треть видов кораллов на Земле находятся сейчас под угрозой уничтожения, треть видов акул, четверть видов млекопитающих, пятая часть видов рептилий и шестая часть всех видов птиц. Вероятно, массовое вымирание не станет столь масштабным, как пять наиболее крупных, однако оно нарастает такими темпами, что подобной возможности исключить нельзя. Если тенденция сохранится, всего через сто лет количество видов на Земле сократится в два раза.
Развитие идет ошеломляющими темпами: если при предыдущих массовых вымираниях речь шла о процессах, происходивших в течение миллионов лет, то сейчас счет идет на столетия. Но уникальным это массовое вымирание делает то, что впервые за всю историю жизни на Земле у него есть конкретный виновник. И это не небесное тело, не дрейф материков и не извержение вулкана, а живое существо — единственное из всех видов, населяющих планету, которое решило взять власть в свои руки, что в результате вызвало массовое разрушение жизненной среды остальных видов. Ему удалось нарушить не только поверхность Земли, но и ее атмосферу. Ни одному виду ранее не случалось настолько повлиять на жизнь на планете. На разные формы жизни. На всякую жизнь.
«Если Уэйк и Вреденбург правы, — писала Элизабет Колберт, — то мы, ныне живущие, — не только свидетели одного из самых необычных явлений в истории жизни на Земле — мы к тому же и причина всему этому».
Но почему вымирает именно угорь? Какие специфические обстоятельства приводят к тому, что этот внешне вечный и устойчивый боец не выдерживает битвы? Для начала признаем: в самом вопросе заложена теоретическая проблема. Тот, кто хочет разобраться в научной проблеме, не должен, как мы уже знаем, начинать с вопроса «почему». Следует начать с другого конца. Для начала нужно констатировать, что нечто происходит: вымирает ли угорь? Затем необходимо понаблюдать за этим явлением и пояснить, что именно происходит: как вымирает угорь? И только после этого можно приблизиться к вопросу «почему».
Существует Международный союз охраны природы — МСОП (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN), который с помощью тысяч организаций-членов координирует работу по охране живой природы и биологического разнообразия в мире. Помимо всего прочего, именно этот орган составляет так называемую Красную книгу — список животных и растений, который постоянно обновляется, чтобы выявить, каким видам угрожает опасность. Заявленная цель существования Красной книги — создать общепризнанную систему классификации видов, подвергающихся высокому риску глобального вымирания. Иными словами, критерии МСОП выполняют роль своеобразного международного стандарта, научно обоснованного заключения о самочувствии разных форм жизни.
В Красной книге каждый вид оценивается по заданным критериям и располагается на шкале, простирающейся от наиболее радостного «вызывающие наименьшие опасения» через «близкие к уязвимому положению» и «зависимые от усилий по сохранению», «уязвимые», «вымирающие», «находящиеся на грани полного исчезновения» к категории «исчезнувшие в дикой природе» и к окончательному и непоправимому «исчезнувшие». А поскольку это объективный и методически составленный обзор всей жизни на Земле, то там можно прочесть о благополучии всех видов, от водорослей и кольчатых червей до человека.
С человеком в целом все в порядке. Последняя оценка вида Homo sapiens, сделанная МСОП в 2008 году, звучит так: «Классифицируется как „вид, вызывающий наименьшие опасения“, поскольку вид очень распространен, хорошо адаптируется и в настоящий момент его численность растет». МСОП констатирует также, что «человек — самый распространенный вид из всех видов сухопутных млекопитающих и обитает на всех континентах Земли (хотя постоянная колония в Антарктиде отсутствует). Небольшая группа людей представлена в космосе, где они обитают на международных космических станциях». По оценке МСОП, «нет необходимости в охранных мерах». Homo sapiens чувствует себя прекрасно.
С угрем, Anguilla anguilla, дело явно обстоит куда хуже. По крайней мере, так мы можем полагать — с вескими на то основаниями. Так мы думаем. Поскольку, когда речь заходит об угре, мы не можем утверждать, что точно знаем. Знание, как всегда, условно. Дело в том, что угорь не вписывается в те критерии, которые обычно использует МСОП для своих оценок. Первая серьезная проблема — невозможно точно изучить размер популяции. Размер популяции, то есть сколько на самом деле существует угрей в мире, — первый критерий при оценке жизнеспособности вида. Но по указаниям МСОП популяция оценивается исходя из количества «репродуктивных особей», то есть взрослых половозрелых животных. Это означает, как пишет МСОП, что в идеальном случае для оценки состояния вида Anguilla anguilla необходимо изучить «количество взрослых особей в месте размножения». То есть надо пересчитать серебристых угрей в Саргассовом море. А это не представляется возможным, ибо, несмотря на сто лет упорных поисков, никто пока не видел в Саргассовом море ни одного угря. Угорь не поддается инвентаризации. Он скрывается даже от тех, кто пытается ему помочь.
В какой-то мере можно было бы подсчитать, сколько половозрелых серебристых угрей отправляется на нерест от европейского побережья. Но и тут сведения очень скудные. Угорь имеет склонность очень быстро исчезать из поля нашего зрения и сферы знания, прячась в океанских глубинах. Те наблюдения, которые, несмотря на сложности, все же были проделаны, говорят о том, что за последние сорок пять лет количество мигрирующих угрей сократилось как минимум вполовину.
Третий вариант, на котором в первую очередь и строит свою оценку МСОП, — это начать с другого конца и оценить то, что становится результатом тайной встречи угрей в глубинах Саргассова моря. То, что Рейчел Карсон назвала «единственным живым наследием угрей-родителей». То есть сколько стеклянных угрей появляется по весне у европейского побережья. Об этом нам известно значительно больше, и именно эти данные свидетельствуют, что положение катастрофическое. Все надежные цифры указывают: количество вновь прибывших стеклянных угрей в Европе на сегодняшний день составляет от одного до пяти процентов от того количества, которое регистрировалось в конце семидесятых годов ХХ века. На каждые сто маленьких прозрачных «палочек для мороженого», которые в моем детстве каждый год поднимались вверх по реке, сегодня это путешествие совершает разве что горстка.
На основании этого МСОП объявляет европейского угря, Anguilla anguilla, «вымирающим видом». По формальному определению это означает, что «вид подвержен высокому риску вымирания в дикой природе». Таким образом, ситуация не только катастрофическая, но и требующая немедленных действий. Угорь и впрямь может исчезнуть в самое ближайшее время. И не только из поля зрения и сферы знания, но и вообще из нашего мира.
Стало быть, вот мы и добрались до последнего вопроса: почему вымирает угорь? И последний ответ будет таким, каким он обычно бывает в отношении угря: не так-то просто это выяснить. Проблема, с которой мы сталкиваемся, остается той же самой, с которой бились все те, кто в течение столетий пытался понять угря: ответ прячется от нас. Мы не знаем наверняка. Кое-что нам известно, но далеко не все. В каком-то смысле и здесь наш удел — догадки.
Есть несколько предположений, почему угрю приходится туго, и наука все их может подтвердить, но никто точно не знает, является ли это истинными причинами или хотя бы важнейшими. Потому что пока остаются без ответа вопросы по поводу жизненного цикла угря, мы просто не можем точно знать, почему угорь вымирает. Пока нам доподлинно не известно, как угорь размножается или как он ориентируется, мы не можем сказать, что мешает ему это делать. Чтобы спасти его, мы должны его понять. Эта мысль подчеркивается в большинстве научных отчетов о состоянии угря: чтобы помочь угрю, мы должны узнать о нем больше. Нужно больше знаний, больше научных исследований, и надо торопиться.
Тем самым мы подошли к главному парадоксу: загадочность угря вдруг становится его первейшим врагом. Чтобы он выжил, человек должен выманить его из тьмы и найти ответы на те вопросы, на которые пока ответа нет. А за это придется заплатить немалую цену. Ведь во все времена существовали люди, которые прославляли эту загадочность, тянулись к ней и держались за нее. Угорь привлекал людей, потому что таинственное всегда влечет, а то, что доподлинно известно, лишено теней и нюансов и теряет свою сложность. Люди, подобно Грэму Свифту, — вернее, его рассказчику Тому Крику, — склонны верить, что мир, в котором все объяснено, стоит на пороге гибели.
Это, если хотите, классическая дилемма, замкнутый круг: мы, те, кто борется за угря, чтобы сохранить нечто загадочное и сокровенное в мире просвещения, в каком-то смысле обречены на поражение. Тот, кто считает, что угорь должен оставаться угрем, уже не может позволить ему оставаться загадкой.
Единственное, что нам известно про вымирание угря, — в нем виноват человек. Все те объяснения, которые ученые к настоящему моменту представили, так или иначе связаны с человеческой деятельностью. Чем ближе угорь подходит к человеку, чем больше подвергается влиянию современного человека, тем в большей степени вымирает. Когда Международный совет по исследованию моря (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) в 2017 году подытожил, что же требуется сделать, чтобы спасти угря, вывод был отчасти смутный, отчасти предельно ясный: человеческое влияние на угря следует «свести к нулю». Мы не знаем обо всех опасностях, угрожающих угрю, но того, что мы знаем, достаточно, чтобы вычислить единственный путь к спасению: мы должны оставить угря в покое.
Нам известно, например, что угорь болеет и что он, похоже, стал болеть больше, чем раньше. Например, он подвержен заражению вирусом угрёвого герпеса, Herpesvirus anguillae, — заболеванию, впервые обнаруженному у японских угрей в неволе, которое человек через импорт занес диким угрям в Европе. В 1996 году болезнь была обнаружена в Нидерландах, а на юге Германии анализы показывают, что этим вирусом заражено до половины всех особей.
По каким-то причинам вирус поражает только угрей — отсюда его название, и протекает заболевание на редкость тяжело. Долгое время болезнь может находиться в латентной стадии, но когда она проявляется, то развивается быстро и агрессивно. У угря возникают кровоточащие раны вокруг жабр и плавников. Клетки в жабрах отмирают, а наполненные кровью волокна склеиваются между собой. Внутренние органы воспаляются, угорь становится вялым, впадает в полудрему, движется медленно, у самой поверхности, и вскоре умирает.
Кроме того, угря могут поражать паразиты — угрёвые нематоды, Anguillicoloides crassus. Они также были впервые обнаружены у японских угрей и попали в Европу в восьмидесятые годы ХХ века — вероятно, через живых угрей, импортированных из Тайваня. Всего за несколько десятилетий нематоды распространились по всей Европе, а затем перекинулись на Америку. Исследование 2013 года, проведенное в США, в штате Южная Каролина, показало, что уже на стадии стеклянного угря около тридцати процентов особей заражены паразитом. Также выяснилось, что быстрому распространению паразитов способствовали сердобольные попытки спасти угря, когда пойманных стеклянных угрей переносили в новые водоемы.
Угрёвые нематоды — вид круглых червей, которые поражают плавательный пузырь угря, вызывая кровотечение, воспаление и появление шрамов. Угорь плавает медленнее и становится более подверженным разным заболеваниям. Он держится на небольших глубинах и может плавать лишь на короткие расстояния. Заражение не всегда ведет к смерти, но угорь, несущий в себе Anguillicoloides crassus, имеет ничтожные шансы доплыть до Саргассова моря.
Нам известно также и то, что угорь особенно страдает от загрязнения окружающей среды. Поскольку он живет долго и находится высоко в пищевой цепи, то он особенно чувствителен к тем ядам, которые сбрасывают в природу промышленность и сельское хозяйство. Как и паразиты, отравляющие вещества влияют на способность угря совершить путешествие обратно в Саргассово море. Например, у угрей, подвергшихся воздействию полихлорированных бифенилов (ПХБ), развивается порок сердца, отеки, возникают трудности с накапливанием в организме жира и энергии, что делает дальнюю миграцию практически невозможной. Угри, отравленные инсектицидами, хуже адаптируются к соленой воде после жизни в пресной. Если все так, как нам представляется (то есть количество серебристых угрей, добирающихся до места нереста, постоянно сокращается), логично предположить: загрязнение окружающей среды — одна из важнейших причин.
Некоторые теории объяснить труднее. Есть данные, что угри в большей степени, чем раньше, становятся добычей других хищников, в чем человека вроде бы нельзя напрямую обвинить. С другой стороны, вполне вероятно, что под влиянием болезней, паразитов и загрязнений среды угри плавают медленнее и ближе к поверхности, становясь легкой добычей, например, для баклановых, численность которых очень велика и которые охотно едят угрей.
Еще одна современная угроза, которую некоторые ученые считают наиболее опасной и которая однозначно создана человеком, это различные преграды на пути миграции угря. Шлюзы и прочие искусственные приспособления для регуляции течения рек могут помешать и молодому угрю подняться вверх по водоему, и взрослому угрю достичь моря. Сеть гидроэлектростанций, при всех своих экологических преимуществах, для угря совершенно убийственна. Их турбины каждый год убивают огромное количество серебристых угрей, направляющихся в Атлантику, — некоторые данные говорят о том, что каждая ГЭС убивает до семидесяти процентов угрей, пытающихся ее миновать. А если им все же удается пробиться, то они обычно ранены и истощены, так что им сложно продолжать свое путешествие. Рыбопропускные сооружения, которые сейчас строят, обычно рассчитаны на лосося, плывущего ближе к поверхности.
Традиционной проблемой для выживания угря является рыболовство, хотя существуют разные мнения по поводу его роли и влияния. В некоторых странах Европы угря широко употребляли в пищу, и ловля угря не только обрела свои традиции, снасти и методы, но и во многих местах является важной частью экономики. В последние десятилетия значительно вырос экспорт угря в Японию, которая на сегодняшний день потребляет семьдесят процентов мировой его добычи и наравне с Европой и Америкой страдает от сокращения его популяции.
Особенно большой урон сложному жизненному циклу угря нанес промысел стеклянных угрей. Он продолжается и по сей день — в первую очередь в Испании и Франции, и, поскольку угря вылавливают в значительных количествах и на такой ранней стадии жизни, рыболовство оказывает серьезное влияние на размер популяции.
Угроза, еще хуже поддающаяся изучению, но при этом одна из самых серьезных, — это изменения климата. При этом неизбежно меняется сила и направление океанских течений, что, судя по всему, создает серьезные проблемы в миграции угря. Отчасти это затрудняет путь серебристого угря через Атлантику к месту нереста, отчасти — и, скорее всего, в первую очередь — влияет на новорожденных мальков, которые в совершенно беспомощном состоянии плывут по течению в Европу.
Когда течения меняют свою силу и направление, вероятно, смещается само нерестилище в Саргассовом море, и тогда прозрачные невесомые мальки не находят то течение, которое должно отнести их в Европу, — или же их уносит не в том направлении. Кроме того, с изменением климата меняются также температура и содержание соли в океанских течениях, что, в свою очередь, влияет на производство планктона, которым мальки питаются в пути.
Существуют исследования, показывающие, что изменения климата — одна из важнейших причин того, что в последние годы так резко сократилось количество стеклянных угрей, добирающихся до побережья. Это настоящий сигнал бедствия. Это означает, что такой сложный и комплексный процесс, как миграция и размножение угря, который продолжался миллионы лет, всего за несколько десятилетий поколебался в самой своей основе.
Так что же останется от угря, когда его самого уже не будет? Фотографии, воспоминания и истории. Загадка, которую так и не удалось разгадать.
Может быть, угорь станет как дронт. Возможно, из живого и реального существа он постепенно превратится в горькое и символическое напоминание о том, на что способен человек, когда он действует бессознательно.
Дронтом называлась неуклюжая ширококлювая птица, которая стала известна человеку в XVI веке и была полностью истреблена всего сто лет спустя. Впервые ее обнаружили и описали голландские моряки на острове, со временем получившем название Маврикий, — единственном месте на Земле, где эта птица обитала.
Дронт был ростом около метра и имел вес более пятидесяти килограммов. У него были маленькие крылья, серо-коричневые перья, лысая голова со слегка наклоненным вперед клювом, который отливал зеленым и черным. У него были мощные желтые лапы и большая круглая гузка. Летать птица не умела и передвигалась довольно медленно; с другой стороны, на острове у нее не было естественных врагов, пока там не появился человек. На изображениях того времени ее обычно рисовали в сатирической манере, почти как карикатуру: лишенные выражения глаза как маленькие пуговки на большой лысой голове, вид изумленный и глуповатый.
Первое письменное упоминание о дронте мы находим в отчете голландской экспедиции 1598 года, где говорится о птице, которая в два раза больше лебедя, однако крылья у нее как у голубя. Говорилось также, что мясо на вкус не очень и остается жестким, сколько его ни вари, но, по крайней мере, брюшко и грудку можно употреблять в пищу.
Именно так и поступили с дронтом голландские моряки: они его съели. Как бы то ни было, поймать его оказалось легко. Рассказывали, что животное даже не пыталось убежать, когда к нему приближались. Птицы были жирные, давали много мяса — трех-четырех штук хватало, чтобы накормить целую команду. О птицах писали как о неосмотрительных и беззаботных, — словно они вообще не могли себе представить, что другое существо может быть для них опасно. На рисунке 1648 года видно, как моряки преспокойно убивают огромных птиц палками. Их ждала суровая судьба: они не только стали пищей изголодавшимся голландским морякам. С человеком на острове появились другие чуждые животные: собаки, свиньи и крысы, которые боролись за территорию и пищу и опустошали гнезда дронта, убивая птенцов и воруя яйца.
Летом 1681 года моряк Бенджамин Хэрри упоминает, что наблюдал на Маврикии дронта. Это последнее свидетельство о живом экземпляре. Тот дронт, которого он видел, оказался последним — тем, кто в конце концов остался совсем один. После этого дронт был полностью истреблен, уничтожен, и о нем остались лишь скудные воспоминания.
На некоторое время о дронте забыли, он стал скорее смутной мифологической фигурой, чем реальным существом. Некоторые вообще сомневались, что он когда-либо существовал. Когда в 1848 году Александр Мелвилл и Хью Стриклэнд опубликовали свою статью The Dodo and It’s Kindred («Додо и его родственники») — самое подробное на тот момент описание дронта, они были вынуждены констатировать, что информации об этой птице, на тот момент вымершей чуть более ста шестидесяти лет назад, почти не сохранилось. «Единственное, чем мы располагаем, — это грубые описания необразованных матросов, три или четыре картины маслом, а также несколько разрозненных фрагментов костей, переживших двести лет халатного обращения. Даже у палеонтологов больше материала для описания видов, вымерших миллионы лет назад, чем у нас для группы птиц — современников Карла Первого».
Однако они могли констатировать — и это подтверждают современные исследования ДНК, — что ближайшим ныне живущим родственником дронта является голубь. Но в целом Мелвилл и Стриклэнд мало в чем помогли лучше понять дронта. По их мнению, нет ничего странного в том, что это удивительное существо обитало там, где обитало, и только там. Распространение разных видов во времени и пространстве на самом деле связано не с окружающей средой и климатом и, конечно же, не с эволюцией. Это, как они говорят, способ Создателя поддерживать «постоянно расшатывающийся баланс в природе». Стало быть, вымирание дронта тоже неудивительно. «Смерть, — писали они, — есть закон природы как для видов, так и для индивидов».
Однако позднее человеку суждено было узнать о дронте куда больше. В 1865 году были обнаружены первые окаменелости, и наука начала все больше интересоваться его уникальной судьбой: и самой странной птицей, и примером безграничного и непоправимого влияния человека на окружающие его формы жизни. Начиная с конца XIX века о дронте было написано бесчисленное множество книг, он стал канонической сказочной фигурой благодаря «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и сегодня является одним из самых известных вымерших животных. Помимо этого, он стал еще и символическим образом — не только устрашающим примером человеческого цинизма, но и метафорой, означающей нечто устаревшее и вышедшее из употребления. Дронт — это тот, кто глуп и неуклюж, кто не в состоянии приспособиться к требованиям сегодняшнего дня, ненужный и неуместный.
Англичане говорят: Dead as a dodo — «Мертвый, как дронт». Не исключено, что в будущем мы станем говорить: «Мертвый, как угорь».
Однако и это лучше, чем некоторые другие варианты развития событий. А вдруг угорь станет чем-то вроде стеллеровой коровы — исчезающей памятью о чем-то еще более странном и незнакомом?
Морская корова — водное млекопитающее отряда сирен, описанное в середине XVIII века немецким естествоиспытателем Георгом Вильгельмом Стеллером. Это было гигантское животное, размером до девяти метров, медлительное и флегматичное травоядное, как и его ближайшие родственники дюгонь и ламантин. У морской коровы была толстая кожа, напоминающая кору, непропорционально маленькая голова на огромном теле, два небольших плавника спереди и хвост как у кита сзади.
Георг Стеллер впервые увидел это животное во время экспедиции, которую предпринял вместе с датско-русским мореплавателем и путешественником Витусом Берингом, в том месте, которое впоследствии стало называться Беринговым морем. Это была вторая экспедиция Беринга в неосвоенные края. Ее целью по заданию русского флота было переплыть океан и исследовать американское западное побережье. Стеллер, влекомый любознательностью и жаждой приключений, по собственному почину проехал через всю Россию с запада на восток, чтобы принять участие в экспедиции. Он изучал теологию, ботанику и медицину в Виттенбергском университете, затем с ранеными российскими солдатами добрался до Петербурга и получил место лейб-медика при архиепископе в Новгороде. Ему было под тридцать, он женился незадолго до того, как зимой 1737 года в одиночку отправился через всю Сибирь на Камчатку, где Витус Беринг готовился к своей второй экспедиции.
Двадцать девятого мая 1741 года судно «Святой апостол Петр» вышло из порта в Охотске с командой из семидесяти человек на борту. Ему предстояло во многом трагическое плавание. Почти сразу после отплытия судно попало в непогоду, потеряло контакт со вторым кораблем, который назывался «Святой апостол Павел», и вынуждено было продвигаться по широкой дуге через пролив в сторону американского побережья. Когда экспедиция достигла берегов Аляски, команда была сильно измождена, многие страдали цингой. Помимо всего этого, Беринг и Стеллер не ладили между собой. Беринг торопился нанести на карту побережье и затем отправиться назад, пока не начались осенние шторма. Стеллер, со своей стороны, хотел делать то, ради чего приехал, — изучать природу и животный мир.
После двух месяцев на борту сам Беринг заболел цингой, и было решено немедленно возвращаться на Камчатку. Но на обратном пути корабль попал в мощный шторм и сел на мель на рифе возле острова, которого никто из находившихся на борту не знал. Там, среди волн, бьющихся о чужой берег, пока большая часть команды лежала в муках на поврежденном корабле, а трупы выбрасывались прямо за борт, Стеллер уже стал планировать свои научные вылазки. Ему не терпелось начать изучать природу и животных. И именно там, на острове, со временем названном в честь Беринга, к востоку от Камчатки, Георг Вильгельм Стеллер 8 ноября 1741 года впервые увидел стадо невиданных ранее животных, которые лежали и отдыхали в полосе прибоя.
Зрелище было впечатляющее, и Стеллер в деталях описал этих животных, названных позднее его именем.
Он писал, что от пупка и выше они похожи на тюленя, а от пупка и ниже — скорее на большую рыбу. Череп был круглый и сильно напоминал голову бизона. Несмотря на размеры животного, глаза были не больше, чем у овцы, и не имели век. Уши скрыты в складках толстой кожи. Помимо широкого хвоста, у животного не было плавников, что отличало его от кита. «Животные эти живут стадами в море, словно коровы, — писал Стеллер. — Они не заняты ничем, кроме еды».
Стеллер описал не только то, как выглядели экзотические морские коровы, чем они питались, как вели себя и как размножались. Не менее подробно он описывал, какими жирными и вкусными они оказались, а также указал, что их такое количество, что можно прокормить всю Камчатку. Он писал, что они совсем не боялись человека и не пытались спасаться бегством, когда кто-то приближался к ним. Когда изголодавшиеся члены экспедиции хватали их при помощи багров и вырезали из живых животных куски мяса, те лишь издавали тихий вздох.
Однако отсутствие инстинкта самосохранения, по мнению Стеллера, с лихвой компенсировалось трогательными проявлениями привязанности.
«Я не мог заметить в них признаков большого ума, зато видел необычную любовь друг к другу — любовь, которая доходила до того, что, когда мы загарпунили одно из животных, остальные старались его спасти. Некоторые пытались помешать нам вытащить своего раненого товарища на берег, образовав вокруг него сомкнутое кольцо; другие пробовали перевернуть лодку, в которой мы сидели; третьи ложились на наши веревки или пытались вытащить гарпун из тела раненого».
Один из самцов, как писал Стеллер, два дня подряд возвращался к самке, которая лежала мертвая на берегу. «И тем не менее скольких бы мы ни ранили или убили, они оставались на том же месте».
Встреча с флегматичными, нежно привязанными друг к другу морскими коровами стала не только ярчайшим переживанием для Георга Вильгельма Стеллера, но и научной сенсацией. Сирены — млекопитающие, которые на самом деле ближе к слонам, чем к тюленям и китам, — обычно встречаются только в тропических морях. Этот же вид обитал на суровом холодном острове в неисследованной части Тихого океана — и, судя по всему, только там. Стеллерова корова стала еще одним примером сложности эволюционных процессов и завораживающего видового разнообразия. Живое чудо в одном из самых негостеприимных уголков Земли.
Но, подобно сиренам, стеллеровы коровы увлекли своих первооткрывателей и самих себя в пропасть. Витус Беринг умер на острове 8 декабря и был похоронен в песке у края моря. Примерно половина команды последовала тем же путем. Сам Стеллер остался жив. Он и остальные зимовщики на острове Беринга выжили в немалой степени за счет того, что ловили каланов, мясо которых ели сырым. Весной им удалось построить новый корабль из остатков «Святого апостола Петра», и в августе 1742 года, более чем через год, исхудавшая и поредевшая команда вернулась на Камчатку. Георг Вильгельм Стеллер успел опубликовать свои наблюдения и рассказать миру о странных северных сиренах, но вскоре спился и умер в Тюмени в 1746 году в возрасте тридцати семи лет.
А стеллеровы коровы, разумеется, тоже умерли. По следам экспедиции Беринга пришли охотники, которые увидели в медлительном жирном животном легкую добычу. В 1768 году, всего через двадцать семь лет после открытия Стеллера, в Беринговом море была убита последняя сирена, и сегодня немногие знают о том, что она когда-то существовала. С тихим вздохом, покорная судьбе, она исчезла из человеческого сознания и сферы наших знаний. В отличие от дронта, она даже не стала пословицей.
Нет, угорь — не дронт и не морская корова. В первую очередь, он не обитает на изолированном острове в Индийском океане или Беринговом море. Кроме того, он слишком давно водил за нос человека, чтобы последовать той же судьбе. И весь тот труд, который веками был положен на то, чтобы постичь угря, не может оказаться напрасным.
Ибо сейчас существует немало людей, пытающихся ему помочь. Как жизненный цикл угря веками волновал науку, так вымирание угря стало для многих современных ученых одной из главных научных проблем.
Тревожные сигналы ученых и таких международных организаций, как ICES и МСОП, восприняты серьезно, по крайней мере в Европе. В 2007 году страны ЕЭС приняли план действий, включающий ряд шагов, направленных на спасение угря. Каждое государство-член берет на себя обязательства принять все необходимые меры, чтобы не менее сорока процентов всех серебристых угрей могли достичь океана для дальнейшей миграции в Саргассово море, например за счет ограничения лова и строительства альтернативных проходов в обход плотин и гидроэлектростанций. Весь экспорт за пределы Европы, например на ненасытный японский рынок, теперь тоже под запретом (хотя незаконный экспорт, по всей видимости, остается масштабным), а те, кто промышляет стеклянного угря, должны выпускать обратно не менее тридцати пяти процентов своего улова. В том же 2007 году шведское Управление рыбного хозяйства запретило все виды ловли угря в Швеции. Разрешена она только профессиональным рыбакам, имеющим соответствующие разрешения, и только в пресной воде выше третьей преграды по течению.
Поначалу казалось, что эти меры дают результаты. В последующие годы европейский угорь, похоже, немного пришел в себя. Во всяком случае, приплывающих к нам стеклянных угрей стало немного больше, и те, кто переживает за судьбу угря, могли позволить себе смотреть в будущее с оптимизмом.
Но с 2012 года кривая снова пошла вниз — увеличение популяции приостановилось. Медленное ее восстановление оказалось временным исключением, а цели, поставленные в плане действий ЕЭС, пока далеко не достигнуты. В целом положение угря на сегодняшний день ничем не лучше, чем до 2007 года.
Похоже, мы попали в «утопический тупик», как писал эксперт по угрю Вильхельм Деккер из Шведского сельскохозяйственного университета, резюмируя ситуацию в 2016 году. Надежды, которыми мы некоторое время питались, строились на нереалистичных ожиданиях. Деккер считает, что на самом деле принятые до сих пор меры по спасению угря не только недостаточны — они рискуют стать ложными маневрами, отвлекающими внимание. Пока мы держимся за то, что, как нам кажется, знаем и что мы до сих пор считали правильным, положение угря не улучшится, а будет лишь постепенно ухудшаться.
А пока знатоки обсуждают проблему, время уходит.
Осенью 2017 года министры сельского хозяйства и рыболовства стран — членов ЕЭС решили ввести новые квоты на вылов рыбы, а комиссия Евросоюза вышла с неожиданно радикальным предложением запретить всякий лов угря в Балтийском море. Швеция — единственная страна, которая поначалу положительно отнеслась к тотальному запрету, — дала задний ход, обнаружив, что ее никто больше не поддержал. «Важно показать свою договороспособность, — подчеркнул шведский министр сельского хозяйства Свен-Эрик Бухт, который, как и многие другие, явно испытывает более теплые чувства к другим рыбам. Он счел, что если мы начнем биться за угря, то потеряем возможность защитить другие виды. — Никто тогда не сможет заступиться за лосося». Когда решение было принято, оно включало в себя лишь осторожное уменьшение квот на лосося, треску, сельдь и морскую камбалу, в то время как лов угря в целом мог продолжаться в том же объеме, что и раньше.
Только год спустя, в декабре 2018 года, Евросоюз принял решение о приостановке ловли угря во всем союзе, включая Средиземное море и атлантическое побережье. Однако приостановка охватывает всего три месяца в году и к тому же не включает в себя стеклянного угря.
Так что угорь продолжает вымирать, пока решения о том, что надлежит сделать, чтобы этому воспрепятствовать, откладываются на потом. Пока мы не узнаем больше. Или пока не возникнет ситуация, когда узнавать будет уже нечего.
Можно ли представить себе мир без угря? Можно ли мысленно убрать из него существо, которому не менее сорока миллионов лет, которое пережило ледниковый период и дрейф континентов, которое, когда человек нашел свое место на Земле, уже ждало нас много тысяч тысячелетий, с которым связано столько традиций, праздников, мифов и рассказов?
Так и хочется возразить: нет, мир наших представлений устроен не так. То, что существует, — то есть, а то, чего нет, всегда немного немыслимо. Представить себе мир без угря — это как представить себе мир без гор или морей, без воздуха или земли, без летучих мышей или ивовых деревьев.
Однако всякая жизнь изменчива, и все мы однажды изменимся, и когда-то кому-то трудно было представить себе мир без дронта или морской коровы. Как я когда-то не мог представить себе мир без бабушки или без папы.
Но теперь их тем не менее нет. А мир продолжает существовать.
В Саргассовом море
Не помню, когда мы в последний раз ходили ловить угря, но наши походы на рыбалку становились со временем все более редкими. Не потому, что угорь утратил свою загадочность, — скорее потому, что появилось много всего другого. Наш маленький замкнутый мирок у реки не мог конкурировать со всеми другими мирами, которые открывались моим глазам. Разумеется, такое развитие событий было вполне ожидаемым. Мы вырастаем, становимся другими, отрываемся от родителей, уходим из дома, меняемся, перестаем ловить угря. Во время всех этих символических метаморфоз, которые нам приходится пройти, что-то неизбежно теряется.
В подростковые годы я иногда ездил на реку с друзьями. Папа оставался дома. Мы брали с собой пиво и пневматический пистолет, а когда нам доводилось выловить угря, мы пытались убить его выстрелом в голову. Мы стреляли по очереди, промахивались и стреляли снова. Потом я приносил угрей домой и отдавал папе, который приходил в ярость, когда чуть не ломал себе зубы о пули. Мне кажется, он считал наше поведение возмутительным — по отношению к нему самому, но в первую очередь по отношению к угрю.
Иногда папа ездил на рыбалку один, но и это случалось все реже. Я окончил школу и пошел работать. Все выходные проводил вне дома. Мы отдалились друг от друга — не по причине конфликта или отчуждения, а просто потому, что все само по себе изменилось. То течение, которое когда-то принесло папу на совершенно новое место, теперь унесло меня прочь от него. Когда мне было двадцать, я уехал из дома и попал туда, где это течение прекращалось, — в университет.
Если угорь объединял нас, то в университете все было по-другому: здесь главенствовало как раз то, что не являлось для нас общим. Чужое место, очень непохожее на все то, к чему я привык. Место, где воспоминания были заключены в огромных зданиях, а люди рассуждали об абстрактных вещах на языке, которого я не понимал, где никто, казалось, не работал, а все были заняты самореализацией. Все это захватило меня, несмотря на некоторое внутреннее сопротивление. Переполненный новой обстановкой и новой культурой, я научился воспроизводить все экзотические социальные коды. Учебники я всегда носил с собой, словно это было мое удостоверение личности, а когда кто-нибудь спрашивал, откуда я, научился отвечать кратко и уклончиво. Наверное, я опасался, что запах асфальта выдаст во мне чужака в университетских коридорах.
Но каждое лето я приезжал домой, и мы ездили на реку ловить угря. К этому моменту мы уже отказались от вентеря и перешли на более современные удочки для донной ловли. У нас были обычные удилища с оснасткой, состоящей из большого простого крючка и тяжелого грузика. Наживив на крючок дождевого червя, мы опускали его на самое дно. Папа изготовил из стальных труб держатели для удочек, которые мы закапывали в землю, так что удилища торчали в ночном небе, словно мачты. Мы брали с собой шезлонги, а на кончики удилищ прицепляли маленькие колокольчики, которые начинали звенеть, когда клюет. А потом мы сидели в шезлонгах до поздней ночи, слушая монотонное бормотание порога, наблюдая, как тень от ивы становится все чернее и как летучие мыши ловко огибают наши удочки, проносясь мимо. Мы пили кофе и беседовали об угрях, которых поймали, и об угрях, которых упустили, — почти ни о чем другом. Эта тема мне никогда не надоедала.
Позднее мои родители купили дачу. Это был красный деревянный домик, маленький и не отличавшийся красотой, с туалетом на улице и грязной водой в колодце. Но располагался он у озера, окруженного со всех сторон лесом, с зарослями тростника, где выводили своих птенцов лебеди-шипуны и чомги. Почти каждый день над озером пролетала то цапля, то скопа, а по вечерам солнце садилось за ели по другую сторону озера, как большой пылающий шар. Мама с папой обожали это место и проводили там все свободное время.
К даче прилагалась маленькая пластиковая лодка, и в те разы, когда я приезжал домой, мы рыбачили с нее в озере, а не в реке. Ловили в основном щук и окуньков. Мы плавали по озеру, исследуя его, — оно оказалось больше, чем можно было подумать поначалу. Домик располагался на восточном берегу, а к югу простирались огромные заросли тростника на мелководье, где можно было бросить якорь у самого края и слышать, как щуки бьются в воде в сумерках. На севере в озеро впадала небольшая речка — там круглосуточно охотились окуни. На запад озеро вытягивалось узким уступом с тростником, кувшинками и маленькими поросшими травой островками. Там водились большие щуки — по крайней мере, мы так думали.
Однажды вечером мы сидели в домике и смотрели на воду. Озеро разлилось и залило несколько метров газона, и вдруг из воды, прямо на границе с травой, высунулись большие, мощные рыбьи хвосты. Они полоскались, как темные флаги, при свете луны. Потом мы выяснили, что это были лини, и мы стали ловить их так же, как раньше ловили угря. Удочкой для донного лова с колокольчиком на конце. Однажды я поймал линя весом почти в полтора килограмма: он был темный, покрытый слизью, и у него были крошечные, едва заметные чешуйки. Ловили мы и леща — вялую неуклюжую рыбу, которая лениво позволяла нам вытащить ее из воды.
Но угри нам не попадались, и нас это все больше удивляло.
— Здесь должен быть угорь, — говорил папа.
И все указывало на то, что он прав. Озеро было мелкое, с илистым дном, там было полно растительности и камней, где удобно спрятаться, и огромное количество мелкой рыбешки. По речке, впадавшей в озеро, угрю не составило бы труда подняться, — к тому же она была соединена с рекой, где мы всегда ловили угрей: та располагалась всего в паре десятков километров.
— Не понимаю, почему нам не попадаются угри, — говорил папа. — Здесь они явно должны водиться.
И тем не менее угря мы в глаза не видели. Словно желая напомнить нам, что он когда-то для нас значил, угорь скрывался от нас во мраке. Со временем мы даже начали сомневаться в его существовании.
Папа заболел. Это произошло в начале лета того года, когда ему должно было исполниться пятьдесят шесть. О том, что он болен, он уже давно догадывался. У него побаливало, и в конце концов он пошел к врачу, а оттуда его направили в больницу. Там сделали рентген, взяли анализы и в конце концов констатировали, в чем проблема: большая и агрессивная опухоль. Почему он заболел, он тоже узнал: врач объяснил, что существует прямая связь между укладкой асфальта и той разновидностью рака, которую у него обнаружили. Горячий пар от асфальта проник вглубь его организма и теперь уже никогда — куда более буквально, чем раньше, — не выйдет оттуда.
В начале осени его оперировали — это была долгая и сложная операция, и домой из больницы он вернулся только в середине зимы. Месяцами он лежал в палате под капельницей, не в силах есть и даже заложить за губу щепотку табака, а мы навещали его и молча наблюдали, как он вставал и пытался ходить взад-вперед по коридору, опираясь на роллатор. Под больничной рубашкой он был тощий и бледный. Впервые я видел его таким ослабленным.
Именно там, в кафетерии больницы, пока папа спал в своей кровати морфиновым сном, мама рассказала мне то, о чем я давно должен был догадаться сам. Мой дедушка — тот, кого я всегда называл дедушкой, — не был отцом моего папы. Его биологическим отцом был совсем другой человек, которого никто из нас никогда не видел — даже сам папа. Бабушка познакомилась с этим неизвестным нам мужчиной, когда ей было около двадцати. Она забеременела и родила ребенка, а мужчина не пожелал знаться ни с ней, ни с сыном. И это все, что нам о нем известно, — а также его имя, которое у папы стало вторым именем.
Почему я не догадался об этом раньше? Как все это могло ускользнуть от меня? Ведь я знал, что папа прожил первые годы жизни у родителей бабушки. Знал, что за ним присматривали ее сестры, пока сама она работала в городе на галошной фабрике. Я слыхал о том, что, когда папе было всего пара лет от роду, умерла мама бабушки, и о том, как они переехали из статарского домика в собственный дом. По каким-то причинам я все же не сложил два с двумя.
Только когда папе было около семи лет, бабушка познакомилась с человеком, которого мы потом стали называть дедушкой. Они встречались совсем недолго, когда папа пошел в школу и после первого же школьного дня вернулся домой в полной растерянности. Всех детей в классе спросили, кто их отцы. А мой папа не знал. Он ничего не мог сказать. Вероятно, впервые он осознал, что происхождение ставит на нас штамп, хотим мы того или нет, а тот, кто не знает своего происхождения, всегда остается в какой-то степени заблудшим. Не зная, откуда ты, трудно понять, куда тебе идти. Путь из дома и путь домой идут по одному маршруту.
Вскоре после того самого первого школьного дня бабушка и дедушка обручились. Несколько недель спустя они поженились, быстро и просто; свидетелями у них были сестры бабушки.
С самого первого дня дедушка — тот, кого я впоследствии буду называть своим дедушкой, — обращался с моим папой как с собственным сыном, и, казалось, папа принял решение. Его происхождение оставалось загадкой, а ответ он выбирал сам. Первые семь лет жизни он прожил без отца, а теперь у него вдруг появился отец. Образ невидимого и пассивного отца его вообще не интересовал — наверное, потому он никогда и не рассказывал нам, как обстоят дела, чтобы мы не усомнились в его выборе. Наш дедушка был человеком добрым и честным и, в отличие от неизвестного, всегда был рядом. Однажды папа решил, что его происхождение — а с ним и наше — начинается от дедушки, с его хутора у реки. По сути, так оно и было. Даже сейчас, когда папа заболел и будущее стало туманным, он ни словом не упомянул об этом, а мы и не спрашивали.
После операции, проведя в больнице почти полгода, папа получил четырехлетнюю отсрочку. Четыре года медленного выздоровления — пока опухоли не вернулись вновь, с каждым разом все более брутально. Сначала — во второй раз: еще одна осень с операциями, осложнениями, болями и месяцами в больничной палате. Потом — в третий раз, когда сопротивление было настолько слабым, что утратило смысл.
Папе уже исполнилось шестьдесят. Однажды вечером мы с ним сидели и смотрели телевизор. Он полулежал в черном кресле с откидной спинкой, положив ноги на скамеечку перед собой. Тогда мы еще не понимали, что опухоли вернулись, ничего не знали о том, что опять таилось в его организме. По крайней мере, я этого в тот момент не понимал.
— Вода у домика поднялась? — спросил он.
— Нет, она спала, даже до мостков не доходит.
— Но мостки на месте? Их не снесло?
— Нет, все хорошо, мы их укрепили. Теперь пришлось бы приложить много усилий, чтобы их поколебать.
— Черт, вот будет неудача, если их снесет!
— Ну да, мы же с тобой уже не раз об этом говорили.
Он повернул голову и спросил меня:
— Ну а на рыбалку-то ты ходил?
И в этот момент я заметил, что глаза у него изменились. Белки пожелтели, приобретя серовато-желтый оттенок, словно лист старой бумаги, — желтизна плотным туманом окружала черные зрачки. Несколько мгновений я смотрел ему в лицо, и, должно быть, он что-то прочел в моем взгляде, потому что отвел глаза, снова повернувшись к телевизору, а я молча сидел рядом с ним неестественно прямо, глядя перед собой, не понимая до конца, что же произошло.
Мы еще о чем-то поговорили, но каждый раз, когда я смотрел на него, мне казалось, что он сознательно избегает встречаться со мной взглядом. Он отвернулся, словно что-то скрывал от меня, и мне вспомнился тот давний эпизод, когда я еще был маленьким и мы с ним сидели за кухонным столом. Дело было в разгар зимы, на дворе лежал снег и дул ветер, у папы на голове красовалась желтая шапка с синими коронами, а когда он снял ее, кожа на лбу оказалась такого же желтого цвета.
«У меня желтуха», — сказал он и засмеялся, а я не понял, что это шутка. Я спросил маму, что такое желтуха, и она ответила, что это болезнь печени и что она опасна для жизни; я испугался и смолк. Я боялся, что папа умрет, но не находил слов, чтобы объяснить свой страх. И когда он засмеялся и пояснил, что он просто пошутил и что это шапка полиняла, я все равно не решался ему поверить. Внезапно я понял, что если другие могут заболеть и даже умереть, то это может случиться и с моим папой. И даже со мной.
За окнами становилось все темнее, и папа перед телевизором становился все более вялым, но я заметил, как он борется с усталостью. Ему хотелось посидеть со мной еще. Не хотел признаваться, что на тело снова навалилась тяжесть, что все не так, как должно быть. Так что он продолжал сидеть со мной, слушать меня и разговаривать негромким и мягким голосом, и вдруг, буквально на середине фразы, закрыл глаза и заснул. Он сидел, откинувшись в кресле, неподвижно, с закрытыми глазами, и дышал тяжело и глубоко, словно внезапно ушел куда-то. А я сидел один на стуле рядом с ним, уставившись в экран телевизора, ждал, сам не понимая чего.
Через какое-то время — десять секунд, двадцать секунд — он снова открыл глаза, посмотрел на меня и попытался улыбнуться.
— Кажется, я отрубился, — сказал он.
Несколько недель спустя я навещал его в больнице, — до праздника середины лета оставалось всего два дня, и теперь тайное стало явным. Врач сказал, что опухоль вернулась, на этот раз она поселилась в печени, и, когда мы спросили, что можно сделать, молодой серьезный доктор лишь поднял руки и покачал головой.
Папа все понял куда лучше меня.
— На этот раз мне не выкарабкаться, — сказал он, и я хотел возразить, но не нашел слов. — Надеюсь, вы не станете продавать дачу, — сказал он, и я пообещал ему по крайней мере это.
Несколько дней спустя его перевели в хоспис, и он впал в беспамятство.
Третье июля выпало на четверг. Было жарко и душно. Мы сидели в тесной комнатке в хосписе, открыв дверь на небольшую лужайку. Чуть в стороне, за редкими деревьями, виднелся пруд, где стояла цапля, вертя головой и оглядывая неподвижную поверхность воды.
Ночь прошла тяжело. Папа все время издавал звуки: он жалобно плакал и стонал, словно в своем бессознательном состоянии продолжал испытывать боль и тревогу. Мама, ночевавшая на раскладушке в той же комнате, всю ночь не сомкнула глаз.