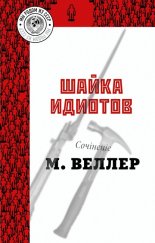Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах Эппле Николай
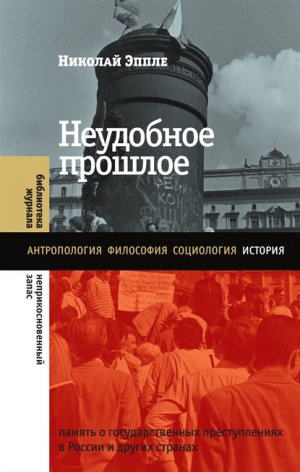
Эта философия имела ряд важных особенностей, делающих ее идеальным объединяющим основанием.
Во-первых, она была «родной» для африканцев, доверие которых к государственной политике было подорвано.
Во-вторых, не была религией, что позволяло апеллировать к ней приверженцам разных направлений христианства и местных культов.
В-третьих, акцентировала основания гуманизма и взаимосвязи, ослабленные за годы взаимной ненависти и розни.
Как было сказано в Переходной конституции ЮАР, действовавшей в 1994–1997 годах, национальное примирение — необходимое условие объединения нации и построения общества на новых основаниях (reconstruction). Для решения этой задачи необходимо основываться на предпочтении «понимания перед местью, возмещения перед расплатой, убунту перед виктимизацией»[197].
В условиях взаимной ненависти и вражды дегуманизации подвергаются не только жертвы насилия и злоупотреблений, но и преступники. Но принцип глубокой взаимосвязи всех членов сообщества, заложенный в философии убунту, предполагает восстановление человеческого достоинства и жертвы, и палача. Только так можно восстановить в обществе доверие и наметить путь к социальной гармонии. Встреча жертвы и палача, обусловленная готовностью видеть друг в друге прежде всего человека, возможна в акте испрашивания и дарования прощения. Это неотъемлемая часть процесса «выяснения правды».
Именно с этим связано возникновение в ЮАР периода работы TRC уникальной «культуры прощения» (или идеологии прощения). Прощение как главный инструмент примирения стало важной темой для всего южноафриканского общества: ее обсуждали в новостях, о ней снимали фильмы и писали книги. Главными проповедниками культуры прощения были Нельсон Мандела и Десмонд Туту. Заметным членом TRC стала Нумла Гободо-Мадикизела, клинический психолог и правозащитник. Наблюдая взаимоотношения жертв и преступников, она разработала концепцию «прощения непростительного» (forgiveness of the unforgivable): принципиально новый и неисследованный механизм преодоления травмы.
Гободо-Мадикизела спорит с Ханной Арендт, для которой «радикальное зло» Холокоста, будучи чем-то несоизмеримым, превышает возможности и прощения, и наказания. Но для Гободо — и тут она сближается с Жаком Деррида и Полем Рикёром — прощение всегда представляет собой преодоление невозможного (это всегда прощение непростительного). Отличие южноафриканской ситуации от Третьего рейха не в масштабах трагедии — такие вещи невозможно сравнивать количественно, — а в том, что тогдашний контекст в Германии не ставил вопроса о прощении и примирении: еврейская община в Германии была почти полностью уничтожена. Между тем в ЮАР и Руанде этот вопрос встает в полный рост. По Гободо, прощение как результат встречи с обидчиком и его покаяния — это единственное реальное средство проработки травмы, которое может служить важной моделью для отдельной личности и всего травмированного общества.
Теория Гободо-Мадикизелы не осталась кабинетным рассуждением, но была проверена ею «экспериментально». После окончания работы в TRC она решает встретиться с сидящим в тюрьме по многочисленным обвинениям в похищениях, пытках и убийствах Юджином де Коком. В 1980х и начале 1990х он руководил подразделением полиции по борьбе с вооруженным сопротивлением, лично участвовал в пытках и убийствах и за особую жестокость получил прозвище «Высшее зло» (трудно не увидеть рифму с «радикальным злом» Арендт и ее книгой об Эйхмане).
Де Кок давал показания Комиссии, в частности обвинил ряд высших руководителей страны в санкционировании деятельности эскадронов смерти. По большинству эпизодов де Кок был амнистирован (его вклад в дело примирения даже отмечен в отчете TRC), но нескольких оставшихся эпизодов хватило для того, чтобы все же приговорить его к нескольким пожизненным заключениям. В тюрьме де Кок выражал раскаяние и даже искал встреч с родственниками своих жертв — это и заинтересовало Гободо-Мадикизелу. После сорока с лишним бесед с де Коком, которые легли в основу ее книги «В ту ночь умер человек» (2003)[198], она поддержала прошение де Кока о помиловании (в тот момент прошение не было удовлетворено). Книга стала международным бестселлером, получившим престижные награды в ЮАР и США.
Еще один важный документ «культуры прощения» — документальный фильм Деборы Хоффман и Фрэнсис Рейд «Долгий путь из ночи в день» (2000), рассказывающий четыре истории прощения.
Первая из них началась 14 июня 1986 года, когда в результате взрыва бомбы в популярном у полицейских баре «Why Not» в городе Дурбан погибли 3 женщины и 69 человек получили ранения. Бомбу заложил член «Умконто ве сизве» Роберт Макбрайд. Через год он был приговорен к смертной казни, но приговор был отложен, а позднее Макбрайд заявил о желании дать показания перед Комиссией. Прося прощения у сестры одной из убитых взрывом, он говорил, что его поступки были политически мотивированы: бар был местом встреч белых сотрудников полиции, а лично против жертв он ничего не имеет. Комиссия признала Макбрайда виновным в «масштабных нарушениях прав человека»: он не мог не знать, что взрывает множество ни в чем не повинных гражданских лиц. И все же он был освобожден.
27 июня 1985 года сотрудники южноафриканских спецслужб убили четверых активистов из города Крэдок, а трупы пытались сжечь. Похороны «Четверки из Крэдока», в которых участвовали тысячи людей со всей страны, стали одним из ярких примеров выхода ситуации в стране из-под контроля властей. В 1996 году трое белых сотрудников полиции заявили о желании выступить перед Комиссией с признательными показаниями в обмен на помилование. Эрик Тэйлор рассказывал, что сделать это его побудил фильм Алана Паркера «Миссисипи в огне» (рассказывающий о расследовании убийства трех черных гражданских активистов в США 1960х) и чтение автобиографии Манделы. Это коренным образом изменило его взгляд на мир. Вдова одного из убитых отказалась прощать убийц мужа, вдова другого заявила, что прощает их, не желая отвечать злом за зло. В 1999 году Комиссия отказаа Тэйлору и его подельникам в амнистии, но они все же остались на свободе.
3 марта 1986 года в Гугулету под Кейптауном полиция расстреляла семерых человек. Официально они были убиты в ходе антитеррористической операции. Как выяснилось позже, внедрив в среду самодеятельных борцов с апартеидом своих агентов, полицейские сами вырастили из них боевую организацию и подстроили расстрел, стремясь выслужиться перед руководством. Похороны Семерки из Гугулету, на которые пришли от 30 до 40 тысяч человек, превратились в одно из самых массовых выступлений против апартеида. Родные убитых безрезультатно добивались расследования инцидента, а в 1996 году попросили Комиссию рассмотреть их дело, пригласив в суд ответственных за полицейскую операцию. Из более десятка организаторов операции только двое (оба были сотрудниками центральных структур) попросили об амнистии в обмен на готовность рассказать о деталях. Черный констебль Тапело Мбело, внедрившийся в состав семерки и работавший провокатором, попросил о личной встрече с матерями убитых, чтобы попросить у них прощения. Одна из них в самой поразительной сцене фильма говорит ему:
Сынок, ты ровесник моего сына, Кристофера. И я хочу сказать тебе сегодня, что как мать Кристофера, я прощаю тебя, сынок. Иди с миром.
И хотя далеко не все матери готовы с ней повторить эти слова, встреча заканчивается тем, что Мбело по очереди обнимает их всех. Беллинген и Мбело были амнистированы в 2002 году.
6 лет спустя после гибели Семерки из Гугулету, 25 августа 1993 года, там же четверо местных жителей убили 26-летнюю Эми Бил, студентку из Стэнфорда, приехавшую в ЮАР изучать борьбу с апартеидом и участвовать в ней. Ранее в этот день убийцы участвовали в собрании местной ячейки «Панафриканской студенческой организации» (PASO), на которой шла речь о том, что задача активистов — сделать страну неуправляемой. Всех четверых судили, они получили от 18 до 22 лет тюрьмы. В 1995 году они подали прошение, чтобы выступить перед Комиссией правды и примирения, заявив, что совершили преступление по политическим мотивам и глубоко раскаиваются.
В 1997 году родители Эми приехали в ЮАР, чтобы встретиться с семьями убийц и сказать, что прощают их. На заседании TRC в 1998 году родители Эми заявили, что, отдавая дань уважения дочери, считавшей примирение южноафриканского общества делом своей жизни, они просят Комиссию помиловать ее убийц:
Эми приехала в ЮАР студенткой и была впечатлена нарисованным Манделой образом «Радужной нации», примиряющей разнородное. Мы глубоко чтим его как образ прощения и примирения. <…> Самое важное средство примирения — это открытый и честный диалог. И мы здесь, чтобы примириться вокруг одной человеческой жизни, которую отняли, лишив возможности вступить в диалог. Когда мы сделаем это, мы должны идти дальше, взявшись за руки.
«Идеология прощения» помогла удержать ЮАР от скатывания в междоусобицу, как это было во множестве африканских стран. Но «покупка правды в обмен на правосудие», помогая избежать большой крови, часто оставляет старые раны кровоточить. Вскоре после освобождения Роберт Макбрайд, взорвавший посетителей бара «Why Not», был взят на работу в полицию и сделал блестящую карьеру, возглавив в конце 1990х полицейский департамент одного из муниципалитетов. В 2015 году, после 20 лет заключения, Юджин де Кок был помилован и вышел из тюрьмы. Позднее стало известно, что он был вынужден покинуть частный дом престарелых в Претории, потому что сотрудники, узнав его, отказались его обслуживать. В марте 2016 года покончил с собой 54-летний Жерар Лотц, один из убийц «Четверки из Крэдока». Родные убитых признались, что рады такому исходу. Сестра одного из них сказала журналистам:
Нам сказали простить, но я не простила. Я вернусь в Крэдок, на могилу матери, и скажу ей, что теперь она может покоиться с миром.
Способны ли публичные покаяния, широко освещаемые в СМИ и обычно заканчивавшиеся амнистией, решить задачу излечения травм прошлого? Об этом в книге «Тревожащие свидетельства»[199] рассуждает известный оксфордский социолог Ли Пэйн. Многие критики южноафриканской модели уверены, что исцеления не происходит. Вместо успокоения возникают новые ожесточенные споры. Однако, как замечает Пэйн, сами эти споры — и публичные исповеди как их спусковой крючок — лучше всего прочего служат выстраиванию демократического сознания, механизмов гражданского участия, способствуют созиданию культуры свободной дискуссии и конкуренции политических программ.
Вопрос об исторической памяти в условиях современной ЮАР звучит так: увенчались ли успехом усилия по примирению и объединению общества? Чем больше времени проходит после завершения работы Комиссии, тем более скептически говорят о ее результатах. Причем больше всего скепсиса в самой ЮАР.
Главный аргумент скептиков — резкое увеличение преступности и неравенства по сравнению с периодом апартеида и массовая эмиграция белых. Действительно, в 1990е число убийств по сравнению с 1950–1970ми годами выросло катастрофически: с 25–30 на 100 000 человек до 70–80. В 2010х этот уровень снизился до 35 человек, почти вернувшись к прежним показателям. По оценкам ООН, уровень насильственных преступлений за последние 10 лет снизился на 40 %, а имущественных — на 24 %. Уровень неравенства, традиционно высокий в ЮАР, после отмены апартеида продолжал расти, особенно активно после 2011 года (в 2018 году ЮАР возглавила рейтинг неравенства Всемирного банка)[200]. Однако в значительной степени продолжающийся рост бедности является результатом неравенства возможностей — фактора, заложенного в годы апартеида. С другой стороны, за прошедшие годы роль расового фактора как определяющего бедность снизилась, а роль образования и конъюнктуры рынка труда выросла. Куда однозначнее статистика, касающаяся соотношения черного и белого населения ЮАР. Если в 1986 году оно выглядело примерно как 5 к 1[201], то в 2015м — уже 10 к 1. После 1994 года ЮАР пережила настоящий исход белого населения. Но даже эти цифры стоит воспринимать, имея в виду ситуацию в соседних Анголе, Мозамбике и Зимбабве, где белых почти не осталось. (Процент белого населения с 1975 по 2012 год снизился в Анголе с 5,2 до 1 %, в Мозамбике с 1,8 до 0,3 %, в Зимбабве с 8 до 0,2 %.)
Пожалуй, самое пронзительное выражение этого скепсиса — роман южноафриканского писателя Джона Кутзее «Бесчестье» (1999). Писатель получил за него вторую в своей карьере Букеровскую премию, а в 2003 году, по совокупности написанного, и Нобелевскую. В 2008 году Стив Джейкобс экранизировал книгу, главную роль в фильме сыграл Джон Малкович. Роман рассказывает о злоключениях Дэвида Лури, белого университетского профессора из Кейптауна, преподающего английскую литературу и принуждающего к сексу студенток. Из-за жалобы одной из них он теряет работу и репутацию. Покинув Кейптаун, он селится на ферме у дочери Люси на территории бывшего бантустана. На ферму нападают хулиганы, Люси насилуют, в результате чего она беременеет.
Несмотря на настояния отца, она отказывается обращаться в полицию или уехать в Голландию, как многие белые. Она решает жить на земле, которую выбрала, и оставить ребенка. Одним из насильников, предполагаемым отцом ребенка, оказывается племянник соседа, который предлагает Люси свое покровительство, если она станет его третьей женой и запишет ферму на него. Этот сосед, пародируя формулу южноафриканской Комиссии, говорит главному герою:
Вы говорите, это плохо, — то, что произошло. И я говорю, что плохо. Плохо. Но с этим покончено[202].
Таковы условия «примирения», и Лури, всю жизнь сам диктовавший условия окружающим, вынужден их принять. Сам Кутзее, в годы апартеида бывший одним из убежденных его критиков, в 2002 году эмигрировал в Австралию.
Однако при всех многочисленных оговорках главный тезис Десмонда Туту о том, что правда ведет к примирению, в случае ЮАР работает. Политолог Джеймс Гибсон в прекрасно выстроенной и аргументированной книге «Преодолевая апартеид: может ли правда примирить разделенную нацию»[203] (она получила приз Американской политологической ассоциации и стала академическим бестселлером) показывает, что в той мере, в какой южноафриканское общество признало факты, вскрытые и опубликованные Комиссией, отношения между его членами изменились к лучшему.
Если попытаться определить слишком широкое и многозначное понятие «примирение» в смысле социально-политического процесса, окажется, что речь идет о нескольких вполне конкретных условиях, и «развязывание узлов» между конкретными жертвами и преступниками — только одно и, ввиду немногочисленности жертв, — не самое весомое условие. Куда важнее преодоление укорененного с колониальных времен и укрепленного апартеидом разобщения между жителями страны, считающими «своими» только представителей собственной расы, а потому фактически не способных брать ответственность за положение в стране в целом и видеть себя в полном смысле ее гражданами.
Не менее важное условие «примирения» — создание культуры терпимости к иным политическим взглядам, уважения к демократическим институтам и правам человека. Ведь нетерпимость была прямым следствием политики сегрегации. В отчете Комиссии сказано:
Примирение требует, чтобы все южноафриканцы взяли на себя моральную и политическую ответственность за выстраивание культуры прав человека и демократии, в рамках которых социально-экономические конфликты разрешаются осторожно и без применения насилия[204].
Поэтому «примирение» означает признание всеми гражданами ЮАР легитимности политических институтов, созданных после демонтажа апартеида.
С учетом того, что в 1980х отчуждение в южноафриканском обществе достигло максимума, как белые, так и черные считали противостояние с оружием в руках «справедливой войной», даже незначительные подвижки в направлении налаживания взаимопонимания стоит считать успехом. Страна не только не скатилась в гражданскую войну, но значительная часть общества сделала заметный шаг на пути к взаимопониманию. По данным социологического исследования, проведенного Гибсоном, уже в 2001 году 94 % черных и 73 % белых южноафриканцев считали апартеид преступлением против человечности. А 76 % черных и 74 % белых признавали, что и апартеид, и борьба против него обернулись преступлениями. Об отсутствии недоверия и стереотипов по отношению к противоположной расовой группе сообщили 37 % черных и 57 % белых. Хотя принципы политической терпимости разделяют только 21 % черных и 35 % белых, о доверии политическим институтам говорят 81 и 62 % соответственно, а о поддержке принципов прав человека — 45 и 77 %.
В 2006 году, подводя итоги президентства Табо Мбеки, Десмонд Туту писал, что в переходе к демократии в ЮАР при всех его недостатках нельзя не видеть важной победы, тем более очевидной на фоне стран (Руанда, Шри-Ланка, Бурунди, Судан и др.), которые скатились в кровь и междоусобицы, не сумев преодолеть разделений, уходящих корнями в трудное прошлое:
Урок южноафриканского перехода к демократии состоит в том, что любое разделенное государство лишено будущего, если пытается двигаться вперед без восстановления правды и прощения. <…>
Преступление нельзя похоронить. Политические преступления не забываются. Мы не забыли, что делали с простыми черными людьми во имя апартеида. Открыв Комиссию правды и примирения, мы знаем куда больше об ужасах той эпохи, чем если бы стремились привлекать виновных к уголовной ответственности или просто двигаться вперед как ни в чем не бывало. Правда сделала нас свободными, позволив примириться с самими собой. Память и прощение позволили нам навсегда оставить в прошлом не дававший нам покоя кошмар. Я искренне надеюсь, что граждане Ирака и других стран, преследуемые своим прошлым, смогут найти возможность жить в мире и с миром в душе.
Спустя 10 лет с ним трудно не согласиться. Современная ЮАР, со всеми ее проблемами и противоречиями, — пример страны, наметившей для себя новое будущее в ситуации, когда будущего могло не быть совсем.
На месте многоточия у Туту следует пассаж о России. Его трудно воспринимать как экспертное суждение, но он интересен в качестве иллюстрации внешних представлений о российском транзите, поэтому приведем его здесь:
Переход к демократии в России начался почти тогда же, когда и у нас. Берлинская стена пала в ноябре 1989го. Нельсон Мандела был освобожден в феврале 1990 года. Но на фоне того, что происходит в России сегодня — буйство организованной преступности, конфликт в Чечне, вспышки насилия вроде захвата заложников в театре и трагедии в Беслане, — южноафриканский транзит выглядит пикником в воскресной школе. Стараясь укрыться от правды о советском прошлом, россияне несут груз прошлого в будущее[205].
4
ПОЛЬША
или
бремя жертвы
В сентябре 1995 года, в 56-ю годовщину вторжения СССР в Польшу, на пересечении улиц Мурановской и Генерала Андерса был открыт мемориал «Павшим и убитым на Востоке». Мемориал изображает стоящий на рельсах вагон, наполненный крестами (среди крестов есть также мусульманские и иудейские символы). На шпалах уходящей в даль железной дороги выбиты названия населенных пунктов, жители которых были депортированы или расстреляны в СССР, названия лагерей и мест ссылки. Мемориал производит сильное впечатление. В 1999 году перед ним молился Иоанн Павел II. И только небольшой информационный стенд с другой стороны площади напоминает, что именно здесь в апреле 1943 года произошло главное сражение Восстания варшавского гетто — оборона Мурановской площади.
Поражающий воображение мемориал и небольшой стенд — сочетание довольно красноречивое. Сказать, что одна память вытесняет и заслоняет собой другую, было бы натяжкой. В 15 минутах ходьбы от Мурановской площади располагается Памятник героям гетто и Музей истории польского еврейства, в 2016 году получивший самую престижную в музейном сообществе награду European Museum of the Year Award. Но наличие одного из лучших в мире музеев, убедительно рассказывающего об ужасах Холокоста, не мешает Варшаве быть столицей государства с крайне высоким уровнем антисемитизма, граждане которого собираются в многотысячные националистические марши, проходящие в нескольких кварталах от места, где располагалось самое большое в Европе еврейское гетто.
Польша — страна, до краев наполненная памятью. Именно к ней более всего приложимо название книги Тины Розенберг о постсоветской Восточной Европе — Haunted Land, «Земля, населенная призраками прошлого»[206]. Но эти памяти существуют в Польше вне связи друг с другом, наслаиваясь, но не смешиваясь. В результате самая гомогенная страна Европы (по данным на конец 1990х годов, 96 % католиков и 95 % этнических поляков) существует в постоянном внутреннем напряжении, живет сразу в нескольких реальностях, переключаясь из одной в другую в зависимости от обстоятельств.
История Польши состоит из постоянного болезненного взаимодействия с соседями. Речь Посполитая располагалась в XVI–XVIII веках на территориях нынешних Польши, Литвы, Украины, Беларуси и России, что оборачивалось крайне сложными отношениями с этими нациями. Освобождение от советской диктатуры в 1989 год неизбежно обернулось, как в других новых демократиях, необходимостью развязывать исторические узлы и осмыслять противоречия, лежащие в плоскости исторической памяти. Польско-германские, польско-российские, польско-литовские, польско-украинские и польско-беларуские противоречия[207] — вот необходимый минимум, без которого невозможно полноценное обсуждение польской памяти. Сколько-нибудь внятное изложение такой комплексной картины в рамках предпринимаемого здесь краткого очерка невозможно. Поэтому при описании польской модели мы сосредоточимся только на двух линиях: работе с социалистическим прошлым и теме ответственности за преступления против польских евреев — главном и наиболее болезненном элементе собственно трудного прошлого Польши.
Ключевая особенность польской модели работы с трудным прошлым связана со сформированной столетиями непростых отношений с соседями идентификацией себя как жертвы внешних сил, с болезненным акцентом на независимости и представлении о национальной измене как самом страшном преступлении. Тина Розенберг[208] пишет:
Независимость — центральная тема истории Польши, страны, неудачностью местоположения уступающей разве только Израилю, многие периоды своей истории существовавшей в виде подпольного заговора, а с 1795 по 1989 год знавшей всего двадцать лет подлинной независимости.
Роль Польши как защитницы европейского христианства и прибежища свободы, утвержденная победой над турками под стенами Вены в 1683 году и воспетая национальным поэтом Веспасианом Коховским, довольно быстро сменилась ролью жертвы. После (третьего по счету) раздела Речи Посполитой в 1795 году между Россией, Пруссией и Австрией Польша исчезла с европейской карты более чем на сотню лет. Гимн Польши, написанный в 1797 году в Италии, — свидетельство не торжества и гордости, а упорства по ту сторону отчаяния. Восстания сторонников национальной независимости жестоко подавлялись властями Российской империи. Жертвами подавления восстания 1830–1831 годов стали 40 тысяч человек (включая раненых), а восстания 1863–1864 годов — от 20 до 30 тысяч человек (только погибшие).
Столетиями существуя под диктатом гораздо более сильных соседей, поляки нуждались в романтическом мифе, осмысляющем свою роль как искупительной и спасительной жертвы[209]. Центральный образ этого мифа — Польша как «Христос народов» — обязан своим рождением сцене из драматической поэмы самого выдающегося польского поэта-романтика Адама Мицкевича «Дзяды», написанной под впечатлением от подавления Россией польского восстания 1830–1831 годов. Один из героев поэмы в своем видении видит народ Польши в образе человека, ведомого на казнь и распинаемого:
- «Я жажду», — стонет он,
- Глотка воды он просит.
- Но уксус Пруссия, желчь — Австрия подносит.
- У ног Свобода-мать стоит, скорбя о нем[210].
А после воскресающего и приносящего европейским народам спасение и освобождение от тирании:
- Народов и царей превыше вознесенный,
- На три короны стал, но сам он без короны.
Укрепленный столетиями несвободы, этот миф стал основой коллективной самоидентификации поляков. Среди составляющих такой самоидентификации
1) героизация страданий, которые воспринимаются как мессианские и очистительные для других;
2) сакрализация измены (национального предательства) как самого страшного и не имеющего прощения преступления;
3) исключительность именно польских страданий и восприятие других претендентов на роль жертвы как конкурентов;
4) базовое недоверие к любым внешним силам: они явно или скрыто посягают на независимость Польши;
5) связь представления о независимости с моноэтничностью и ориентация на построение свободной Польши как национального государства.
Этот миф оказывается рамкой для интерпретации поляками драматических событий своей истории XX века, подкрепляющей их жертвенную идентичность. Вторая мировая война в его свете интерпретируется как «четвертый раздел Польши», а послевоенная советизация — как пятый.
Краткий период независимости Польши, продолжавшийся с ноября 1918го по сентябрь 1939 года, только раззадорил собиравшихся с новыми силами соседей. Размах репрессий в отношении советских поляков в 1930х и 1940х был во многом вызван памятью о поражении в советско-польской войне 1919–1921 годов. Оправданием массовых (не менее 100 тысяч человек) депортаций поляков, населявших территорию Украины в середине 1930х, и «Польской операции» НКВД (одной из самых кровавых операций Большого террора 1937–1938 годов: в ее ходе было расстреляно не менее 85 тысяч поляков, около 30 тысяч отправлены в лагеря) стал миф о Польской военной организации, действительно существовавшей в годы советско-польской войны и разгромленной ЧК в 1921 году[211]. Среди причин волынской резни, когда в 1943 году украинские националисты уничтожили 70 тысяч поляков, — память о польско-украинской войне 1918–1919 годов.
В сентябре 1939 года с разницей в две недели на Польшу обрушиваются всей своей мощью две наиболее агрессивные силы тогдашнего мира, нацистская Германия и СССР. Драматизм положения на раздираемых между двумя империями «кровавых землях» отразил Анджей Вайда в первой сцене своего фильма «Катынь»: 17 сентября 1939 года, в день ввода в Польшу войск Красной армии, на мосту, отделяющем советскую зону от немецкой, сталкиваются поляки, бегущие навстречу друг другу от немцев и от русских. В своей книге «Кровавые земли» американский публицист и историк Тимоти Снайдер упоминает поразительный по трагизму эпизод. 22 июня 1941 года эшелоны с депортированными польскими гражданами, двигавшиеся уже по территории СССР, попали под немецкую бомбардировку: около 2000 погибших стали в буквальном смысле жертвами обоих режимов.
С началом войны с западной стороны линии Молотова-Риббентропа действуют нацистские «айнзац-группы», задачей которых была расправа с мирным населением и «расово неполноценными», с восточной — Красная армия и НКВД. Именно в 1939–1940 годах тут разворачиваются события, которые позже станут известны как Катынское преступление.
В 2009 году польский Институт национальной памяти (далее ИНП) оценил потери страны во Второй мировой войне в 5,6–5,8 млн человек. Из них 2,7 млн — этнические поляки, пострадавшие от немецкой оккупации, от 2,7 до 2,9 млн человек — евреи-жертвы Холокоста, 150 тысяч человек — жертвы советских репрессий.
Одним из сосланных из оккупированных СССР территорий был семнадцатилетний Войцех Ярузельский, будущий генерал и самый могущественный руководитель советской Польши. По пути в Сибирь вместе с сестрой и матерью он думает о том, что, возможно, этим же путем следовал когда-то его дед, сосланный сюда за участие в восстании 1863 года. В 1942 году в Бийске Ярузельский хоронит недавно освободившегося из лагеря отца и мобилизуется в польский корпус Красной армии под руководством генерала Зигмунта Берлинга. В сентябре 1944 года рузельский в составе польского Первого дивизиона сидит в захваченном Красной армией варшавском районе Прага и наблюдает, как в нескольких сотнях метрах по ту сторону Вислы части вермахта подавляют Варшавское восстание — самый масштабный в истории Второй мировой мятеж против нацистов.
В своих воспоминаниях Ярузельский писал:
Две политики столкнулись там, и Варшава пала их жертвой.
Образом отчаянной безысходности Варшавского восстания стал финал раннего фильма Вайды «Канал» (1957), в котором последние герои сопротивления, уходя от нацистов по туннелям канализации, натыкаются на смотрящий на Вислу выход, забранный решеткой.
Окончание войны не стало для Польши освобождением в полном смысле этого слова. Когда в январе 1945 года советские войска все-таки перешли Вислу и заняли Варшаву, среди немногих сохранившихся зданий были постройки варшавского концлагеря, построенного нацистами на месте разрушенного гетто. Он перешел в ведение НКВД, став второй по величине (после Мокотува) тюрьмой, где содержали и расстреливали деятелей подполья и солдат Армии Крайовой (подпольная военная организация, боровшаяся против немецкой оккупации и подчинявшаяся польскому правительству в изгнании).
За разделом Польши между Германией и СССР без зазора следует новый раздел, вот только на этот раз активное участие в нем принимают сами поляки (среди наиболее рьяно проводящих политику советизации оказывается глава Польской рабочей партии Владислав Гомулка). Существенной частью внутренней политики новой Польской Народной Республики становится уничтожение подполья как наиболее непримиримой части оппозиции. Но теперь это делается не столько силами НКВД, сколько силами польских следственных и карательных органов. С 1944 по 1956 год 6 тысяч деятелей подполья приговариваются к смерти, около 300 тысяч оказываются в заключении, порядка 20 тысяч из них там и погибают.
Среди приговоренных к смерти был и ротмистр Витольд Пилецкий, человек невероятной судьбы. Создатель «тайной польской армии» в 1939 году, в 1940м он намеренно сдается немцам и становится заключенным Аушвица, налаживает там подпольную сеть и на протяжении трех лет шлет оттуда донесения, впервые открывающие внешнему миру информацию о Холокосте (донесения становятся основанием одного из рапортов, переданных на Запад)[212]. В 1943 году он бежит из Аушвица, участвует в Варшавском восстании, попадает в немецкий плен, после чего возвращается в Польшу и работает в подполье. В 1947 году он был арестован польской госбезопасностью и подвергнут пыткам. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и подготовке убийства сотрудников госбезопасности. На суде за него отказывается ходатайствовать Юзеф Циранкевич, вместе с ним организовывавший сопротивление в Аушвице. Пилецкого расстреливают, а Циранкевич, незадолго до этого возглавивший правительство ПНР, сохраняет этот пост до 1970 года (с коротким перерывом), дольше, чем кто-либо еще в истории Польши[213].
Герои Варшавского восстания в послевоенной Польше становятся «проклятыми солдатами» (onierze wyklci — общее название для всех членов вооруженного антикоммунистического движения). Память о них старательно замалчивается, их место занимают герои Восстания в гетто, из представителей еврейской общины превратившись в официальной риторике в героев-антифашистов. Памятник Героям гетто был открыт уже в 1946 году и обновлен в 1948м.
Смягчение курса происходит в 1956 году, на фоне политики десталинизации в руководстве СССР и социальной напряженности в польском обществе. Свидетельством кризиса стали познанские протесты против коммунистической политики, при подавлении которых погибли несколько десятков человек и около 500 получили ранения. Польское руководство (в него возвращается пребывавший в опале с 1948 года Гомулка) начинает разыгрывать патриотическую и националистическую карту: амнистированы 35 тысяч бывших солдат Армии Крайовы, начинает легитимизироваться память о Варшавском восстании (в 1956 году принято решение об установлении памятника «героям Варшавы», но сделано это будет только в 1964м). В середине 1960х ветеранскую организацию «Союз борцов за свободу и демократию» (ZBoWiD) возглавляет министр внутренних дел и борец с евреями в партийном руководстве Мечислав Мочар. В «Союз» начинают принимать ветеранов Армии Крайовой, и число членов организации начинает стремительно расти.
Использование националистических настроений в ситуации кризиса оказывается удобной для властей ПНР стратегией. Она используется в 1968 году, когда на фоне экономического кризиса и студенческих волнений врагами объявляются евреи, а затем в 1981м, когда на фоне резкого усиления забастовочного движения и формирования профсоюза «Солидарность» Войцех Ярузельский объявляет военное положение не в качестве главы ПОРП, а от имени «Военного совета национального спасения».
На фоне протестов на Гданьской судоверфи имени Ленина формируется «сторона переговоров» с властью в виде профсоюза «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой. Уже на момент его регистрации в сентябре 1980 года число членов профсоюза достигает 7 млн человек, а в мартовской забастовке 1981 года принимают участие 13 млн (при населении Польши в 35,5 млн). Последней попыткой действовать недоговорным образом стало введение правительством Войцеха Ярузельского военного положения. Это решение было принято под давлением СССР, угрожавшего военным вторжением в случае отказа польских властей ввести режим военного положения. Хотя ситуацию удается временно заморозить, объявив «Солидарность» вне закона и изолировав лидеров оппозиции, экономический кризис углубляется, усиленный введенными США санкциями против СССР, а оппозиция находит силы для сопротивления, воодушевленная визитом в 1983 году в Польшу польского папы Иоанна Павла II и присуждением Леху Валенсе Нобелевской премии мира.
Постоянным «конструктивным фоном» польского транзита, перехода от однопартийной коммунистической диктатуры к либеральной демократии и капитализму, становятся события, разворачивающиеся в СССР. В мае 1985 года, через два месяца после назначения Михаила Горбачева на пост главы ЦК КПСС, он заявил, что «отношения с братскими социалистическими странами вступили в новый исторический этап <…> водить их на помочах нельзя» и призвал «уважать суверенитет, достоинство союзников, в том числе малых, отказываться от иллюзий, что мы можем всех учить». Всего годом раньше Константин Черненко требовал от Ярузельского «искоренить антисоциалистические элементы» и т. д. Это было сказано за четыре года до официальной смены «доктрины Брежнева», предполагающей вмешательство СССР во внутренние дела союзников по Восточному блоку, «доктриной Синатры», предоставлявшей им действовать на свое усмотрение.
Польскому руководству было предоставлено самостоятельно разбираться с последствиями Военного положения. Катастрофически теряющие популярность в условиях сильнейшего экономического кризиса и лишенные прежней поддержки СССР, польские власти начинают переговорный процесс с оппозицией. Движение к нему начинается масштабной амнистией политзаключенных летом 1986 года (под ее действие попали 1500 человек) и увенчивается сначала кулуарными переговорами лидеров ПОРП с лидерами «Солидарности» в Магдаленке в сентябре 1988 года и затем Круглым столом 1989 года. На Круглом столе принимается решение об организации «полусвободных выборов»: «Солидарность» получает доступ к выборам при гарантированном большинстве ПОРП в новом парламенте, а Ярузельскому гарантируется 5 лет в качестве президента. Однако выборы лета 1989 года опрокинули расчеты сторон: «Солидарность» получила все возможные места в Сейме и почти все в новообразованном Сенате; коммунистам осавалось только самораспуститься. На свободных президентских выборах 1990 года побеждает глава «Солидарности» Лех Валенса.
Круглый стол был классическим примером компромиссного переходного механизма (напоминая договоренности демократических сил с военными в Аргентине и Испании и договоренности Манделы с де Клерком в ЮАР): задачей сторон на нем было не разбирательство с прошлым и наказание преступников, а будущее и решение текущих неотложных проблем. Задачей переговоров была организация «не-конфронтационных выборов» для легитимации разделения властных полномочий, и любая попытка намекнуть на ответственность оппонентов за преступления и ошибки сделала бы переговоры невозможными. Отсюда программное заявление в первой речи перед Сеймом первого посткоммунистического премьера Тадеуша Мазовецкого о «проведении жирной черты между настоящим и прошлым», во многом аналогичное испанскому «пакту о забвении» и аргентинскому punto finale.
Впрочем, «жирная черта» Мазовецкого не означала полную амнистию. Решением Сейма в 1990 году была упразднена Служба безопасности, коммунистическая тайная полиция, а ее сотрудники, чтобы сохранить работу, должны были пройти процедуру «верификации», предполагавшую проверку на причастность к нарушениям прав человека. Из 24 тысяч бывших сотрудников на верификацию решились 14 500 человек и 12 тысяч были приняты на работу в новые структуры. Имели место проверки сотрудников и в других ведомствах: так, своих должностей в 1990 году лишились 10 % польских прокуроров и 33 % сотрудников Генпрокуратуры[214].
Компромиссный характер транзита позволил коммунистическим элитам сохранить свои позиции и влияние, исключив сколько-нибудь широкую люстрацию и привлечение к ответственности прежнего руководства. Поскольку коммунистические элиты комфортно устранились от власти и ответственности, а «Солидарность» вынуждена была выводить страну из экономической катастрофы, именно демократы собрали на себя все недовольство общества, а посткоммунисты обеспечили себе возможность реванша. В 1989 году рейтинг ушедшего в отставку лидера советской Польши Войцеха Ярузельского и ПОРП был критически низким, но уже в 1994 году его рейтинг вдвое превышает рейтинг Валенсы, а 71 % поляков называет введение Военного положения оправданным. В 1992 году министр внутренних дел Антоний Мацеревич, один из инициаторов закона о люстрации, выступил в Сейме с докладом, в котором упоминалось о сотрудничестве со спецслужбами десятков высокопоставленных политиков, включая президента Леха Валенсу. Большинство депутатов увидели в этом стремление свести счеты: доклад стал одним из причин отставки правительства.
Тоска по стабильности становится настроением большинства — к 1993 году парламент контролируют уже бывшие коммунисты (Союз демократических левых сил был создан из осколков ПОРП и профсоюзных организаций), а в 1995 году президентом становится бывший член ПОРП Александр Квасьневский. В этой ситуации серьезный разговор об ответственности за коммунистическое прошлое оказывается невозможным.
Первый закон о люстрации, который, впрочем, все признавали скорее уступкой радикальным антикоммунистам, был принят только после усиления позиций правых в 1997 году (а начал действовать в 1999м). По закону, лица, занимавшие государственные должности или претендовавшие на них, должны были подать декларацию, указав, являлись ли они сотрудниками или осведомителями коммунистической Службы безопасности. Те, кто скрывал факт сотрудничества или указывал недостоверные сведения, лишались должности на 10 лет: наказывался не факт сотрудничества, а установленный факт лжи в декларации[215]. Круг должностей, подлежащих такой процедуре, с тех пор остается предметом дискуссии. Еще одним завоеванием правых конца 1990х было открытие в 1998 году Института национальной памяти, который должен был стать аналогом германского Ведомства Гаука. В отличие от него, ИНП сосредоточил в себе сразу несколько функций.
Во-первых, архивную: получив в свое распоряжение все архивы спецслужб коммунистической Польши, ИНП стал крупнейшим архивом Восточной Европы.
Во-вторых, судебную: в ИНП влилась Главная комиссия по расследованию преступлении против польского народа; в 1998–2012 годах институт провел более 9200 расследований (70 % касаются преступлений коммунистов, 20 % — нацистов, остальное — военные преступления), более 400 человек были привлечены к суду, 148 признаны виновными[216].
В-третьих, исследовательскую и просветительскую: институт проводит сотни выставок, разрабатывает образовательные программы, учебные материалы, проводит публичные лекции и т. д.
Наконец, в 2007 году в рамках нового закона о люстрации ИНП был назначен ответственным и за этот процесс (одна из функций сотрудников — рассмотрение десятков тысяч люстрационных деклараций: к 2012 году их было подано порядка 150 тысяч). Новый закон расширил список должностей, подлежащих проверке: если под действие закона подпадали порядка 27 тысяч человек, то с 2007 года это число возросло до 700 тысяч. Сразу после принятия новой версии закона Конституционный суд оспорил это положение, но список по-прежнему довольно широк.
Попытки призвать к ответственности виновных во введении военного положения и связанных с ним нарушениях прав человека, предпринимавшиеся сначала отдельными членами Сейма, а затем ИНП, не имели заметного успеха. Процесс над Войцехом Ярузельским, Чеславом Кищаком (глава МВД в 1989–1990 годах), Станиславом Каней (глава ЦК ПОРП во время военного положения) и другими, шедший с перерывами в 2007–2011 годах, был прекращен по состоянию здоровья обвиняемых (Каня был оправдан).
Примечательно, что основным аргументом защиты Войцеха Ярузельского был довод о том, что военное положение, стоившее стране около сотни жизней и довольно умеренных по меркам Восточной Европы репрессий, позволило предотвратить иностранное вторжение, которое в лучшем случае превратило бы Польшу в еще одну советскую казарму, а в худшем утопило бы страну в крови. Обвинители Ярузельского, напротив, стремились представить его национальным предателем и марионеткой СССР. Фактически разговор об ответственности руководителей ПНР за преступления и ошибки советского периода свелся к выяснению, были ли они защитниками от советской угрозы или же ее проводниками.
В 2000х годах политическое противостояние идет уже не между наследниками коммунистов и антикоммунистами, а между проевропейскими либералами (партия «Гражданская платформа») и националистами-евроскептиками («Право и справедливость»). При этом отношение к коммунистическому наследию по-прежнему оставалось важнейшим предметом споров среди политиков. Ядро ПиС формируется из радикальных антикоммунистов, в 1989 году не принявших переговоры в Магдаленке и Круглый стол, и считавших лидеров «Солидарности» во главе с Валенсой коллаборантами и предателями.
В то же время польское общество в начале 2000х демонстрирует скорее усталость от темы люстрации и вообще предпочитает «не ворошить прошлое». С 1998 по 2003 год число поляков с высшим образованием, не интересующихся прошлым, выросло с 5,7 до 23,3 %. В 2005 году 52 % поляков считали, что люстрация ухудшит политический климат в стране. Неудивительно поэтому, что победа в октябре 2015 года ПиС оказалась для многих неожиданной. Она становится понятной в качестве защитной реакции на усиливающееся (по мере интеграции страны в ЕС) влияние распространенного в Западной Европе критического подхода к своему прошлому. Ключевой для польской коллективной памяти миф о Польше как стране-мученике и жертве внешних сил легко мирится с пережитками советского прошлого, но тема польской вины угрожает самому его существованию и вызывает сильнейшую защитную реакцию. Именно поэтому критический подход к истории активнее всего блокируется (и даже криминализуется) в рамках новой истоической политики «Права и справедливости».
Поэтому дискуссии о польском антисемитизме, разразившиеся в 2000х и 2010х годах, оказываются важнейшей составляющей польской модели памяти.
Сегодняшняя Польша — страна с самым низким в Европе процентом еврейского населения, но очень сильными антисемитскими настроениями. По данным Pew Research, который в 2015 году исследовал[217] шесть государств Европы, Польша оказалась наименее дружелюбно настроенной к евреям страной. Только 59 % опрошенных относятся к евреям положительно (в среднем в 6 странах по Европе 78 %) и 28 % отрицательно[218]. По данным Центра исследования предрассудков Варшавского университета[219], в 2014–2016 годах в польском обществе заметен рост антисемитских настроений. Хотя еврейская община насчитывает сегодня не более 10 тысяч человек (0,1 % населения 38миллионной Польши) и 85 % опрошенных признаются, что лично никогда не сталкивались с евреями, они все менее готовы терпеть евреев в качестве коллег (15 % в 2016м против 10 % в 2014 году), соседей (32 против 26 %) или членов семьи (55 против 45 %)[220]. Такие настроения в стране, без малого 80 лет назад ставшей ареной наиболее кровавых событий Холокоста, — как минимум крайне интересная тема для исследователей памяти.
Рассмотрение этой темы потребует небольшого исторического экскурса.
Польша и евреи: предыстория
С конца XIII века евреи, изгоняемые из Центральной и Западной Европы, находят прибежище в Польше, особенно в правление Казимира III Великого. По переписи 1931 года, в Польше жил 3 130 581 еврей, к 1939 году их число оценивалось уже в 3 474 000, то есть они составляли около 10 % всего населения страны. В Варшаве и Лодзи — двух самых важных еврейских городах Польши — евреи составляли треть населения (по абсолютному числу еврейского населения Варшава уступала только Нью-Йорку), во Львове и Вильно — больше 40 %.
При этом еврейская община Польши была наименее ассимилированной. Евреи могли жить отделенно от поляков-католиков, сохраняя свою идентичность: в межвоенный период только 10 % польских евреев можно было считать ассимилированными, тогда как 80 % отчетливо сохраняли все признаки самобытности. В 1931 году 79 % евреев назвали своим первым языком идиш и только 12 % польский, а еще 9 % иврит. Для сравнения, для подавляющего большинства немецких евреев в это время первым языком был немецкий. В 226 начальных и 12 старших школах Польши преподавание велось на идише или иврите. До войны Институт исследования идиша (позже переехавший в Нью-Йорк) располагался в Вильно (в то время польском городе) и Варшаве. Еврейские партии левой (прежде всего «Бунд», или Еврейский рабочий союз) и правой ориентации были представлены в Сейме. В Польше действовало 15 театральных трупп, игравших на идише, существовали еврейские спортивные клубы.
Резкий рост числа евреев, их изолированное существование и нежелание ассимилироваться, начало индустриализации, потеснившей еврейский «малый бизнес», и смерть в 1935 году Юзефа Пилсудского, боровшегося с антисемитизмом на государственном уровне, привели к усилению антисемитских настроений в конце 1930х годов. Национально-демократическая партия (Эндеция) стала выступать с призывами бойкотировать еврейские магазины, было развернуто общенациональное движение против забоя скота по правилам кашрута, среди католиков вновь распространилась вера в кровавый навет, в университетах появились неофициальные квоты и сегрегационные правила. В результате всего этого только с 1935 по 1937 год в Польше были убиты 79 евреев и 500 были ранены в антиеврейских инцидентах. Если в 1928 году евреи составляли 20,4 % польских студентов, в 1937м их было уже 7,5 %.
Вторая мировая и первые послевоенные годы: убийцы и праведники
Последовавшие за несколько недель одно за другим в сентябре 1939 года нападения Германии и СССР ознаменовали начало Холокоста на территории Польши. В зоне влияния Германии евреи уничтожались, но и в зоне влияния СССР их жизнь не была безопасна. Евреев, отказывавшихся получать советские паспорта, депортировали в Сибирь и Казахстан вместе с поляками. Из 78 339 депортированных органами НКВД с территории Польши в июне 1940 года около 84 % были евреями[221]. Тем не менее после занятия немцами территорий, прежде оккупированных СССР, обвинения в сотрудничестве с советами стали дополнительным фактором, усилившим антисемитские настроения среди местного населения. По данным Института национальной памяти, в 1941 году на территориях Северо-Восточной Польши имело место не менее 30 случаев массового насилия над евреями, в которых, с молчаливого согласия или при прямом потворстве нацистов, участвовало польское население. В 22 населенных пунктах происходили массовые избиения и убийства; тысячи евреев, считавшихся в послевоенные десятилетия жертвами нацистов, в действительности были убиты поляками[222]. Наиболее известным и кровопролитным примером массового убийства поляками евреев стал погром в городке Едвабне, где в июле 1941 года, после ухода советских войск и прихода нацистов, местные жители сожгли живыми несколько сот своих соседей.
История Второй мировой войны, в ходе которой Польше была назначена роль территории уничтожения европейских евреев, помимо примеров соучастия поляков в этом уничтожении, полна примерами героического спасения евреев поляками. За годы войны в Польше было спасено 120 000 евреев. В этом принимали участие до 350 000 (по некоторым данным — до миллиона) поляков. По данным канадского историка Гуннара Паулсона, исследовавшего оккупацию Варшавы, число поляков, спасавших евреев, во много раз превосходило число «шмальцовников» (поляков, выдававших евреев нацистам или наживавшихся, угрожая выдать)[223]. За годы оккупации Варшавы первых насчитывалось 70–90 тысяч, вторых — всего 3–4 тысячи. Эти цифры тем более впечатляют, что Польша была единственным из оккупированных государств, где наказанием не только за укрывание евреев, но даже за снабжение их едой и продажу им продуктов была смертная казнь. За годы оккупации за помощь евреям было расстреляно не менее 5 тысяч поляков. 6620 поляков признаны институтом «Яд Вашем» праведниками народов мира — это больше, чем граждан какой-либо другой страны.
В 1942 году участник польского движения сопротивления, поляк и католик Ян Карский был послан руководством Армии Крайовой в Лондон, чтобы убедить международное сообщество в необходимости спасения польских евреев. Перед этим Карский, переодевшись немецким военным, лично побывал в Варшавском гетто. Глава польского правительства в изгнании Владислав Сикорский написал письмо с призывом выступить в защиту поляков и евреев папе Пию XII и направил доклад Карского руководству Великобритании и США. В 1943 году Карский встретился с президентом США Франклином Рузвельтом и другими видными политиками и деятелями культуры, рассказав им о масштабах Холокоста. Но ему не поверили.
В том же 1942 году деятели сопротивления из числа католиков при участии еврейских активистов создали организацию «Жегота», призванную содействовать спасению евреев. «Жегота» изготовила более 60 тысяч фальшивых документов, с помощью которых евреи могли выдавать себя за поляков. Только в Варшаве благодаря деятельности «Жеготы» быи спасено от 8,5 до 28 тысяч евреев. 700 членов «Жеготы» и около 2 тысяч человек, связанных с ней, были казнены нацистами. Наиболее известный член «Жеготы» — Ирена Сендлер, врач, лично вывезшая из Варшавского гетто 2,5 тысячи детей. Другой пример, ставший широко известным благодаря фильму Ники Каро «Жена смотрителя зоопарка» (2017)[224], — история директора Варшавского зоопарка Яна Жабинского и его жены Антонины, в годы оккупации прятавших в своем доме на территории зоопарка около 300 евреев.
Поражение Германии во Второй мировой не положило конец страданиям польских евреев. Подозрения евреев в сотрудничестве с новыми властями, а также нежелание поляков возвращать присвоенное имущество евреев обернулись новым всплеском антисемитских акций сразу после войны. С сентября 1944го по сентябрь 1946 года зафиксировано 130 случаев насилия, убито по меньшей мере 327 человек. По оценкам Яна Томаша Гросса, число евреев, убитых с момента освобождения Польши от нацистов до конца 1947 года, составило от 500 до 1500 человек[225].
Наиболее известным эпизодом считается погром в Кельце (в 170 км к югу от Варшавы) 4 июля 1946 года. В ходе погрома были убиты от 40 до 47 евреев и 2 поляка, пытавшихся противостоять погромщикам. Несмотря на быстрое и суровое наказание виновных (уже 11 июля 10 человек были приговорены к смерти, еще один к пожизненному заключению, и двое — к длительным срокам), погром в Кельце вызвал волну массовой эмиграции евреев из Польши. Только в июле и августе 1946 года страну покинули 54 тысячи человек (для сравнения, в мае — июне того же года, до погрома, уехало 11 500 человек). Всего c 1945 по 1948 год Польшу покинули более 100 тысяч евреев.
Кампания 1968 года
Последняя волна антисемитизма была, в отличие от предыдущих, спровоцирована властями и проявлялась в политическом и пропагандистском давлении на ассимилированное еврейское меньшинство. В 1968 году на фоне политического кризиса и студенческих волнений правительство Владислава Гомулки решило разыграть антисемитскую карту, чтобы отвлечь внимание общества и канализировать общественное недовольство. В разжигании волнений были обвинены «сионисты», евреи были изгнаны из «Польской объединенной рабочей партии» и с преподавательских должностей в школах и университетах. Под политическим, экономическим и полицейским давлением с 1967 по 1971 год Польшу покинули более 14 000 евреев[226].
Попытки осмысления: от Едвабне до «Иды»
До начала XXI века критический взгляд на отношение поляков к евреям был скорее исключением. К числу таких исключений принадлежит, например, написанное в 1943 году стихотворение Чеслава Милоша «Campo di Fiori». Милош описывает контраст между праздником на рыночной площади (разгар боев в гетто пришелся на католическую Пасхальную неделю) и расстрелом гетто:
- Залпы за стенами гетто
- Глушила лихая полька,
- И подлетали пары
- В весеннюю теплую синь.
- А ветер с домов горящих
- Сносил голубками хлопья,
- И едущие на карусели
- Ловили их на лету.
- Трепал он девушкам юбки,
- Тот ветер с домов горящих,
- Смеялись веселые толпы
- В варшавский праздничный день[227].
Стихотворение Милоша 1945 года «Бедный христианин смотрит на гетто» впервые подняло тему ответственности за Холокост. Много лет спустя, в 1987 году, оно вдохновило Яна Блонского на эссе[228], запустившее первую заметную дискуссию, переомысляющую стереотип польского народа как невинной жертвы истории.
Пример объединяющего общество разговора о трагедии польских евреев — фотоальбом «И я все еще вижу их лица», составленный польской актрисой еврейского происхождения Голдой Тенцер[229]. Альбом составлен из фотографий, присланных в ответ на призыв Тенцер к евреям в Польше и за границей сохранить память о довоенном мире польских евреев. Среди откликнувшихся на призыв было много поляков, сохранивших память о своих друзьях и близких из числа евреев, погибших в годы Холокоста или покинувших Польшу впоследствии.
По-настоящему масштабная дискуссия развернулась после публикации в 2000 году (по-английски в 2001м) книги американского историка польского происхождения Яна Томаша Гросса «Соседи»[230] и трансляции по польскому телевидению документального фильма Ангешки Арнгольд «Где брат мой Каин?». В книге и фильме убедительно доказывается, что погром в Едвабне был делом рук не нацистов, а поляков из числа местных жителей.
Публикация книги (через несколько месяцев по телевидению был показан одноименный фильм Арнгольд), вызвала ни с чем не сопоставимую реакцию. Только в 2000 году в польских СМИ было опубликовано более 130 статей о Едвабне. По подсчетам газеты Rzeczpospolita, в марте 2001 года об этом погроме знали 50 % населения Польши (а среди людей с высшим образованием — до 81 %). Расследование погрома в Едвабне стало первым, которым занялся по распоряжению Сейма ИНП. Расследование установило, что хотя поляки принимали «решающее участие» в погроме, инспирирован он был немцами, на которых, таким образом, лежит значительная часть ответственности. Данные Гросса о 1600 погибших эксперты ИНП сочли завышенными; по их данным, речь может идти о как минимум 340 жертвах, непосредственными исполнителями было не менее 40 человек[231]. В 2004 году в издательстве Принстонского университета вышла книга, собравшая наиболее важные публикации о Едвабне[232]. В июле 2001 года, в 60-ю годовщину трагедии, на месте гибели жертв был установлен новый камень «В память евреев Едвабне и окрестностей, мужчин, женщин и детей, хозяев этой земли, убитых и сожженных заживо на этом месте 10 июля 1941 года» (на камне, установленном в 1961 году, значилось: «Место убийства еврейского населения. Здесь 10 июля 1941 года гестапо и немецкая военная полиция сожгли заживо 1600 человек»). Мемориальную церемонию посетил президент Польши Александр Квасьневский, в своей речи признавший ответственность поляков за убийство и попросивший прощения у еврейского народа.
Извинения Квасьневского вызвали смешанную реакцию среди поляков. По данным опросов, их одобряли 40 % граждан страны (35 % не одобряли) и 44 % считали в той или иной мере необходимыми (35 % не считали таковыми)[233]. Через несколько месяцев после установки нового камня на месте трагедии в центре Едвабне появился мемориал полякам, высланным в Сибирь и Казахстан и погибшим там, подписанный «„Сибиряки“ и польские патриоты Едвабне». Этот «ответный мемориал» не вызывал бы вопросов, если бы не столь распространенный среди оправдывающих еврейские погромы поляков тезис, что эти погромы были местью за сотрудничество евреев с Советами.
Дискуссия вокруг Едвабне, роль которой в поиске национальной идентичности сравнивают с ролью дела Дрейфуса для Франции рубежа XIX–XX веков, показала, что польская политическая элита, существующая в реальности взаимодействия с ЕС, куда в большей степени готова к критическому взгляду на прошлое страны, чем рядовые поляки. В июле 2011 года, в 70-ю годовщину событий, прощения попросил уже президент Бронислав Коморовский, а через месяц после этого мемориал был разрушен, а на камне появилась надпись: «Мы не сожалеем о Едвабне».
В 2012 году на экраны выходит художественный фильм Владислава Пасиковского «Колоски», а в 2013 году — фильм Павла Павликовского «Ида»; оба отчасти основаны на истории пгрома в Едвабне. Фильмы получают признание польской критики, а их создатели — анонимные угрозы. Обе картины номинируются на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», и «Ида» получает его. В 2013 году в Варшаве открывается музей «Полин», посвященный истории польского еврейства. В его экспозиции уделено значительное внимание польскому антисемитизму; погрому в Едвабне посвящен специальный стенд. Отдельное внимание уделено антисемитизму в сегодняшней Польше: в конце экспозиции размещены интерактивные экраны, на которых записаны ответы ученых и деятелей культуры на «трудные вопросы», касающиеся польско-еврейских отношений.
Однако политическая злоба дня, апелляции к консервативным и ксенофобским настроениям сильнее влияют на климат в обществе, чем просветительские усилия. Усиление антисемитских настроений в середине 2010х годов показывает, что годы активного обсуждения темы польской ответственности за убийства евреев обернулись скорее ростом раздражения и усталости польского общества от этой темы, но не реальным признанием этой ответственности. Именно эти настроения использовало «Право и справедливость» для победы на выборах в 2015 году. В ходе предвыборных дебатов будущий президент Анджей Дуда заявил, что извинения за Едвабне — это «попытка разрушить доброе имя Польши».
Именно забота о «добром имени» страны становится одним из главных принципов политики нового президента. Эта забота выражается прежде всего в настойчивом продвижении «аффирмативно-националистического» образа прошлого и блокировании критического подхода к собственной истории. Все более заметен акцент на сюжетах, связанных с героическим прошлым: именно Дуда начал широко праздновать день памяти «проклятых солдат». В 2016 году было объявлено о создании их музея в бывшей тюрьме Мокотув. Запланировано открытие музеев польской истории в Варшаве, музея Юзефа Пилсудского, расширение экспозиции музея Варшавского восстания, представляющего его как моральную победу и пример предательства со стороны СССР. В марте 2016 года в деревне Маркова в Подкарпатье был открыт Музей поляков, спасавших евреев в годы Второй мировой. Нет оснований видеть в этом пример тенденциозного продвижения определенной исторической политики, сказал замминистра культуры Ярослав Селин, предложивший в феврале 2018 года открыть филиал музея на Манхэттене, «где живет больше всего в мире евреев».
Ярким примером столкновения двух исторических политик стал конфликт вокруг Музея Второй мировой войны в Гданьске, разразившийся в 2018 году. Созданный в городе, в котором произошли одни из первых боев Второй мировой, он был призван представить универсалистский взгляд на войну, рассказывать ее историю не с точки зрения исключительно Польши, но поместив в общеевропейский контекст. Идея создания музея принадлежала Дональду Туску, проевропейски ориентированному премьер-министру Польши в 2007–2014 годах (с 2014 года — председатель Европейского совета); в разработке концепции музея приняли участие всемирно известные историки Тимоти Снайдер и Норман Дэвис. Однако открылся музей в 2017 году уже при новом правительстве, и над ним сразу же нависла угроза закрытия. Распоряжением министра культуры (представителя «Права и справедливости») музей был объединен с существовавшим только в проекте Музеем обороны Вестерплатте, который должен делать акцент на польской героической оборонительной войне 1939 года. Это позволило уволить прежнее руководство Музея, заменив его «национально-ориентированными историками». При этом первый камень в основание нового музея был заложен только в сентябре 2019 года.
Образ Польши как жертвы сначала Второй мировой войны, а потом советской диктатуры оказывается священным, попытки критического подхода к прошлому рассматриваются как посягательство на святое. В 2016 году Ян Томаш Гросс был вызван на допрос в прокуратуру по поводу его высказывания в прессе о том, что во время Второй мировой войны поляки убили больше евреев, чем нацистов. Против ученого было заведено дело по статье «Открытое оскорбление нации или Польской Республики». Канцелярия президента обратилась в Министерство внешней политики с запросом о лишении Гросса ордена за заслуги, полученного им в 1996 году (в случае положительного решения историк Тимоти Снайдер, много писавший о страданиях польского народа, пообещал вернуть свой орден за заслуги). Дело было закрыто в 2019 году ввиду невозможности установить точные цифры жертв среди евреев и немцев.
В феврале 2016 года показ по польскому телевидению фильма «Ида» предварялся выступлениями официальных комментаторов, говоривших, в частности, о том, что фильм снят с еврейской точки зрения, а у режиссера есть еврейские корни. В декабре 2016 года «за излишнее внимание к еврейской теме» лишается своего поста директор польского культурного центра в Берлине. Тогда же новый директор ИНП Ярослав Шарек, известный несогласием с результатами расследования 2002 года по Едвабне, увольняет Кшиштофа Персака, одного из авторов доклада[234].
Вершиной такой политики стало принятие в феврале 2018 года поправок к закону 1998 года о полномочиях ИНП. СМИ назвали эти поправки «законом о Холокосте». Поправки 2018 года дополнительно к функциям проведения люстрационных процедур возлагают на ИНП задачу «охраны доброго имени Польской Республики и польского народа» и расширяют список преступлений, отрицание которых предполагает уголовную ответственность. Помимо нацистских преступлений, к ним относятся теперь «другие преступления, представляющие собой преступления против мира, человечности или военные преступления». Летом того же года, после волны критики со стороны международного сообщества, «закон о Холокосте» был смягчен: уголовная ответственность по нему была отменена.
Иллюстрацией исторической политики «Права и справедливости», отражающей культивирование образа жертвы, стало заявление известного польского журналиста и писателя Марека Кохана. В рамках дискуссии вокруг нового закона он предложил создать «музей Полокоста». В колонке газеты «Речьпосполита» Кохан заявил:
Израиль с большим успехом утверждает нарратив, сводящий жертв войны к жертвам Холокоста. Каждое государство имеет право на свою историческую политику. Полокост — это не Холокост, но в этом случае речь также идет об угрозе существованию целого народа. Польские жертвы также имеют право на то, чтобы о них помнили[235].
Два рассмотренных нами сюжета — болезненная память о соучастии в уничтожении еврейского населения и о социалистическом прошлом, которое невозможно полностью списать на СССР, — тесно связаны друг с другом. О том, что они представляют собой части единого пазла, свидетельствует, в частности, вызвавшая большой резонанс в Польше книга польского культуролога и психотерапевта Анджея Ледера «Революция сомнамбул»[236].
По Ледеру, с 1929 по 1956 год в Польше совершился радикальный социальный слом, причиной которого стало воздействие внешних сил. C началом Второй мировой войны немецкая армия уничтожила еврейское население, а позднее советская армия выдавила немецкое население с запада страны, в том числе с земель, прежде принадлежавших Германии. Поскольку евреи и немцы в Польше этого времени в значительной степени составляли мелкую буржуазию, или средний класс (этносоциальное разделение функций — наследие еще классической Речи Посполитой), это означало фактически выветривание среднего класса. Затем коммунисты уничтожили польскую аристократию — прежде всего это были крупные землевладельцы — сначала путем террора, затем национализацией земли. Последним этапом стала аграрная реформа и индустриализация, которую Ледер называет «индустриальным террором». Для крестьянства преимущественно этнических поляков — занятие опустевшей социальной ниши, часто включавшей буквально заселение в опустевшие дома и захват бесхозной собственности, стало мощнейшим социальным лифтом. Фактически социализм открыл для них прежде недоступные возможности, и общество, особенно выстраивавшееся на западе страны, было гораздо менее иерархичным, чем довоенное. Складывание общества среднего класса, которое стало базой поддержки «Солидарности» и двигателем преобразований рубежа 1980х и 1990х, было определено именно этой революцией.
Однако особенность этого сдвига в том (тут Ледер выступает не столько как культуролог, сколько как психотерапевт, указывая на момент, особенно интересный для исследователей памяти), что польский средний класс вытеснил память о том, как именно он стал тем, чем стал. Место болезненного сознания подлинных обстоятельств возникновения среднего класса заняло представление о себе как о жертве внешних сил. Это перенос по смежности: описанная трансформация действительно была вызвана действием внешних обстоятельств, причем бенефициары этих изменений фактически оказались лишены возможности действовать самостоятельно. Поэтому и ответственность за произошедшее оказывается экстериоризирована. По Ледеру, проблема тут в том, что, блокируя осознание произошедшей революции, польский средний класс не может в полной мере воспользоваться и ее плодами.
Культивирование национальных мифов, сосредоточенность на защите своего доброго имени и страх критического подхода к прошлому — свидетельство признания того, что это прошлое представляет для настоящего серьезную опасность. Ян Томаш Гросс в эпилоге «Соседей» пишет:
История общества — это не что иное, как коллективная биография. <…> И если в каком-то пункте биографии есть ложь, то все, что произойдет позже, тоже будет каким-то образом не подлинное, проникнутое беспокойством и неуверенностью. И в результате вместо того, чтобы жить собственной жизнью, мы будем недоверчиво оглядываться, пытаясь догадаться, что о нас думают другие, отвлекать внимание от стыдных эпизодов в прошлом и все время защищать свое доброе имя, усматривая в каждой своей неудаче заговор чужаков. Польша в этом отношении не исключение в Европе. И, как и в случае обществ нескольких других стран, чтобы обрести собственное прошлое, мы будем должны рассказать о нем себе заново.
Ключевая черта польского мифа, мешающая такому трезвому рассказу, — культивирование образа жертвы внешних сил, превращающее политику декоммунизации и любой разговор о прошлом в защиту от внешних и внутренних врагов[237]. Принимая во внимание историю Польши (и агрессивную политику России последних лет), сосредоточенность на этом мифе очень понятна. Но культивация комплекса жертвы внешней агрессии крайне вредна для самой Польши. Оказываясь для многих легким способом уйти от собственной ответственности за прошлое, эта культивация опасна не тем, что мешает реализовывать «правильную», либеральную или универсалистскую политику, а тем, что тормозит развитие страны и общества.
В похожей ситуации оказалась Австрия, которой роль жертвы Второй мировой позволила в значительной мере сгладить разговор о собственной ответственности за преступления нацистов. В итоге национализм в Австрии сегодня распространен куда сильнее, чем в Германии. Культивирование образа жертвы не позволяет модернизировать общество — поставить ответственную, самостоятельную личность в центр горизонтальных общественных связей, которые, собственно, и формируют гражданское общество. По другому поводу хорошо знавший и любивший Польшу и польскую культуру Иосиф Бродский писал:
В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить. <…> В конце концов, статус жертвы не лишен своей привлекательности. Он вызывает сочувствие, наделяет отличием, и целые страны и континенты нежатся в сумраке психологических скидок, преподносимых как сознание жертвы[238].
5
ГЕРМАНИЯ
или
от вины к ответственности
В 1984 году мир обошла новость о том, что в архивах Имперского военного музея в Лондоне обнаружен до сих пор неизвестный документальный фильм о Холокосте, снятый самим Альфредом Хичкоком. Фильм снимался по заказу британского министерства информации, его продюсером был британский медиамагнат Сидни Бернстайн. C начала 1930х годов он помогал германским кинематографистам, не желавшим сотрудничать с нацистами, уехать из Германии и найти работу в Британии и США, а с конца 1930х продюсировал антифашистские ленты.
В 1945 году Бернстайн пригласил Хичкока, с которым сдружился в годы войны, участвовать в работе над фильмом под рабочим названием «Память о лагерях». Фильм должен был стать частью британо-американской программы «перевоспитания» населения Германии (она также включала принудительные «экскурсии» в лагеря и захоронение трупов заключенных). Основой фильма были кадры, снимавшиеся британскими, американскими и советскими операторами при входе военных частей союзников на территорию концлагерей Берген-Бельзен и Аушвиц весной 1945 года.
При съемке лагерей Хичкок требовал от операторов делать как можно более долгие планы, показывая соседство лагерей и их невероятной реальности с окружающей их обычной жизнью и узнаваемыми пейзажами. Это позволяло сделать изображение убедительным, а кроме того, лишало Германию возможности сказать, что съемки были постановочными и производились в павильонах. Первые впечатления «мастера ужасов» были настолько сильными, что он вынужден был на неделю приостановить работу, чтобы прийти в себя. Не меньше были впечатлены сотрудники британского МИДа; просмотрев отснятый материал, они сочли его излишне «провокационным», и фильм уже в 1945 году был положен на полку, где пролежал десятки лет[239].
История немецкого переосмысления прошлого давно стала одним из важных учредительных мифов послевоенного миропорядка, будучи многообразно вплетенной в самые разные сферы культуры и сильно изменив интеллектуальный климат в Европе и во всем мире. Именно в рамках работы с прошлым в Германии были впервые продуманы концепции тоталитаризма, преступности государства, типов вины и ответственности; и именно немецкие слова Vergangenheitsbewltigung («преодоление прошлого») и Vergangenheitsaufarbeitung («проработка прошлого») стали международными терминами. Но как показывает эпизод с фильмом Хичкока, в этой истории до сих пор много нерассказанных сюжетов, а ее триумфальный характер, как это обычно бывает с мифами, сильно преувеличен. В значительной степени это история неудач — неудач в попытках насильно перевоспитать побежденную нацию, отделить чистых от нечистых, снова и снова «закрыть тему» и освободиться от нее. В итоге трудности и проблемы немецкой работы с нацистским прошлым не менее, а, может быть, более важны для тех, кто хочет поучиться на примере Германии.
Нюрнбергские трибуналы
Ключевым эпизодом процесса восстановления справедливости извне и хрестоматийным образцом правосудия переходного периода стали Нюрнбергские трибуналы. (В России принято говорить о них в единственном числе, на Западе — во множественном. То и другое по-своему оправданно: именно первый из 13 трибуналов был судом над наиболее высокопоставленными руководителями, и именно в нем участвовали представители всех стран-победителей. С другой стороны, все трибуналы основывались на разработанном всеми странами-победителями Нюрнбергском протоколе, который с юридической точки зрения является главным завоеванием Нюрнберга.) С одной стороны, именно Нюрнберг по праву считается образцом юридического и морального торжества правды и павосудия; там безусловное зло нацизма было не просто побеждено в войне, но и призвано к ответу за содеянное. Виновные оказались на скамье подсудимых перед всем цивилизованным миром — и получили по заслугам. С другой — реальные плоды Нюрнберга и реальное отношение к нему современников сильно отличались от блестящего «нюрнбергского мифа».
Процесс, проходивший в нюрнбергском Дворце правосудия с ноября 1945 года по октябрь 1946 года и рассматривавший дела «главных военных преступников и руководителей Третьего рейха», был первым из 13 подобного рода судов. На первом процессе перед судом предстал 21 обвиняемый; из них 12 были приговорены к смерти, 3 — к пожизненному заключению, 4 — к 10–20 годам тюрьмы, а трое оправданы. На 12 последующих процессах обвинения были предъявлены более чем 5 тысячам человек, вынесено более 800 смертных приговоров, из которых приведено в исполнение около 500.
Нюрнбергские трибуналы изначально вызвали крайне двойственное отношение как в Германии, так и за ее пределами. С одной стороны, это было очевидным торжеством принципа ответственности и верховенства закона: руководители преступного государства предстали перед судом мировых держав. С другой — суть происходящего во многом противоречила впечатляющей картинке. Нюрнберг стал хрестоматийным примером «суда победителей». Харлан Ф. Стоун, председатель Верховного суда США в 1941–1946 годах, даже назвал его «мошенничеством»: принцип состязательности не соблюдался, допускалось обратное действие законов, индивидуальная ответственность смешивалась с коллективной, преступления союзников (бомбардировки Дрездена, грабежи и изнасилования гражданского населения) не рассматривались. Те, кто олицетворял торжество правосудия, также не всегда годились на эту роль: главные обвинители от СССР Иона Никитченко и Роман Руденко были активными участниками Большого террора; обвинитель от США Фрэнсис Бидл в годы пребывания на посту генерального прокурора санкционировал создание лагерей для интернированных японцев.
О предвзятости нюрнбергского правосудия свидетельствовал и довольно прихотливый выбор обвиняемых. Гейнц Гудериан, легендарный создатель танковых войск Третьего рейха и глава генерального штаба в 1945 году, попавший в плен к американцам, участвовал в процессе как свидетель, в 1948м был освобожден, а в 1950х годах стал военным советником канцлера Аденауэра. Фридрих Паулюс, главный разработчик плана «Барбаросса» и командующий 6й армией, уничтоженной под Сталинградом, где он сам попал в плен, участвовал в процессе как свидетель обвинения (что вызвало негодование подсудимых); прожив многие годы на положении персонального пенсионера в СССР, после смерти Сталина он был отпущен умирать в ГДР. Курт Цейтлер, глава генерального штаба в 1942–1944 годах, попавший в плен к англичанам и тоже оказавшийся на процессе в качестве свидетеля, был освобожден в 1947 году и умер своей смертью в 1963м.
Отношение немцев к Нюрнбергским трибуналам хорошо иллюстрируют данные опросов, опубликованные Ричардом Мерриттом, исследовавшим общественное мнение в послевоенной Германии[240]. Хотя подавляющее большинство населения Германии (79 %) считало трибуналы справедливыми, их уроки толковались скорее в смысле «мы больше так не будем», чем в духе торжества правосудия: 30 % главным выводом считали недопустимость в будущем повиновения диктатору, 26 % — недопустимость участия в агрессивной войне; только 3 % видели в трибуналах торжество закона и всего 2 % — прав человека.
Реальная роль Нюрнбергских трибуналов в осуждении расовой политики Третьего рейха и того, что позже стало именоваться Холокостом, была, в противоположность «мифу о Нюрнберге», крайне скромной, отмечает американский исследователь германской коллективной памяти Джеффри Олик. И даже вклад в юридическую теорию «преступлений против человечности» был преимущественно риторическим: была разработана сама категория, но на практике она проводилась не слишком последовательно[241].
Подлинно революционным было предложение юриста и полковника армии США Мюррея Бернейса, «архитектора нюрнбергских трибуналов», применить к нацистским преступникам обвинение в преступном заговоре (conspiracy). Эта категория, хорошо разработанная в американской юридической системе, в отличие от европейской, позволяла привлечь к ответственности большое количество нацистских руководителей, доказательств прямого участия которых в военных преступлениях могло не быть. Это давало возможность признать преступными целые организации, а также криминализировать преступления нацистов против собственного гражданского населения, совершенные до начала войны. Этот момент был особенно важен для Бернейса, родившегося в России американского еврея. Именно под эту категорию попадали преследования немецких евреев, ведь военными преступлениями можно было считать только преследования евреев на оккупированных территориях в годы войны[242].
Однако концепция преступного заговора использовалась трибуналом лишь в ограниченном смысле. Согласно вердикту Нюрнбергского трибунала, преступления против немецких евреев не подпадают под его юрисдикцию:
До войны 1939 года в Германии самым безжалостным образом проводилась политика преследования, подавления и убийства всех лиц из числа гражданского населения, о которых можно было предположить, что они настроены враждебно по отношению к правительству. Также несомненно является установленным факт преследования евреев в течение того же периода. Действия, инкриминируемые в период до момента начала войны, могут считаться преступлениями против человечности только в том случае, если они совершались в ходе или в связи с любым из преступлений, подлежащих юрисдикции Трибунала. Трибунал считает, что не было с достаточной убедительностью доказано то, что эти действия совершались во исполнение или в связи с любым таким преступлением, насколько бы отвратительными и ужасными многие из них ни являлись. Поэтому Трибунал не может сделать заявления общего характера относительно того, что действия, совершенные до 1939 года, являются преступлениями против человечности в том смысле, как они определены Уставом[243].
Нюрнбергские трибуналы были восстановлением справедливости извне, руками внешних сил. Они помогли рядовым немцам сформировать представление о том, что действительные виновные в преступлениях нацизма определены и наказаны. Вопрос же об ответственности германского общества перед жертвами для подавляющего большинства не стоял. Главными жертвами войны обычные немцы чувствовали себя. Политика денацификации — немецкий историк Йорг Фридрих назвал ее «нюрнбергом обычного человека»[244] — только обострила это ощущение.
Денацификация
В американской, британской и французской оккупационных зонах денацификация выглядела как попытка быстро и эффективно отделить агнцев от козлищ, виновных в сотрудничестве с нацистами от невиновных. В американской зоне на одном из этапов всем гражданам старше 18 лет было предложено (в обмен на право получить талоны на продовольствие) заполнить специальную форму, ответив на вопросы о сотрудничестве с НСДАП. Те, чье прошлое вызывало вопросы, приглашались для разбирательства в импровизированные судебные коллегии (Spruchkammern) в составе одного юриста и двух антифашистов из числа граждан. Из 15 млн жителей американской зоны такую процедуру прошли 4 млн. Коллегии причисляли человека, чье дело слушалось, к одной из пяти категорий — от крупных преступников до «попутчиков» и тех, кто подлежал реабилитации.
Эта процедура неизбежно превращалась в профанацию и давала простор для злоупотреблений. Коллегии, которые тысячами выдавали справки о признании «попутчиками» бывшим высокопоставленным нацистам, стали называть «фабриками попутчиков». Пастор Матин Нимёллер (именно ему принадлежат знаменитые слова «когда пришли за коммунистами, я молчал, ведь я не был коммунистом» и т. д.) рекомендовал своей пастве не принимать участие в коллегиях. Одной из распространенных практик было заручиться свидетельством тех, кто находился вне подозрения (к их числу относились евреи, члены антифашистского подполья и священники); полученные таким образом свидетельства назывались Persilscheine (по названию марки стирального порошка, хорошо справлявшегося с коричневыми пятнами — цветом, символизировавшим нацизм).
Отношение к денацификации характерным образом преломилось в раннем фильме датского режиссера Ларса фон Триера «Европа» (1991). Триер исполнил в нем роль еврея, подкупленного, чтобы дать ложные показания в пользу нацистского преступника по имени Макс Хартманн. Герой Триера обнимает его и говорит: «Макс Хартманн мой друг. Он прятал меня у себя в подвале и кормил». Этот эпизод, как и отношение Триера к послевоенной политике союзников, становится понятнее, если учесть, что фамилию Хартманн носил настоящий отец режиссера. В 1989 году режиссер узнал, что его биологическим отцом был не датчанин еврейского происхождения, левак и коммунист Ульф Триер, а немец и католик Фриц Михаэль Хартманн, так и не признавший своего незаконнорожденного сына.
В итоге меры, призванные «обеззаразить» общество, оказались полностью скомпрометированными. Термин «денацификация» стал обозначать технику обеления виновных. Политика денацификации закончилась так же стремительно и под влиянием внешних обстоятельств, как и началась. С приближением холодной войны задача привлечения Западной Германии на свою сторону стала для США более насущной, чем задача очищения и перевоспитания ее населения.
В 1949 году президент Гарри Трумен сократил расходы на Нюрнбергские трибуналы, а в январе 1951го помощник военного секретаря США Джон Макклой, один из главных идеологов денацификации, отменил смертные приговоры 10 из 15 осужденных и сократил сроки 64 из 74 приговоренных к тюремному заключению — в том числе всем промышленникам. Альфред Крупп, осужденный на 12 лет за использование труда заключенных Аушвица, вышел через 3 года, сохранив свою промышленную империю. В 1957 году он появился на обложке журнала Time как богатейший человек Европы.
В советской оккупационной зоне денацификацию проводили с большевистской прямотой, не отвлекаясь на попытки «перевоспитания». Обвиненные в сотрудничестве с НСДАП, а заодно и в антикоммунизме, отправились в лагеря интернированных, подчинявшихся НКВД. В 1946–1950 годах в этих лагерях находились более 120 тысяч человек. По разным сведениям, от 40 до 80 тысяч умерли изза плохих условий содержания. Те, кто дожил до расформирования лагерей в 1950 году, вскоре предстали перед новыми трибуналами на территории ГДР.
Неготовность общества принять ответственность и начало рефлексии в среде интеллектуалов
Настроения в германском обществе обозначила уже реакция на первую заметную попытку заговорить об ответственности рядовых немцев. В октябре 1946 года Совет Евангелической церкви Германии (состоявший по большей части из членов Исповедующей церкви, в 1934 году открыто воспротивившейся нацистской идеологии и отделившейся от официальной немецкий церкви[245]) выпустил документ под названием «Штутгартское исповедание вины». В этом документе церковь признавала свою ответственность за преступления нацистов. Авторы Исповедания писали:
С глубокой болью мы заявляем: через нас многие народы и страны были ввергнуты в безмерное страдание. То, о чем часто свидетельствовали на своих собраниях, мы ныне объявляем от имени всей Церкви. Многие годы мы боролись во имя Иисуса Христа против духа, нашедшего свое ужасающее выражение в тираническом режиме национал-социализма, но мы обвиняем себя за то, что нашему свидетельству не доставало мужества, молитве — верности, вере — радости, а любви — огня.
Это было первое заявление такого рода, заметно опередившее свое время и первоначально вызвавшее почти единодушно негативную реакцию и в церкви, и за ее пределами. Составители Исповедания получили огромное количество разгневанных писем от простых немцев. Их авторы писали, что немецкий народ — жертва, и винить себя ему не в чем, что союзники ведут себя, как нацисты, что роль Церкви — не призывать к покаянию тех, кому не в чем каяться, а умирять дух ненависти, разделяющий оппонентов. Показательнее всего письмо некоего господина Д. из Ганновера, разгневанного в первую очередь ключевой формулой «через нас». Подлинной причиной прихода к власти нацистов и их злодеянии он называет «преступления Версаля»:
Неужели авторы этого признания вины совершенно забыли о бесконечных страданиях, на которые обрекли народ Германии враги, начиная с голодной блокады времен [Первой] мировой войны и преследовании немцев по всему миру и заканчивая бомбовыми ударами (чего стоит один Дрезден!) и миллионами беженцев с Востока, сгрудившихся на оставшихся [западных] территориях, не в силах обеспечить себя?[246]
Человеком, настоявшим на формулировке «через нас», был уже упоминавшийся Мартин Нимёллер, один из самых уважаемых пасторов послевоенной Германии, сам проведший 7 лет в нацистских лагерях за открытую критику Гитлера. В знак уважения город Лотте принял решение вручить ему ключи от города, но после публикации Исповедания это решение было отозвано[247].
Первые послевоенные годы, ставшие для большей части германского общества временем шока и первичной травматизации, были в то же время отмечены нараставшей быстрыми темпами дискуссией о вине и ответственности в среде интеллектуалов. Книга исследователя Джеффри Олика «В доме повесившего», посвященная этим дискуссиям 1945–1949 годов, похожа на энциклопедию послевоенной германской мысли. (Любопытна история ее возникновения. Как пишет в предисловии сам Олик, изначально он задался целью написать исследование о «споре историков» 1985–1986 годов. Однако вскоре стало ясно, что для понимания сути спора необходимо понимание его контекста: воззрений германского общества и государственной риторики на момент провозглашения независимости послевоенной Германии в 1949 году. Однако и эта задача предполагала некую экспозицию — описание того, что происходило с момента капитуляции до провозглашения независимости. То, что первоначально писалось как краткий пролог, выросло в итоге в самостоятельную и богатую интереснейшим материалом книгу. Замысел исследования о споре историков был осуществлен позднее в виде книги «The Sins of the Fathers».) Томас и Генрих Манны, Карл Ясперс и Бертольд Брехт, Теодор Адорно и Карл Барт, Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт — это только самые известные из участников описанных в книге дискуссий.
Стройному хору тех, кто называл главными жертвами самих немцев, страдавших сначала от беззаконий нацистов, а потом от бомбежек союзников, уже с начала 1940х отвечали немногие, но сильные голоса представителей цвета немецкой мысли. Одним из самых горьких высказываний о Германии этого времени был роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» (работа над ним велась с 1943 по 1946 год). История сделки с дьяволом, рассказываемая в романе, оказывается метафорой великой германской культуры, отравленной сотрудничеством со злом.
Заокеанский генерал приказывает населению Веймара продефилировать перед крематорием тамошнего концлагеря, объявляет (так ли уж несправедливо?) всех этих бюргеров — по видимости честно продолжавших заниматься своими делами, хотя ветер и доносил до них зловоние горелого человеческого мяса, — соответчиками за совершенные злодеяния и требует, чтобы они своими глазами все это увидели. Пусть смотрят, я смотрю вместе с ними, мысленно бок о бок с ними прохожу в тупо молчащих или содрогающихся о ужаса рядах. Взломаны толстые двери застенка, в который превратила Германию власть, с первых же дней обреченная ничтожеству; наш позор предстал теперь глазам всего мира <…> Я говорю: наш позор. Ибо это не ипохондрия говорить себе, что все немецкое — и немецкий дух тоже, немецкая мысль, немецкое Слово — ввергнуто в пучину позора, справедливо взято под сомнение, обесчещено тем, что сейчас выставлено напоказ. И не болезненное самоуничижение спрашивать себя: смогут ли в будущем немцы о себе заявлять на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?
Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершили преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман, к народу, запутавшемуся в собственных тенетах, духовно сожженному, откровенно отчаявшемуся в умении управлять собой, к народу, которому кажется, что стать колонией других держав для него еще наилучший исход, к народу, который будет жить отрешенно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими[248].
Ко времени выхода романа Манн, в 1933 году эмигрировавший в Швейцарию, в 1936м лишенный за критику нацистов гражданства, а с 1938 года живущий в США, уже стал олицетворением «другой Германии». (Именно в контексте дискуссии о «другой Германии» рождается столь важный для СССР и России концепт «внутренней эмиграции». Это выражение вводит немецкий писатель Франк Тис, настаивавший в споре с Томасом Манном в 1945 году, что немцы, которые предпочли бегству от Гитлера уход во внутреннюю [как правило, неявную] оппозицию режиму, имеют не меньше, а то и больше прав на роль спасителей достоинства Германии, непричастной преступлениям нацистов.) Именно в этом качестве в мае 1945 года он произносит в Библиотеке Конгресса речь «Германия и немцы», намного предвосхитившую работу германской коллективной памяти, и намечает путь работы германского общества с самим собой:
Нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание». В том, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, — во всем этом нет ничего от ученой холодности, отчужденности, беспристрастности, все это живет во мне, все это я испытал на себе. <…> То, что я здесь — поневоле вкратце — хотел сообщить вам, было образцом немецкой самокритики, и, право же, ни на каком ином пути я не мог бы сохранить большую верность немецкой традиции. Склонность к самокритике, доходившая нередко до самоотрицания, до самопроклинания, — это исконно немецкая черта, и навсегда останется непонятным, как мог народ, в такой степени склонный к самопознанию, прийти к идее мирового господства…[249]
Другой голос, возвышенный за принятие общей для всех немцев ответственности за преступления нацизма, принадлежал психиатру и философу Карлу Ясперсу. Женатый на еврейке, Ясперс в 1937 году был отстранен от преподавания и до конца войны находился в изоляции, ожидая ареста. В 1945 году он возвращается к чтению лекций в университете Гейдельберга. Одним из первых стал курс, посвященный проблеме вины и ответственности Германии.
Прежде всего Ясперс, как подобает философу, разграничивает разные понимания виновности — уголовной, политической, моральной и метафизической. Это разграничение «проясняет смысл упреков со стороны мировой общественности и собственной совести»:
Политическая виновность хоть и означает ответственность всех граждан данного государства за последствия его действия, но не означает уголовной и моральной виновности каждого отдельного гражданина в преступлениях, совершенных именем этого государства. Относительно преступлений — судить судье, относительно политической ответственности — победителю; относительно нравственной виновности можно поистине только в борении любви говорить солидарным между собой людям. Относительно метафизической виновности возможно, вероятно, откровение в конкретной ситуации, в поэтическом или философском произведении, но о ней вряд ли можно что-либо сообщить лично от себя[250].
Нюрнбергский процесс, суд внешних, позорен для Германии, говорит Ясперс. Но это естественный «результат того факта, что не немцы освободили себя от преступного режима, а союзники освободили нас от него». Нюрнберг решает вопрос юридической вины преступников, вынося им наказание, но тем самым только острее ставит вопрос виновности всех немцев. Речь идет не о «коллективной вине», категории абсурдной и предполагающей коллективистский взгляд на общество и нацию, но об ответственности народа на политическом уровне и индивидов на моральном и метафизическом. И здесь только личное признание вины может стать путем к очищению, но лишь при условии, что это будет процесс свободный и внутренне осознанный:
Мы, немцы, стоим здесь перед альтернативой. Либо признание вины, которую остальной мир не имеет в виду, но о которой нам говорит наша совесть, станет главной чертой нашего немецкого самосознания — и тогда наша душа пойдет путем преображения. Либо мы опустимся в заурядность безразличного существования <…> Без пути очищения, идущего из глубинного сознания своей вины, немцу не добыть правды[251].
Важно, что призыв к внутреннему самоочищению вовсе не ограничивается у Ясперса духовной и индивидуальной сферой. Оно необходимо и для политического освобождения:
Очищение — это условие и нашей политической свободы. Ибо лишь из сознания виновности возникает сознание солидарности и собственной ответственности, без которого невозможна свобода[252].
Лекциям Ясперса предстояло заложить основание для последующей дискуссии на тему вины и ответственности во всей Германии, однако первоначально они воспринимались в штыки даже в небольшой университетской аудитории. По свидетельству одного из слушателей, студенты вели себя настолько вызывающе, что Ясперсу приходилось прерывать свои выступления.
Позицию Ясперса воспринимали враждебно не только студенты. В письме Ханне Арендт он так описывает обстановку, которая окружала его в эти годы:
За моей спиной люди клевещут на меня: коммунисты называют меня ярым сторонником национал-социализма; сердитые неудачники — предателем своей страны[253].
Германское общество считало себя жертвой внешних сил или старалось не думать о подобных материях.
В мае 1949 года Парламентский совет 11 земель Германии объявил о создании Федеративной Республики Германии на территории британской, французской и американской оккупационных зон и назвал ее единственным легитимным германским государством. Политикой правительства Конрада Аденауэра, первого канцлера независимой Германии, антифашиста и одного из основателей партии христианских демократов, становится стремление нейтрализовать последствия внешнего давления оккупационных властей и объединитьрасколотое и деморализованное германское общество. Едва ли не единственным, что объединяло в эти годы население ФРГ, было ощущение себя жертвами нацистской диктатуры, войны и жестокостей союзников, а также недовольство политикой денацификации, которая прямо или косвенно коснулась от четверти до двух третей населения ФРГ.
В своей речи после первых демократических выборов летом 1949 года первый президент ФРГ Теодор Хойс заявил о необходимости оставить прошлое позади (Fertigwerden mit der Vergangenheit). По данным опроса, проведенного накануне выборов Алленсбахским иститутом изучения общественного мнения, большинство немцев относились к нацистскому режиму нейтрально, не поддерживая его и не осуждая. Его осуждали 60 % немцев с высшим образованием, но таких было не слишком много: интеллектуальная элита покинула Германию перед войной или была изгнана. Участники опроса знали о преследованиях («высылках» и «исчезновениях») евреев и меньшинств, но избегали слова «убийство» и не считали, что все немцы несут ответственность за преступления Третьего рейха. Репарации Израилю признавали необходимыми 54–60 %, но только 40 % считали, что ответственные за преступления должны отвечать перед судом. Преобладало мнение, что ответственность должно нести государство, но не граждане. Таким образом, дело было не в недостатке знания о преступлениях, а в непонимании, как нести это бремя.
Одной из первых мер нового правительства стало принятие в декабре 1949 года закона об амнистии, по которому от преследования по законам 1945 года освобождалось порядка 800 тысяч бывших членов НСДАП и госслужащих, не прошедших процедур денацификации. В 1951 году был принят «Закон о 131 статье», по которому госслужащие Третьего рейха могли вернуться на посты, с которых они были уволены, а госведомства были обязаны набирать из их числа не менее 20 % своего штата. Бывшие госслужащие, потерявшие работу при нацистах, получали право на выплату компенсации и пенсии (похожие меры использовались в Испании после 1975 года). Этот закон был призван «реинтегрировать» старые элиты в строительство нового демократического государства и решить проблему нехватки образованных кадров. В результате в 1950х годах от 20 до 60 % правительственных чиновников (в зависимости от ведомства) составляли бывшие чиновники Третьего рейха (в МИДе бывших членов НСДАП было 66 %). Военными советниками Аденауэра становятся Гейнц Гудериан и Альберт Кессльринг, в его правительстве работают автор официального комментария к нюрнбергским расовым законам 1935 года Ганс Глобке и бывший офицер СА Теодор Оберлендер.
В публичных выступлениях Аденауэр избегает прямой критики прошлого, зато часто упоминает о давлении на Германию западных союзников и СССР. В то же время он поддерживает распространение информации о преступлениях нацистов. Похожим образом ведет себя Аденауэр и в отношении возмещения пострадавшим. С одной стороны, в Германии создаются организации жертв, требующих от государства компенсаций (это в основном жертвы денацификации, репрессий со стороны союзников, высылки с восточных территорий); с другой — власти проводят политику репараций странам, пострадавшим от нацизма.
В сентябре 1951 года, в ответ на требования первого президента Израиля Бен-Гуриона, Аденауэр, выступая в парламенте, признает страдания, причиненные Рейхом евреям и другим народам, и заявляет, что Германия берет на себя моральное и материальное возмещение. Парламент голосует против, но правительство под давлением Аденауэра принимает соглашение о репарациях. Германия обязуется выплатить Израилю 3 млрд марок в течение 14 лет, плюс 450 млн «Конференции по претензиям». Выплаты были завершены в 1965 году и сыграли важную роль в развитии израильской экономики. В Германии репарации поддержали 11 % населения, 44 % назвали сумму чрезмерной. Это соглашение значительно улучшило международные позиции ФРГ, особенно на фоне ГДР, и способствовало процессам демократизации западногерманского общества[254].
Аденауэровской политике — консолидации травмированного войной и оккупацией общества внутри страны и признанию преступлений в отношениях с иностранными партнерами — соответствовал параллелизм в общественной и интеллектуальной жизни. Основой коллективного модуса поведения в германском обществе становится то, что позже немецкий философ Герман Люббе назовет «коммуникативным замалчиванием»[255] — негласной договоренностью о том, что для движения вперед стоит оставить прошлое позади.
Это очень напоминает испанский «пакт забвения», ставший формулой общественного согласия в очень похожих обстоятельствах. Пережившее диктатуру общество оказывается не в силах полноценно справляться с бременем прошлого и предпочитает выстраивать консенсус и двигаться вперед, вытесняя из памяти и публичной сферы упоминания о прошлом как разделяющие. В то же время в интеллектуальной жизни с 1950х годов все заметнее критика этого умолчания и скрывающегося за ним тихого одобрения прошлого. Наиболее заметным образцом такой критики стала статья Теодора Адорно «Что значит проработка прошлого» (1959)[256]. В ней Адорно связывает неукорененность демократических ценностей в Германии с неспособностью немцев критически отнестись к собственному прошлому, с желанием уйти от ответственности, защититься от чувства вины.
Непосредственным толчком к размышлениям Адорно и всей последующей дискуссии было исследование, проведенное социологами Франкфуртской школы вскоре после их возвращения в Германию из американской эмиграции[257]. В конце 1940х годов власти оккупационных зон ощущали дефицит в объективных данных о том, что на самом деле думают немцы о преступлениях нацистов, о правлении союзных властей и как они относятся к ценностям демократии. Для ответов на эти вопросы специалисты франкфуртской школы — Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Фридрих Поллок и Юрген Хабермас — решили применить разработанные за время работы в США революционные методы опроса общественного мнения в рамках так называемого «Группового эксперимента».
В стихийно организованных групповых интервью в непринужденной обстановке (например, подсаживаясь к группам путешествующих в поездах) исследователи как бы невзначай зачитывали письмо некоего американского военного, якобы живущего в Германии после войны и критически описывающего отношение немцев к евреям, к оккупации, оправдание ими нацистов. Это письмо провоцировало реакции присутствующих, которые исследователи и фиксировали. Результаты таких «замеров общественного мнения» значительно отличались от результатов традиционных опросов, проводившихся оккупационными властями. Они показали, насколько сильны среди обычных немцев обида на союзников, стремление к самооправданию и защите нацистского прошлого и как резко отличаются эти воззрения от декларируемых публично взглядов. Результаты были опубликованы в 1955 году и вызвали оживленную дискуссию среди специалистов, которая вскоре перешла на вопросы более общего и мировоззренческого характера, запустив разговор о «проработке прошлого». (Несмотря на важность вызванных им к жизни дискуссий, само исследование на многие годы оказалось вне сферы внимания — и даже не было переведено на английский. Это упущение было исправлено только в 2011 году, когда американские социологи Джеффри Олик и Эндрю Перрэн опубликовали собрание исследований и статей авторов Франкфуртской школы «Групповой эксперимент и другие работы».)[258]
В первые годы после обретения Германией независимости приговоров бывшим нацистам не выносилось. Однако к концу 1950х, по мере обновления состава судей и появления в их рядах евреев, ситуация начинает меняться. Переломным в этом смысле стал процесс по делу «оперативной группы Тильзит», прошедший в Уьме в 1958 году. Перед судом предстали 10 бывших членов айнзатцгрупп гестапо, обвинявшихся в убийстве более 5500 евреев близ германско-литовской границы. Суд признал их соучастниками преступлений, главными виновниками которых назвал руководство Рейха; они получили от 3 до 15 лет тюрьмы. Согласно опросам, большинство немцев сочли приговоры слишком мягкими.
Все чаще стали раздаваться критика в адрес судебной системы и призывы разобраться с прошлым. Широкую полемику в обществе вызвала статья «Убийцы все еще среди нас», опубликованная в Sddeutsche Zeitung в июле 1958 года. В статье говорилось, что законы об амнистии функционеров прежнего режима служат прикрытием для военных преступников. Через несколько месяцев в городе Людвигсбург под Штутгартом начинает работу Центральное управление по расследованию преступлений нацистов. В 1961 году, после возведения Берлинской стены, по аналогии с этим ведомством создается Бюро регистрации политических преступлений, совершенных на территории ГДР; инициатором его создания был Вилли Брандт, на тот момент мэр Западного Берлина.
Огромным шагом вперед в подготовке общественного мнения к полноценному уголовному преследованию бывших нацистов становится суд над Адольфом Эйхманом, прошедший в Иерусалиме в 1961 году и широко освещавшийся в мировой прессе. Не в последнюю очередь своим резонансом этот процесс был обязан книге Ханны Арендт, которая присутствовала на нем в качестве корреспондента журнала The New Yorker[259].
Арендт написала не исторический труд, а подробное, разделенное на множество случаев и примеров, рассуждение о причинах — прежде всего политических — того, почему люди отказываются слышать голос совести и смотреть в лицо действительности. Герои ее книги делятся не на палачей и жертв, а на тех, кто эти способности сохранил, и тех, кто их утратил. Жесткий, часто саркастический тон книги, отсутствие пиетета к жертвам и резкость оценок возмутили и до сих пор возмущают многих. Арендт пишет о немцах — «немецкое общество, состоявшее из восьмидесяти миллионов человек, так же было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета». Но так же беспощадна она и к самообману жертв и особенно к тем, кто — подобно части еврейской элиты — из «гуманных» или иных соображений поддерживал этот самообман в других[260].
Одним из тех, кто помог израильским спецслужбам выследить Эйхмана, был Фриц Бауэр, генеральный прокурор федеральной земли Гессен. Бауэр, еврей и антифашист, эмигрировавший из Германии в 1930х и в эмиграции сотрудничавший с будущим канцлером ФРГ Вилли Брандтом, был одним из тех, кто вернулся на родину после 1945 года, чтобы помочь в восстановлении ее демократических институтов. В сотрудничестве с юристами из Людвигсбурга Бауэр организует процесс над бывшими сотрудниками администрации и охранниками лагеря Аушвиц, выступая на нем главным обвинителем. Процесс проходил во Франкфурте в 1963–1965 годах, в нем участвовали около 360 свидетелей из 19 стран, включая 210 бывших узников Аушвица.
Специалист по переходному правосудию Евгения Лёзина пишет:
О том, насколько сложным оказался процесс свершения правосудия в первой половине 1960х годов, свидетельствовало сопротивление, с которым пришлось столкнуться первопроходцу проработки прошлого в юридической сфере прокурору и судье Фрицу Бауэру. Давление исходило как от коллег-юристов («В системе юстиции я живу, как на чужбине», — признавался Бауэр), так и от общества и власти («Когда я выхожу из своего кабинета, я попадаю в чужую и враждебную страну»). В одном из телевизионных ток-шоу 1964 года Бауэр отметил, что, хотя при создании ФРГ и были достигнуты определенные успехи, закреплены демократические основы республики в Основном законе и учреждены демократические органы власти, «но нужны еще люди, которые вдохнут жизнь в конституционные формулировки»[261].
Основываясь на протоколах процесса, немецкий драматург Петер Вайс создал пьесу «Дознание», яркий образец документального театра. «Дознание» стало самой исполняемой современной пьесой в ФРГ в сезоне 1965/66, она была переведена на многие языки. В 1967 году пьеса в постановке Петра Фоменко шла на сцене московского Театра на Таганке; среди исполнителей были Алла Демидова, Николай Губенко, Инна Ульянова и Александр Калягин[262].
Параллельно с Франкфуртским процессом организуются судебные разбирательства в отношении бывших сотрудников концлагерей Белжец (1963–1965), Треблинка (1964–1970), Собибор (1965–1966) и, значительно позже, лагеря Майданек (1975–1981).
Процессы привлекают внимание к истории концлагерей, на их месте начинают открывать мемориалы (в некоторых случаях — по инициативе бывших узников этих лагерей). Такие мемориалы были открыты, в частности, в Берген-Бельзене, Дахау (надпись на нескольких языках «Никогда снова» — часть мемориала на месте концлагеря Дахау, открытого в 1968 году, музей на месте лагеря был создан в 1965м)[263] и Бухенвальде. Отзываясь на изменение настроений в обществе, германский парламент принимает обращение к иностранным государствам с призывом присылать свидетельства о преступлениях нацистов в Минюст для расследований. На этот призыв отвечают из Франции, Бельгии, Дании, Югославии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Польши, Чехословакии, СССР, США и Израиля (но не из ГДР, Италии, Румынии и Венгрии).
Дискуссия о вине и ответственности выходит на новый уровень. Книга Ясперса, замеченная в 1946 году только интеллектуалами, переиздается в 1962 году большим тиражом, и новое поколение читает ее с гораздо большим интересом. Расширяется аудитория Адорно и Хабермаса; из «одиноких юродивых» они превращаются во властителей умов немногочисленной, но сплоченной прогрессивной интеллигенции. В 1967 году психологи Александер и Маргарет Митчерлих публикуют книгу «Невозможность скорбеть»[264], в которой констатируют, что стремление вытеснить память о преступлениях нацизма обернулось для немцев потерей эмоциональной связи с прошлым — невозможностью как скорби, так и катарсиса.