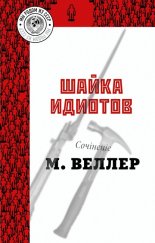Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах Эппле Николай
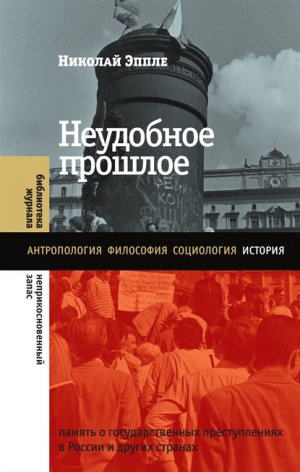
Находясь внутри системы и функционируя как е часть, субъект одновременно находился за ее пределами, в ином месте[371].
Советского Союза нет уже более четверти века, но практики, связанные с невозможностью почувствовать себя полноправным гражданином своей страны, не на словах, а на деле взять за нее ответственность, продолжают во многом определять общественно-политическую реальность. В современной России это практики отделения от государства и слияния с ним. Выбор той или иной стратегии зависит от возможностей человека самоидентифицироваться независимо от государства[372].
В распоряжении тех, у кого есть возможность мыслить и ощущать себя самостоятельными и независимыми от государства (благодаря финансовой независимости, знакомству с историей и культурой России и других стран, принадлежности к профессиональному сообществу с открытыми границами, наличию друзей и родственников за границей), есть хорошо разработанные практики отделения себя от государства. В крайних формах это выражается в именовании всего советского прошлого и неприглядных сторон современной реальности «совком», а России выражением «эта страна» (практики, разумеется, давно превращенные оппонентами в карикатурные клише).
Другая сторона той же невозможности почувствовать себя гражданином, чьи интересы формируют интересы государства, — стремление отождествить себя с государством в его способах отношения к происходящему, некритически разделить с ним его цели и интересы. Этот вариант востребован теми, у кого недостаточно ресурсов и оснований для иной самоидентификации, кроме «патриотической». (Ср. стабильно высокий, согласно опросам, процент тех, кто не считает возможным финансово обеспечить себя и семью независимо от государства.) Именно такое слияние с государством оказывается для власти ресурсом поддержки в ситуации кризиса или мнимой внешней угрозы.
В январе 2015 года по обвинению в госизмене была задержана и отправлена под арест жительница Смоленской области Светлана Давыдова. Увидев, что расположенная по соседству от ее дома военная часть опустела, и услышав в разговоре предположение, что военных отправили в Донбасс, она позвонила в посольство Украины и сообщила об этом. Мать четверых детей, младшему из которых тогда было 2 месяца, поместили в СИЗО. В начале февраля, после широкого общественного резонанса, Давыдову отпустили под подписку о невыезде, а вскоре дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
В конце марта ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым 48 % россиян, слышавших о деле Давыдовой, считают, что она заслуживает наказания[373]. Дело тут вовсе не в какой-то специфической кровожадности россиян, а именно в желании «прислониться к силе», свидетельствующем о недостатке оснований для конструктивной позитивной самоидентификации. Рядовой российский гражданин не чувствует себя защищенным от полицейского и лишен возможности сделать его защитником своих интересов. Остается возможность «разделить» с полицейским его интересы, когда тот третирует мигранта, «шпиона» или «оппозиционера». В этом случае по сравнению с ними можно ощутить себя гражданином первого сорта и заставить себя поверить, что, третируя еще менее защищенных людей, полицейский отстаивает твои интересы, а не интересы государства. Нет никаких гарантий, что завтра на месте «шпиона» или «оскорбителя чувств» не окажешься ты сам, зато сегодня можно почувствовать единение с «большим братом».
Чрезмерное отделение себя от государства и чрезмерное слияние с ним — при всей понятности причин обеих стратегий — вовсе не выглядит непреодолимой заданностью. В условиях диктатуры существовать самостоятельно и независимо от государства действительно было практически невозможно. Но сегодня это не так. Условие преодоления названных механизмов дистанцирования — осознание их именно как болезненных крайностей и привлечение внимания к примерам активной и независимой гражданской позиции как к ролевым моделям для многих. Возможность идентификации себя со страной как с обществом и культурой необходима не для формализации разрыва с государством, а для переосмысления отношения к нему как к постороннему.
Варяжское государство
Проблема невозможности отождествления жителей России со своей страной уходит корнями в гораздо более далекое прошлое, чем советское.
Возможно, то, что граждане (или «жители», как именует их на своем канцелярском языке власть в современной России) воспринимают власть как «чужую», а не как «свою» — нечто исторически присущее именно российскому социальному устройству. Не вдаваясь в анализ «норманнской теории» возникновения российской государственности, связывающей ее начало с призванием восточнославянскими племенами варягов «прийти княжить и владеть нами» («И реша к себе: „князя поищемъ, иже бы владелъ нами и рядилъ ны по праву“. Идоша за море к Варягомъ и ркоша: „земля наша велика и обилна, а наряда у нас нету; да поидете к намъ княжить и владеть нами“»)[374], можно сказать, что она хорошо описывает схему такого отношения. Власть в России (на Руси), те, кто осуществляет здесь административные и управляющие функции, изначально не мыслятся как выдвинувшиеся из среды «своих», как представители народа и его часть. Они воспринимаются именно как внешние управленцы. Накал споров вокруг норманнской теории, длившихся на протяжении XVIII–XX веков, свидетельствует, что проблема восприятия власти и народа в России как генетически чуждых друг другу не теряет своей актуальности.
Ощущение метафизической пустоты у власти в России, когда те, кто правит страной, в действительности мало с ней связаны, хорошо передает эссе российского философа Владимира Бибихина «Власть России». В этом эссе Бибихин символически возводит историю «ухода» власти в подполье к мученичеству князей Бориса и Глеба, сыновей Владимира, которые в 1015 году, после смерти отца, предпочли борьбе за власть с братом Святополком непротивление и приняли смерть. Отказавшись бороться за власть, суетливо и беспринципно ее отстаивать, они оказались не только нравственными победителями, но в каком-то смысле единственными законными правителями. Захват власти Святополком, вопреки нравственному закону и праву, по Бибихину, дискредитировал саму власть, сделал ее «разбойничьей», каковой она и продолжает быть, переходя от одного захватчика-временщика к другому.
Дружина требовала от Бориса и Глеба мобилизации, решительного сражения, победы, взятия города, изгнания вероломного брата. Борис и Глеб сказали, что бороться за власть не будут даже под угрозой смерти. Поступок законных наследников князя Владимира в год передачи власти определил всю нашу дальнейшую историю. Империя зла? Скорее странное пространство, где зло может размахнуться как нигде, не видя понятных ему противников и потому до времени не замечая, что его власть давно и тайно отменена. Страна до краев полна невидимым присутствием погибших, молча ушедших. Они давно и неслышно стали главной частью нас самих.
Законные наследники правителя Борис и Глеб, не боровшиеся за власть, власть никому не дарили, не вручали, не завещали. Власть у них не была отнята, вырвана, отвоевана, ведь нельзя отнять то, за что не держатся. И так само собой получается, что, хотя многие хватали власть в России, жадные от вида того, как она валяется на дороге, власть России остается все время по-настоящему одна: власть молодых Бориса и Глеба, никуда от них не ушедшая, им ни для какой корысти не нужная, только им принадлежащая по праву, по правде, по замыслу страны. Власть России в этом смысле никуда не делась, не ослабла, не пошатнулась. Ее не надо рожать. Ей тысяча лет[375].
Это не политологическое построение, а поэтико-философское рассуждение, но именно в этом своем качестве оно очень точно ухватывает ускользающее от более строгого дискурса, но хорошо знакомое всем живущим в России ощущение того, что власть здесь «ненастоящая». Чувствует это и сама власть, пытающаяся легитимировать себя то через преемственность по отношению к советским лидерам, то по отношению к царям и великим князьям, и только пример Бориса и Глеба воспринимающая как нечто отчетливо чуждое. (Ср. замечание Владимира Путина при посещении выставки художника Ильи Глазунова: «Надо бороться за себя, за страну, а отдали без борьбы… это не может быть для нас примером — легли и ждали, когда их убьют». [Художник Илья Глазунов поправит картину после замечаний Путина ][376]).
Отношение властей российского государства к своим подданным на протяжении всей его истории отличает бросающаяся в глаза дистанция. Так завоеватель относится к завоеванным им племенам, с которыми не чувствует ни кровной, ни культурной близости. В книге «Внутренняя колонизация» культуролог Александр Эткинд предлагает взгляд на историю России как «страны, которая колонизуется». Историк Сергей Соловьев, которому принадлежит эта формула, описывающая раннюю историю России, уточняет:
Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии: в ней самой находилось средоточие государственной жизни; государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся[377].
Именно логика колонизации объясняет дистанцированную жестокость, с которой российская власть (и ее исторические предшественники) проводит все свои важнейшие проекты — от крещения Руси и борьбы с претендентами на княжение при помощи татарских войск до освоения Сибири, строительства столицы на недавно отвоеванных землях при помощи подневольного труда и, наконец, масштабных, беспрецедентно жестоких проектов насильственной коллективизации и модернизации страны силами заключенных ГУЛАГа. Эткинд пишет:
Давние традиции насилия и принуждения, которые Российская империя применяла к собственным крестьянам, помогают объяснить революцию и тоталитаризм как бумеранг, обрушившийся из недавних крепостных поместий на городские центры и на само государство. Потом и революционное государство впитало долгий опыт империи и переняло ее практики обращения с подданными, русскими и нерусскими, обратив их против собственной элиты и в конечном итоге против самого себя. В отличие от немецкого бумеранга, который, как показала Арендт, через океаны вернулся в германские земли из заморских колонии, российский бумеранг пронесся по внутренним пространствам империи[378].
Практика «призвания варягов», как и эффект «колониального бумеранга» (когда методы управления колониями переносятся на управление метрополией), — вовсе не ушедшая натура, все это полноценно присутствует в современной российской политике. Феномен администраторов-«варягов» — неотъемлемая часть сегодняшней политической реальности; их назначение на губернаторские посты — один из способов укрепления президентской власти[379]. Понятие «колониального бумеранга» иллюстрирует, например, управленческую логику московских властей в последние годы[380]. Таким образом «варяжская» метафора остается работающей объяснительной моделью отношения власти и граждан в современной России.
Явление субъекта
Этот экскурс важен не для того, чтобы, ссылаясь на вытверженный столетиями навык жителей «шестой части земли» отвращаться от гражданской ответственности, делать вывод о «рабской психологии» россиян и о невозможности пробуждения такой ответственности. Наоборот, зная контекст, можно более трезво и реалистично относиться к темпам пробуждения этой ответственности, не спеша отчаиваться и делать обесценивающие выводы.
Когда в декабре 2016 года Сейм Польши принял решение ограничить доступ журналистов в здание парламента, на улицы Варшавы и всех крупных городов страны в защиту свободы слова вышли тысячи людей; через несколько дней решение было отозвано. Это пример реакции общества, сознающего важность демократических свобод и чувствующего свою способность влиять на происходящее в стране. Когда осенью 2017 года, после исчезновения гражданского активиста, по всей Аргентине на улицы выходят десятки тысяч демонстрантов, а школьные учителя посвящают этому событию уроки, рассказывая ученикам о похищениях людей в годы правления хунты, — это общество, имеющее опыт принятия на себя ответственности за прошлое и настоящее.
Когда в России не только атаки на свободу слова, но даже публикации видеозаписей пыток в полиции оборачиваются разве что волной перепостов в соцсетях, а ввод войск в Украину и Сирию и гибель там россиян вызывают протест только критически настроенного меньшинства — это не потому, что представления россиян о добре и зле принципиально отличаются от представлений поляков или аргентинцев. Дело в том, что представитель «лояльного большинства» просто не имеет оснований чувствовать связь между своим мнением о происходящем и поведением государства. Именно об этом говорят данные опросов, согласно которым ответственность за происходящее в семье чувствуют 93 % россиян, а в стране — 11 %[381]. (По данным другого опроса, не готовы участвовать в политике 80 % респондентов, а готовы — всего 16 %. 61 % живут, избегая контактов с властью, а считают себя способными добиваться от нее необходимого только 9 %)[382] Глядя на видео пыток, россиянин думает не о том, что эту ситуацию необходимо исправить, а лишь укрепляется в мысли, что с государством надо как можно меньше иметь дело.
Тем большего внимания заслуживают примеры, ломающие эту закономерность. Попыткой взять ответственность за происходящее в стране было осознанное участие жителей больших городов (впервые за многие годы) в думской предвыборной кампании 2011 года. Несколько тучных лет способствовали появлению в Москве и нескольких крупных российских городах прослойки не диссидентов, а активных граждан. Их участие в кампании против «партии жуликов и воров» было попыткой реального участия в политике, и именно поэтому массовые фальсификации на этих выборах спровоцировали всплеск недовольства. Важность протестной волны 2011–2012 годов под лозунгом «за честные выборы» состояла в том, что это был моральный, а не экономический и не социальный протест. Не недовольство «жителей», у которых отбирают льготы или перед которыми не выполняют социальных обязательств, а недовольство граждан, у которых украли право волеизъявления. Именно здесь глубинный смысл испуга, который эти протесты навлекли на власть и который обернулся последующей политикой «закручивания гаек».
Линия протеста, отчетливо осознающая связь экономики, политики и прав человека, формируется именно в это время. Совершенно не случайно, что значительную часть активистов волонтерского движения, в июле 2012 года бросившихся собирать помощь и доставлять ее пострадавшим от наводнения в Крымске, составляли те же люди, что участвовали в митингах протеста, а в марте 2012го пошли наблюдателями на президентские выборы. Параллели с другими странами, преодолевавшими диктатуру, в данном случае интересны тем, что реальные изменения в обществе совпадают с взрослением первого свободного поколения. В Германии таким было поколение детей тех, кто прожил зрелые годы при нацистах, заявившее о себе на фоне студенческих движений 1968 года. В Испании начало волны эксгумаций совпало с взрослением поколения внуков жертв Гражданской войны и детей тех, кто жил при диктатуре Франко. В Аргентине вторая волна дел против лидеров хунты в 2010х совпала с взрослением поколения детей пострадавших.
В России первое свободное поколение, формировавшееся после распада СССР, взрослеет и выходит на сцену как раз в 2010х. Усиление авторитарных тенденций почти полностью вытеснило его из системной публичной политики, но не сделло социально пассивным. Именно с этого времени, после того как иллюзии относительно взаимодействия с государством рассеялись, отмечается рост числа полностью независимых от государства проектов в сфере правозащиты и юридической помощи, волонтерства и благотворительности, гражданского просвещения, образования, культуры и искусства.
Одно из важных достижений memory studies, набора дисциплин, исследующих способы бытования истории в настоящем, состоит в том, что они обратили внимание на способы (механизмы, практики, институты) осуществления государством и обществом связи с прошлым. То, что прежде казалось само собой разумеющимся, начинает рассматриваться как проблема, и выясняется, что ничего само собой разумеющегося тут нет, установление и поддержание этих связей должно быть темой специальных и систематических усилий обществ и государств. Проблематизации этой сферы способствовала память о Холокосте, очевидным образом упиравшаяся в задачу не просто помнить об этом, но не допустить повторения[383]. Буму же memory studies в 1990х годах во многом способствовал крах СССР и необходимость для обществ бывшего «Восточного блока» прорабатывать память о преступлениях своих диктатур.
Угол зрения, задаваемый memory studies, позволяет увидеть, что принятие и отрицание прошлого — не философские концепты, а типы отношения к прошлому, за которыми необходимым образом стоят практики, реализующие связь прошлого с настоящим. Отрицание — модус, предполагающий отказ от установления связи с прошлым, но тем самым он также предполагает соответствующую практику организации связи, в данном случае отрицательную. Практика отрицания — это забвение, стирание памяти или замещение ее мифами, фейками, ложными воспоминаниями. Практика же принятия, то есть сохранения памяти о прошлом, двояка, в зависимости то того, о памяти о какого рода событиях идет речь. В случае памяти о преступлениях — это их осуждение, а в случае памяти о славных страницах прошлого — благодарение за них. (Различение отрицания и осуждения как противоположных модусов отношения к прошлому может казаться непривычным и надуманным, но только на первый взгляд. Это проще понять на отвлеченном примере. Так, отказ признавать наличие заболевания очевидно противоположен согласию пройти медосмотр и диагностировать болезнь. Отказ от признания факта преступления в прошлом точно так же противоположен согласию признать его и осудить.)
В контексте памяти об СССР первое выглядит как нечто почти само собой разумеющееся, второе же кажется новым и неожиданным. Императив осуждения преступлений может быть понятен и востребован и политиками, и обществом: неосужденные преступления ГУЛАГа очевидно порождают правовой релятивизм и социальное недоверие. Необходимость их осудить, чтобы не допустить повторения в будущем, реализуется через правовые и юридические механизмы. Императив же благодарения очевиден на гуманитарном уровне, но не на социальном и политическом. Благодарная память, например о Первом съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года, фактически обозначившем начало необратимых демократических изменений во всем СССР, или о легализации частного предпринимательства в январе 1992 года, без которого страна рисковала оказаться в ситуации голода, — необходимое условие воспитания доверия к демократическим институтам и рыночной экономике. Именно отсутствие целенаправленных усилий по выстраиванию такой памяти позволило в 2000х успешно дискредитировать в глазах населения демократию и рыночную экономику.
Особая сложность переосмысления такого комплексного прошлого, как советское, состоит в том, что оно предполагает одновременно и признание ответственности за преступления, и благодарность за добро, причем второе не менее важно, чем первое. Акт благодарения здесь — другая сторона принятия ответственности, акт осуществления связи с прошлым, заявления и признания прав на него.
Задача принятия комплексного прошлого выглядит нерешаемой до тех пор, пока история рисуется нам чудовищным смерзшимся комом, в котором воспоминания о бесчеловечной жестокости и несправедливости смешаны с воспоминаниями о мирном творчестве и созидательном труде. Но стоит попробовать отделить, отмыслить доброкачественное от преступного — и задача сразу обретает вполне конкретные очертания, а объем работы хоть и остается необозримым, но обретает подобие плана. Сама эта работа разделения, невозможная без критики и дотошного пропускания прошлого через себя, есть важная часть практики принятия — тут можно в который раз вспомнить работу Петера Эстерхази с архивами семьи и с архивами госбезопасности.
Одна из возможных практик такого рода отмысливания — научиться говорить об истории страны как истории общества, не сводящейся к истории государства. История СССР в значительной степени представляет собой историю советского государства, узурпировавшую историю общества и граждан и использующую ее как материальный ресурс. Эта подмена — результат вполне целенаправленных усилий государства, призванных обеспечить свою легитимность в условиях ослабления прежних тоталитарных и авторитарных механизмов[384].
Именно потому, что связка «режим — общество» намеренно проводилась и закреплялась, навык отмысливания одного от другого, общества от режима, совершенно необходим для работы принятия ответственности и требует специальной тренировки. Об этом довольно трудно говорить в общем виде, а потому посмотрим, как это работает на конкретном примере.
Великая Отечественная война
Самый яркий пример соединения максимальной бесчеловечности, беззакония руководства страны и бесправия подчиненных, растаптывания ценности человеческой жизни, с одной стороны, и максимального героизма и самоотверженности, обострения лучших человеческих качеств в бесчеловечных условиях, с другой, представляет главное событие советской истории — Великая Отечественная война.
Война не просто дала бесчисленные примеры героизма в противостоянии безусловному злу, каким являлся нацизм. Война была временем, когда предельность испытаний обнажила человеческий опыт, периодом «очеловечивания идеологии» (выражение исследователя советской культуры Евгения Добренко) и, в известной мере, ее кризиса[385]. Об этом, например, говорил историк Михаил Гефтер в имевшем широкий резонанс в годы перестройки интервью:
Человек, покинутый на произвол судьбы, внезапно, на кромке смерти, обрел свободу распорядиться собою. Именно свободу! Как очевидец и как историк свидетельствую: 1941–1942 годы множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную «десталинизацию», по сей день не оцененную в этом качестве. Да, это наше, русское, российское, советское, но это еще и мир, человечество, вошедшее в нас тогда[386].
Поскольку фиксировать подобные настроения в условиях СССР возможности не было, едва ли не единственным свидетельством названных изменений (помимо дневников и писем) оказывается литература, в первую очередь неофициальная и неподцензурная, то есть не предназначавшаяся для публикации[387]. Среди примеров такой литературы — расходившиеся в списках стихи Иона Дегена, записные книжки Василия Гроссмана (впервые опубликованные по-русски только в 1989 году, но даже тогда с исключением наиболее жестких мест), «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург или такие, например, строки из стихотворения неподцензурного поэта Николая Глазкова (его первый официальный сборник вышел только в 1957 году), написанного 22 июля 1941 года:
- Господи, вступися за Советы,
- защити страну от высших рас,
- потому что все Твои заветы
- нарушает Гитлер чаще нас.
Автор не питает иллюий относительно природы «Советов» и соблюдения ими Божьих «заветов» (отец поэта был расстрелян в 1938 году), но Гитлер нарушает их чаще, а в этой ситуации защита «Советов» оказывается общей целью государства и человека. Ослабление цензурных рамок и расширение границ «человеческого» заметны с началом войны и в официальной литературе. Снимается запрет на изображение в печати любовных переживаний (у Константина Симонова), «неуставных» отношений (у Александра Твардовского), отступления (у Василия Гроссмана), распада семьи изза фронтовых романов (у Андрея Платонова) и даже личной трагедии, перевешивающей радость победы («Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского). Мариэтта Чудакова описывает этот сдвиг на примере публикационной истории стихотворения «Жди меня» Симонова:
Война, ее начало, опрокинувшее все ожидания и официозные стандарты, обозначившее угрозу самому существованию советского строя, шатнула, в ряду других ограничений, запрет на лирику. <…> В те минуты, когда главный редактор «Правды», услышав впервые «Жди меня» в чтении автора <…> лирика перевесила и явилось решение — выдать ее воюющей, вставшей на краю обрыва России как знаменитые сто грамм перед боем[388].
Обнаруживающийся в эти годы зазор между человеческим измерением войны и государственной идеологией похож на зазор между лозунгом «За Родину, за Сталина», с которым полагалось идти в атаку, и молодецким «Дура-а-а-ак» (маскировавшимся под «Ура», если рядом были комиссары) или отчаянным «твою мать», с которыми, по многочисленным рассказам фронтовиков, они шли в атаку на самом деле. Это обнажение экстремальными испытаниями главных экзистенциальных переживаний из представителей военного поколения сильнее и масштабнее всего выразил Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба» — уникальном памятнике того самого зазора между государством и человеком:
Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете. Чтобы завоевать это право, или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается ужасный, но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, Бога, партии, государства — смысл жизни, а не средство. Нет, нет, нет! В человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь[389].
Но если для народа, или как минимум значительной его части, Великая Отечественная война была защитой родины от безусловного зла нацизма, то есть явлением нравственно вполне однозначным, то государственная политика накануне и во время войны до предела обнажает тоталитарную и преступную природу советского государства.
Вот краткий список позиций, позволяющих говорить о преступной политике советского государства в эти годы, политике, служащей не интересам граждан, а призванной использовать граждан в большей частью неблаговидных интересах власти:
1. СССР вовсе не был невинной жертвой агрессии. Незадолго до начала Второй мировой войны СССР подтвердил агрессивную природу своего режима, противоречащую риторике «Чужой земли мы не хотим ни пяди», напав на Финляндию и начав «самую позорную войну в истории русского оружия»[390]. (Превращение Финляндии в союзника Германии, по мнению некоторых исследователей, обусловило блокаду Ленинграда, которой иначе могло бы не быть.)
2. Пакт Молотова — Риббентропа стал одним из факторов, облегчивших руководству нацистской Германии решение о нападении на Польшу, и способствовал таким образом развязыванию Второй мировой войны. Владимир Путин, тогда премьер РФ, выступая в Гданьске на церемонии, посвященной 70-летию начала Второй мировой войны сказал:
Попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения неприемлемы, а с практической политической точки зрения — бессмысленными, вредными и опасными. Именно совокупность всех этих действий и привела к трагедии, к началу Второй мировой войны[391].
Позднее оценки Пакта российским руководством существенно изменились[392].
3. «Подвиг народа» был совершен во многом вопреки усилиям государства. Большой террор сильно ослабил Красную армию (только в 1937 году было репрессировано 8 % комсостава), что неизбежно отразилось на боеспособности армии.
4. Собственно репрессии, то есть террор против собственного народа, героически сражавшегося и гибнущего на фронте, не только не сократился, но и усилился: депортациям в годы войны подверглись порядка 2,2 млн жителей СССР (немцы, финны, народы Северного Кавказа и др.), по «указам военного времени» за годы войны в тюрьмы и лагеря были отправлены около 2,25 млн человек. К числу новых форм террора, появившихся в условиях войны, можно отнести репрессии против вышедших из окружения, вернувшихся из плена или с принудительных работ.
5. В критической ситуации государство продемонстрировало готовность не считаться с жертвами со стороны собственных граждан, причем не только в условиях оборонительной войны на своей территории, но и при наступлении на территории противника.
Здесь показательно свидетельство активиста, занимающегося поиском захоронений военнослужащих времен Великой Отечественной войны, которое приводят авторы исследования «Какое прошлое нужно будущему России»:
Для поисковика это победа просто колоссальной ценой. Когда мы работаем в этом лесу, мы видим, что собой представляли поля сражении и как относились к тем, кто погиб, их просто оставляли на поле боя. Причем это не только в Долине смерти (место ожесточенных боев с конца 1941 по середину 1942 года рядом с деревней Мясной Бор Новгородской области. — Н. Э.), по всей России так, по всему Советскому Союзу и даже на Дальнем Востоке. Наши поисковики рассказывали, что они работали в месте последнего боя Второй мировой войны на японском театре на острове Курильской гряды или где-то там. И там стоит монумент, поставленный в честь победы над Японией, а внизу у монумента незахороненные останки солдат. Вот отношение к людям[393].
И тут в силу встречи двух этих тенденций, с одной стороны, предельного оголения чисто человеческого, экзистенциального, и с другой — столкновения этого человеческого с государственной машиной, очень отчетливо проявилась разность того и другого. Оказавшись объединены в усилии борьбы с общим врагом, они в то же время были крайне далекими, даже враждебными началами. Пронзительнее всего об этом сказано у того же Гроссмана:
Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода[394].
Этот спор, разрыв между государством и человеком, не мог продолжаться после окончания войны: форточку, через которую поступал свежий воздух, поспешили захлопнуть. Добренко пишет:
«Человечность» нужна была власти лишь в той мере, в какой она мобилизовывала массы.
И довольно скоро границы дозволенного вернулись к довоенному состоянию[395]. Одновременно для компенсации деидеологизации военных лет государство стало усиленно формировать то, что культуролог Дина Хапаева называет «заградительным мифом о войне», призванным задним числом легитимировать бесконтрольность тоталитарной власти, «издержки» военной сверхмобилизации, голод, нищету и репрессии. Хапаева пишет:
«Плавильный котел» мифа о войне был призван объединить разорванное террором общество пртив общего врага и превратить сокрытие преступления в подлинную основу «новой общности людей — советского народа». Вражеское вторжение помогало легитимизировать террор — реальный внешний враг позволял задним числом оправдать репрессии, представив их как превентивную борьбу с агрессией[396].
Характерно, что этот зазор между реальностью войны и тоталитарным мифом о ней расширяется и сужается всякий раз, когда авторитарные тенденции в государстве ослабевают или усиливаются. Оттепель стала временем расцвета так называемой «лейтенантской прозы» (начало ей положила опубликованная в 1946 году повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»), давшей такие важные имена, как Василь Быков, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов, Григорий Бакланов, Евгений Воробьев, Булат Окуджава[397]. 1970е годы с их новым «завинчиванием гаек» были отмечены, в частности, негласным запретом на прозу того же Виктора Некрасова и изъятием его книг из библиотек. Перестройка и последовавшее за ней первое десятилетие после распада СССР были временем нового расцвета критической литературы о войне. Именно в эти годы впервые публикуется роман «Жизнь и судьба» (1988), важнейшими литературными событиями становятся романы Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» (1993–1995), Георгия Владимова «Генерал и его армия» (1994).
Примечателен поворот в трактовке военной темы в 2010х. По мере усиления авторитарных тенденций она уходит из литературы, искусства частного, но начинает активно разрабатываться в кино (в 1990–2000х военная тема в кино почти не присутствует, показателен отчетливо нейтральный сериал «Война на западном направлении» Тимофея Левчука и Григория Кохана 1989–1990 годов). Фильмы о войне этого времени — кино отчетливо, иногда гротескно, «патриотическое». Это либо масштабные полотна, главной темой которых оказывается героизм и величие подвига советского народа, как в «Брестской крепости» Александра Котта (2010) и «Сталинграде» Федора Бондарчука (2013), или же целенаправленное стремление обработать критический взгляд 1990х, поставив его на службу нарративу о единении народа и государства перед внешней угрозой. Главные сюжеты дилогии Никиты Михалкова «Предстояние» (2010) и «Цитадель» (2011) — героизм и апология величия страны на фоне репрессий, штрафбатов, заградотрядов, «обнаженки» и жестокого натурализма.
Закономерным следствием тенденции на огосударствление частной памяти о войне стала аппроприация акции «Бессмертный полк», возникшей в 2011 году в Томске в качестве гражданской инициативы, но уже в 2015 году на волне неожиданной популярности перехваченного государством. Показательна реакция одного из инициаторов акции, томского журналиста Сергея Лапенкова в интервью 2015 года:
То, что происходит сегодня с «Бессмертным полком», — это отношение государства к людям как к ресурсу. Этот ресурс должен управляться кем-то сверху. Он не может быть сам по себе. Вот как нефть, газ принадлежат государству, так точно и люди, их память в том числе. Мне это не нравится, потому что я своей памятью предпочитаю распоряжаться сам[398].
Отношение к людям как государственному ресурсу — важнейшая характеристика тоталитаризма, предельно обнаружившего себя как раз в годы войны. Показательно, что стремление власти легитимировать себя за счет апелляции к памяти о войне заставляет ее и сегодня прибегать к технологиям, напоминающим о тоталитарном прошлом. Но именно поэтому формы, в которых «Бессмертный полк» распространяется по стране (формализм, участие по разнарядке и т. д.), создают дополнительные предпосылки для разрыва между частной памятью о войне и манипуляциями ею государством[399].
Привычка слияния общественного и государственного, глубоко укорененная в советской истории, продолжает работать в настоящем. Один из множества примеров — вспыхнувшие летом 2018 года в СМИ и соцсетях споры об отношении к успеху российской сборной на чемпионате мира по футболу. Для значительной части комментаторов этот успех был успехом власти и «путинского режима»; продолжением этой логики было восприятие оппозиционными комментаторами радости за сборную как выражения поддержки режима[400]. Тем самым задача разделения, навык «отмысливания» одного от другого актуальны и применительно к большим историческим феноменам, и к опыту повседневной жизни.
Такое отмысливание не просто возможно. Как было сказано, это единственный способ уйти от навязанного и ложного разделения на «либералов», «врагов государства», «оппозицию» и «патриотов», «консерваторов». Только осознав историю страны как историю ее граждан, общества, конкретных людей, и только потом — историю государства и «власти», можно, во-первых, вернуть граждан с политической периферии в центр, а во-вторых — реабилитировать само представление о государстве как общем деле (res publica), о государстве как гаранте гражданских прав, а не их экспроприаторе, своем, а не чужом и чуждом. Принципам, руководствуясь которыми можно попытаться нащупать в истории страны «свое», посвящен следующий раздел.
Рассмотренные выше примеры показывают, что искомое различение должно производиться по линии разделения индивидуально человеческого и общественного от тоталитарно-государственного. Это разделение довольно привычно еще с советских времен, именно в культуру и образование можно было уходить от всеобщего гнета идеологии. Однако предлагаемое здесь различение не призвано воспроизвести «антисоветский» дискурс, способный лишь законсервировать разделение на «либералов» и «патриотов». Оно призвано нащупать в советском прошлом территории, свободные от преступлений и способные объединить в благодарном отношении к ним всех, независимо от политической ориентации.
Если явления, окрашенные политикой или идеологией, вроде кампании по «борьбе с пережитками прошлого» в 1920х, пролетарского интернационализма 1930х или сталинского плана реконструкции Москвы вызывают отторжение у тех, кто не разделяет коммунистической идеологии, то «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, «Цирк» Григория Александрова или «Новая Москва» Юрия Пименова могут вызывать теплые чувства у всех, независимо от партийной принадлежности. Секрет довольно прост: все это примеры культурных феноменов, узурпация которых политическим режимом затруднена.
Попробуем привести несколько примеров такого рода территорий свободы в советской истории. Их список не может быть исчерпывающим, но их разнородность призвана показать, насколько широкий спектр явлений имеется в виду.
Культура
Первая и самая очевидная линия расслоения проходит в сфере культуры. Крайне интересен продолжавшийся всю историю СССР спор государства и общества за русскую литературу. Русская классическая литература оставалась все советские годы одним из немногих примеров общего культурного достояния людей всех идеологий по обе стороны железного занавеса. Причина этого не в последнюю очередь в том, что литература — классическое «частное дело», не требующее ни ресурсов, ни людей, а тем самым минимально зависимое от государства и способное противостоять господствующей государственной идеологии. Вспомним пронзительную декларацию свободного словесного творчества как исключительно частного дела, противопоставленного конформизму писательских сообществ и «разрешенной литературы» из «Четвертой прозы» Осипа Мандельштама:
У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!
Борьба за русскую литературу как наследие, которое власть пытается экспроприировать и поставить на службу идеологии, дает себя знать, например, в отношении к Александру Герцену. Восприятие этой фигуры как своего рода патрона русской интеллгенции заметно уже в той же «Четвертой прозе»:
Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность… Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!
Наследие автора, поднятого госидеологией на щит в качестве одного из предшественников революции, было тем самым легитимизировано в СССР. Однако как оппонент диктатуры он оказался важен для интеллигенции и диссидентов — так, в круге Лидии Чуковской Герцен считался важнейшим духовным авторитетом. Сверка себя с «Былым и думами» была привычным способом ориентироваться во времени и пространстве для нескольких поколений советских диссидентов от Корнея Чуковского до Людмилы Алексеевой[401].
Другой феномен, демонстрирующий свободный от идеологии взгляд на жизнь человека и общества в условиях ослабления хватки государства, — кино 1970х годов. Надежды на очеловечивание государства, порожденные оттепелью, окончательно развеиваются в конце 1960х, и те, внутри советского проекта, кто не хочет с этим мириться, осознанно начинают разными средствами реализацию параллельного государству проекта. Как пишет киновед Евгений Марголит,
«Пафос революционной идеи» был в конце концов растрачен и обращен бюрократией в анекдот. Вера умерла. В этой новой общественной ситуации попытки советского кинематографа увидеть в официальном государственном идеале черты «Мы» — безрезультатны… Осознание этого окончательно разводит в разные стороны Советское государство и кинематограф. Теперь становится ясно, что различны не только их цели, но и предметы. В результате, по крайней мере, с середины 1970х годов, кинематограф СССР можно рассматривать не как советский, но как постсоветский[402].
В эти годы появляется целый ряд фильмов, укорененных в советской повседневности и не рассказывающих об отвлеченных «вечных» темах, но в то же время не несущих идеологического заряда. Авторский взгляд сохраняет дистанцию по отношению к идеологии. Среди режиссеров этой волны Леонид Гайдай («Бриллиантовая рука», 1968), Отар Иоселиани («Жил певчий дрозд», 1970), Алексей Герман («Проверка на дорогах», 1971, «Двадцать дней без войны», 1976), Георгий Данелия («Мимино», 1974, «Осенний марафон», 1978), Василий Шукшин («Калина красная», 1974), Эльдар Рязанов («Служебный роман», 1977, «Гараж» 1979). Для огромного множества людей внутри еще вполне советского государства это кино было трансляцией опыта жизни, свободной от объятий государства и идеологии. По замечанию Юрия Левады, в конце 1970х многие специально ходили в кино, чтобы собственными ушами услышать реплику одного из персонажей фильма Ланы Гогоберидзе «Несколько интервью по личным вопросам» (1978) «Неужели уже появились люди, которые перестали бояться?»[403].
Не самый очевидный, но тем более интересный пример территории свободы в советской культуре — наследие Русского Севера с его характерным деревянным зодчеством, деревянной скульптурой, иконописью и фольклором. Культура русского Севера в значительной степени формируется под влиянием сначала новгородской культуры, гораздо более свободного «ганзейского» города, чем Москва, и под влиянием старообрядцев, массово мигрировавших на малозаселенные территории в XVII веке. История Русского Севера — это история самоуправления и крестьянских восстаний, начиная с Кижского (трагически утраченная летом 2018 года церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге — народный мемориал жертвам этого восстания) и заканчивая сопротивлением большевикам в годы Гражданской войны[404]. В позднесоветские годы интерес к культуре Севера способствовал формированию среды искусствоведов и реставраторов, и таких самобытных явлений, как творчество Бориса Шергина[405].
Протест
Вторая линия, позволяющая отследить традицию свободы в истории России и СССР, — это разного рода опыт сопротивления государству. Оговоримся: в нижесказанном не стоит видеть оправдание и восхваление любого протеста против государства как такового. Во многих случаях он представляет собой бессмысленную и беспощадную стихию. Сказанное имеет другую цель: показать, что история российского государства не представляет собой историю неоспариваемого произвола власти на фоне тотальной пассивности народа. История сопротивления государственному произволу важна как одно из оснований общественного самосознания.
Как и традиция государственного насилия, этот опыт восходит к временам, на несколько сот лет предшествующим созданию СССР. Однако в рамках СССР сама востребованность сюжетов о пугачевском бунте (глубоко интересовавшим по тем же причинам еще Пушкина), постановка Юрием Любимовым есенинского «Пугачева» 1967 года с Высоцким в главной роли стала важным веянием времени. С конца 1960х Василий Шукшин увлеченно работает над сценарием фильма о Степане Разине (в 1972 году выходит его роман «Я пришел дать вам волю», съемке фильма помешала смерть Шукшина в 1974 году). В эти же годы Булат Окуджава работает над сочинением о восстании декабристов: в 1966 году выходит пьеса «Глоток свободы», а в 1971 году — одноименный роман. Дмитрий Быков в книге о Булате Окуджаве пишет:
Обращение Окуджавы к теме декабристов, да не просто к восстанию, а к следствию, по всей видимости, связано именно с тем, что под следствием опять оказалась русская литература. В 1964 году — собственный вызов к Ильину, в 1965м — арест Синявского и Даниэля, в 1966м — суд над ними, кампания по сбору подписей в их защиту и репрессии против подписантов. «Глоток свободы» — пьеса, давшая потом название роману, — написана, строго говоря, не о декабристах, а о расправе над ними, отсюда и название: свобода оказалась короткой, короче глотка. Нужно определяться со стратегией; сам декабризм не является объектом анализа ни в пьесе, ни в романе. Их тема — взаимоотношения интеллектуальной элиты и репрессивного государства. Можно спорить о правоте или неправоте декабристов, но очевидна неправота тех, кто отсек любые возможности диалога с государством, оставив один путь — восстание[406].
Традиция сопротивления тоталитаризму в рамках советской истории существует не только в виде интереса к восстаниям прошлого. История протеста в СССР тем более важна, что всеми силами заглушалась все время его существования. Среди немногочисленных, но ярких примеров — Тамбовское восстание 1920–1921 годов (численность повстанцев достигала 50 тысяч человек), волна восстаний в ГУЛАГе после смерти Сталина в 1953–1954 годах (Норильское, Кенгирское, Воркутинское восстания)[407], беспорядки на почве конфликтов населения с милицией в начале 1960х в Александрове, Муроме, Новороссийске, Беслане и т. д., массовая забастовка рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Наконец, важнейший пример протестов — общественная активность, митинги в Москве в 1989–1990 годах, подготовившие почву для распада СССР, и массовый выход москвичей на защиту Дома правительства в августе 1991 года.
Частное предпринимательство
Советская экономика даже самых махровых сталинских лет не была, как принято считать, полностью контролируемым государством монолитом, но в ощутимой степени опиралась на элементы частного предпринимательства. Даже в годы самого жестокого террора ее «теневая» (неофициальная, подпольная) составляющая играла важную роль[408]. Хотя политика советского руководства была направлена на искоренение негосударственных сегментов экономики или их строгое регулирование, чтобы население могло прокормиться в условиях кризиса, властям приходилось прибегать к ресурсам частного предпринимательства и рыночным механизмам (или закрывать на них глаза). Олег Хлевнюк в статье о частном предпринимательстве в сталинском СССР пишет:
Советская экономическая система, в том числе ее наиболее жестко централизованный и принудительный сталинский вариант, включала многочисленные рыночные (или квазирыночные) элементы и частное предпринимательство. Эти элементы можно было бы назвать «несистемными» в том смысле, что они противоречили логике системы, нацеленной на максимальную национализацию и замену товарных и денежных отношений прямым бартером. Однако с теми же основаниями можно считать эти компоненты системными, поскольку они были интегральной частью советской экономики и играли в ней значительную роль[409].
Несоответствие действительности мифа о сталинском «порядке» ярче всего иллюстрирует случай Николая Павленко, человека, сумевшего создать частный строительный трест в условиях тоталитарного государства. С 1948 по 1952 год Павленко руководил собственным нелегальным строительным предприятием с несколькими сотнями сотрудников; за эти годы предприятие построило 64 объекта в России и других республиках СССР, заработав (по оценкам следствия) в общей сложности 38 млн рублей. Как отмечает Хлевнюк, случай Павленко, будучи уникальным по своему масштабу, не был уникальным примером нелегальной экономической деятельности того времени.
В конце 1950х в рамках хрущевского курса на «повышение благосостояния народа» были предприняты усилия для увеличения доходов населения «через искусственное „подтягивание“ низкооплачиваемых слоев к среднему уровню заработной платы»[410]. Рост платежеспособности опережал производство потребительских товаров, их качество оставалось крайне низким, все это породило спрос на импортные товары и стремительное развитие «второй экономики» рынка, в том числе валютного, и параллельно целой культуры потребления «заграничного». Уже в 1961 году это явление было настолько заметным, что борьба с ним потребовала показательного расстрела Яна Рокотова и Владислава Файбишенко по личному распоряжению Хрущева. К концу 1980х годов на фоне кризиса производства фарцовщики (так называли тех, кто занимался подпольной перепродажей импортных товаров) оказались важнейшим потребительским ресурсом — в Москве опыт покупки у них обуви и одежды был у 63 % граждан[411]. Фарцовщики оказали серьезное влияние на расшатывание советской экономики и советского образа жизни, заслужив определение «диссидентов от экономики»[412].
«Вторая экономика» в огромной степени определила характер и темпы экономического развития России в постсоветский период, способствовала формированию соответствующих установок и типов мышления (в том числе отношению к закону как неизбежной помехе, а не императиву)[413].
Локальные сюжеты и частное пространство
Саму историю СССР полезно отмысливать от истории государства (традиционно главного ее составителя, рассказчика и хранителя), стараясь увидеть ее как совокупность апроприированных государством частных историй. Важное открытие авторов социологической части доклада «Какое прошлое нужно будущему России» состоит в том, что российское историческое сознание двусоставно, в его рамках действуют две разных памяти. Формируемая государственной пропагандой модель памяти о триумфальном прошлом страны, единой на всем протяжении ее истории, не ухватывает огромного числа фактов и промахивается мимо значительной части граждан. В этом идеализированном образе не находят отражения целые социальные и национальные группы, множество важных исторических фактов и нарративов.
Вторая модель памяти — локальная, свободная от идеологии и сопротивляющаяся ей. Это память отдельных людей об истории их семьи, края, их социальной или национальной общности. Это память, не захваченная государством, через нее возможна личная самоидентификация. Авторы доклада цитируют краеведа из одного из малых городов России, который говорит, что в отличие от «большой истории», навязываемой школой, оперирующей давно и широко известными, но мало касающимися учащихся лично фактами, локальная история и история семьи затрагивают человека напрямую. Именно это дает ощущение причастности к истории. Поэтому именно краеведение, а не большие и универсалистские нарративы, может стать «национальной идеей»:
(Человек, который узнает о своих предках или о прошлом своего города. — Н. Э.) начинает себя воспринимать как часть чего-то большого, возникает род, другие регионы, в которых его предки занимались чем-то, там своя история. Он начинает воспринимать себя как часть большого процесса, непосредственно с ним связанного, где он является важным звеном, без этого звена ничего не будет[414].
Государственная (или «большая» национальная) история часто оказывается интересной «на местах» лишь постольку, поскольку служит «языком общения» с властью (например, рассказ о местных исторических деятелях часто возможен через привязку к государственным празднованиям, единственно понятным администрации «кодом»), либо поскольку большая история захватывает малую (кто из села погиб на войне, кто был репрессирован и т. д.). Еще сильнее это отличие между историями сверху и снизу подчеркивает пример памяти о чисто государственных проектах. Вот реплика школьного учителя из города на Севере России:
Я вот, знаете, сколько классных часов провожу, у меня всегда со слезами на глазах. <…> Потому что война была, непонятно какая, согласитесь. <…> Для чего воевали? За что воевали? Война Великая Отечественная, все-таки мы страну отстаивали. Гибли люди за свою страну, слушайте. <…> Да. А там за кого гибли, непонятно. <…> А я так и говорю. Война открыта по приказу. И все. Ну, вслух не скажешь, но про себя подумаешь, пушечное мясо было отправлено. Потому что у нас в [городе Г] очень много ребят, которые там прошли эту мясорубку афганскую[415].
Отсутствие понятного языка для рассказа школьникам, кроме объяснения через «приказ сверху», — отчетливое свидетельство внутренней пустоты «чисто государственной» истории. Это хороший повод еще раз сказать о том, что отождествление страны и режима, народа и партии, граждан и власти — не само собой разумеющаяся вещь, не данность и не объективный факт; это отождествление — целенаправленная установка, результат последовательных и значительных пропагандистских усилий. В этом отождествлении заинтересованы партия, режим, власть, потому что в противном случае имитационный характер их существования станет слишком очевиден.
Именно отсюда и желание государства перехватить этот ресурс, увязывая с собой живые гражданские инициативы, — либо захватывая их, как в случае с «Бессмертным полком», либо создавая параллельные структуры и сущности, как в случае с объявлением официального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года через день после того, как благодаря гражданским акциям и записям в соцсетях общенациональный траур сложился стихийным образом.
Ностальгия по СССР
Важный пример перехвата государством «эмоциональной повестки», манипулирования чувствами и мнениями граждан, использования их в качестве ресурса для собственной легитимации — это тема «ностальгии по СССР». Точнее, метаморфоза отношения к СССР, произошедшая в российском обществе (или медиапространстве) за последние два десятка лет.
Уход в небытие такого масштабного геополитического образования, как СССР, особенно с учетом последовавшего затем трудного переходного периода, не мог не вызвать эмоционального отклика в самых широких слоях общества. Однако широко тиражируемое (особенно с середины 2000х годов) представление, согласно которому преобладающая в российском обществе эмоция — это скорбь в связи с «крупнейшей геополитической катастрофой», идеализация советского прошлого и стремление обвинить в равале СССР внешних и внутренних врагов, есть в значительной степени результат манипуляции.
Так как черта под советским прошлым не была подведена, нет и однозначных и общепризнанных интерпретаций этого прошлого. Реальной работы принятия в смысле благодарения за доброе и осуждения преступного проведено не было. Она была начата в середине 1980х в виде общественной дискуссии, ее частью стали такие произведения искусства, как «Покаяние» Тенгиза Абуладзе (1984), «Астенический синдром» Киры Муратовой (1986) или альбом «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона» (1988). Но разговор оборвался, не выйдя на общенациональный уровень. Фрустрация последнего советского поколения, цели и идеалы которого (в той не слишком большой мере, в какой люди эти идеалы разделяли) оказались дискредитированными, проговаривалась в 1990х именно как горечь о «разбазаривании страны».
Публицистические фильмы Станислава Говорухина «Так жить нельзя» (1990), «Небеса обетованные» и «Старые клячи» Эльдара Рязанова, «Груз 200» (2007) Алексея Балабанова обращали внимание на внутренние причины провала советского проекта и пытались разными способами осмыслять постсоветский ресентимент. Но с началом нового курса на отношение к прошлому, обозначенного в начале 2000х, эта фрустрация начинает переоформляться последовательными усилиями государственной пропаганды. Вместо нарратива «мы проx x xли страну» начинает выдвигаться нарратив «олигархи, дерьмократы и американцы украли у нас страну». Яркий пример такого нарратива можно найти, например, в книге А. Житнухина «Владимир Крючков. Время рассудит»[416]:
Представляя механизм использования национальных проблем в «цветных революциях», нетрудно заметить, что для резкого обострения межэтнических конфликтов в Советском Союзе, усиления центробежных тенденций на фоне роста антирусских, антироссийских настроений в целом ряде республик, развернувшегося «парада суверенитетов» не было серьезных объективных предпосылок. Большинство этих явлений было спровоцировано местными «элитами» при активной поддержке изза рубежа и потакании со стороны Горбачева и его ближайшего окружения. Советский Союз разваливали вполне осознанно и целенаправленно. И напрасно те, кто превратил великую трагедию в свой праздник, упорно, до сегодняшнего дня, твердят нам о том, что в основе распада СССР лежали исключительно внутренние, неразрешимые системные проблемы и противоречия.
Важно понимать, что последнее — вовсе не реальное и искреннее «низовое» самоощущение части общества, а результат манипуляции, перехвата государством недовольства прошлым и «перевод стрелок» вместо реальных усилий по проработке прошлого.
Если овладеть описанным механизмом разделения, научиться отличать историю режима от истории страны, общества и граждан, иногда совпадающих, иногда вполне отдельных друг от друга, а иногда прямо или косвенно друг другу противостоящих, то задача принятия советского прошлого перестает выглядеть чем-то наподобие принятия горького лекарства. И если перед глазами окажется не смерзшийся ком частно-государственного прошлого, но две линии: история страны, культуры, граждан как общества и как совокупности индивидуальностей, с одной стороны, и история властного режима, с другой — тогда задача отличить благодарение за прошлое от его осуждения окажется гораздо более понятной.
Благодарение — способ налаживания связи с прошлым, за которое не стыдно, которое не требует покаяния и осуждения. Можно именовать это «позитивной памятью» или «основанием для гордости прошлым», но понятие благодарения намекает на активное действие по связи с прошлым, и в этом его ценность. «Гордость прошлым» как форма памяти о славных событиях минувшего предполагает, что сам гордящийся — «носитель» этого славного наследия; напротив, «благодарность» воздает должное субъектам славного прошлого, не назначая себя его носителем и даже хранителем. Благодарность — личная работа, обращенная к «дарителю», тогда как гордость — пассивное перенесение результатов чужой деятельности на себя, и потому — удобный идеологический ресурс. Благодарность невозможна как форма долженствования, ее суть в добровольности, тогда как гордость хорошо встраивается в конструкции долженствования. Поэтому работа благодарения не может быть направлена на структуру, организацию, «страну, что тебя вскормила», она не может двигаться сознанием обязанности, совершаться по требованию или по команде. (В этом проблема концепта «любви к родине»: она складывается из благодарности родителям, учителю, дому и двору, в котором ты вырос, но стоит обобщить ее до концепта любви к стране, как она теряет личное содержание и оказывается категорией идеологической, в каковом виде может использоваться государством в пропагандистских и манипулятивных целях.)
Георгиевская ленточка задумывалась как выражение памяти о погибших и воевавших в годы Великой Отечественной войны и благодарности им. Но начав использоваться в пропагандистских целях, она быстро превратилась в символ национальной гордости, а потом выродилась в средство отличения своих от чужих, часто уже без всякой связи с памятью о ветеранах. Едва ли не единственный на постсоветском пространстве пример апелляции к благодарности (в рассматриваемом нами смысле) на государственном уровне — учреждение в 2016 году в Казахстане Дня благодарности в качестве национального праздника. Население современного Казахстана — в огромной степени результат миграционных волн, связанных сначала со столыпинскими реформами, а затем со сталинскими депортациями. Учреждение этого праздника — попытка нащупать в этой трудной истории основания для позитивной идентификации себя как нации, сложившейся в результате гостеприимства коренных жителей по отношению к вынужденным поселенцам, которые в результате обосновались на новом месте.
В этот день все этносы страны могут поблагодарить друг друга и казахский народ за гостеприимство и дружбу в годы депортации. Тогда сотни тысяч людей доставляли в страну вагонами и оставляли на произвол судьбы. Но местные жители приютили каждого, дав кров и пропитание. Многие семьи, пережившие годы репрессий, обосновались в Казахстане[417].
Работа благодарения существует всегда на очень узком поле, располагающемся между пространством исключительно частным (благодарностью, которая высказывается лично и один на один, не становясь достоянием общества) и намеренно публичным (где легко вырождается в риторику или идеологический механизм). Это делает ее, с одной стороны, крайне дефицитной практикой (в смысле немногочисленности примеров и их ценности), а с другой — позволяет оставаться в пределах негосударственной сферы, относясь к сфере гражданской и человеческой.
В задачу этой книги не входит всесторонний анализ практики благодарения или даже сколько-нибудь исчерпывающий список таких примеров. Ограничимся перечислением нескольких показательных случаев, демонстрирующих, о чем идет речь и как это может работать.
Мемуары и околомемуарная литература
В 2000 году в журнале «Знамя» был напечатан роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», на следующий год вышедший в виде книги. Чудаков, литературовед, известный прежде всего исследованиями творчества Антона Чехова, написал автобиографический роман. Он рассказывает о детстве в маленьком городе, наполненном ссыльно-поселенцами, на границе с Казахстаном, куда, не дожидаясь ссылки, самостоятельно уехали предки автора. Повествование о трудном быте в условиях переживающей трагические страницы истории страны назван «романом-идиллией», и в этом нет противоречия. Критики назвали роман «робинзонадой ссыльной семьи»: дед рассказчика учит родных сажать картошку, делать из нее крахмал, вытапливать свечи, варить мыло и обрабатывать кожу, воссоздавая в экстремальных условиях ушедшую Россию с выбеленными манишками и церковными свечами. Но это робинзонада еще и в духовном смысле: оказавшись в пространстве, где вместе со наниями и умениями утрачены представления о добре и зле, дед передает внуку и их тоже. И тем самым, сохраняя способность к воспроизводству этих понятий, стирает разрыв между Россией до трагедии и Россией после нее, обнаруживая преемственность и доброкачественность существования даже в страшных с исторической точки зрения условиях. (Примечателен ответ Мариэтты Чудаковой, вдовы автора, на вопрос о главном уроке книги: «Мы должны остро ощущать, что Россия — наша страна. Для меня смысл книги в первую очередь в этом».)[418]
Историческое бытие человека — жизнь во всем ее охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого — а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель[419].
Тронувшая многих книга со временем воспринималась со все возрастающим интересом. За ее идилличностью стал отчетливо различаться редкий и трудный способ говорения о прошлом как о ценности. Спустя десять лет, в 2011 году, уже после смерти автора, решением жюри премии «Русский Букер» книга Чудакова была признана лучшим русским романом десятилетия.
Подводя культурные итоги 2009 года, критики Григорий Дашевский и Анна Наринская назвали успехом года фильм Олега Дормана «Подстрочник» о Лилианне Лунгиной и сборник Максима Осипова «Грех жаловаться». Обе книги — рассказ о человеческой жизни на фоне истории страны:
В монологе Лунгиной — что телевизионном, что печатном — не было ничего сенсационного, никаких «тайн и загадок истории». Только обычные человеческие лицо и голос, совершенно негероические, но вызывающие абсолютное доверие. Так же вышло и с книгой Максима Осипова «Грех жаловаться»: благодаря его очеркам о жизни провинциальной больницы мы словно лично познакомились с самим автором — и потому верим его соображениям вообще о жизни и о людях. Оказалось, что именно это нам нужнее всего — чтобы нашелся человек, не глядящий на жизнь сквозь розовые очки, не прекраснодушный, отвечающий за свои слова прожитой или проживаемой жизнью, и чтобы этот человек нам сказал: или, как Лунгина, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно обернуться совсем другой стороной и привести к хорошему, или, как Осипов, что все не так страшно, надо не жаловаться, а работать, — то есть чтобы нашелся человек, который бы разрешил нам не отчаиваться[420].
Форма существования Осипова в постсоветской Тарусе похожа на форму существования Лунгиной в СССР — не выживать, а жить, быть собой и с радостью делать свое дело:
Чтобы радоваться, чтобы жить, надо быть. Не доктором наук, а ученым. Не лауреатом, а хорошо играть на скрипке. Чтобы быть, надо служить. Это идеология исключительно для употребления внутрь. Оказывается, служение обществу нужно не ради абстрактного народа, а для себя («мы всего лишь врачи, нам хотелось сделать себе условия работы получше»), оно эффективно только тогда, когда это вопрос внутренней гигиены. Рецепт борьбы с пустотой. Врачебное предписание, чтоб не хотелось помереть в пятьдесят пять лет[421].
Трудно подобрать более емкое описание модуса благодарения.
Сериалы
С середины 2000х годов, когда ощущение переходного периода начинает сменяться ощущением долгожданной «стабильности», на российских федеральных каналах выходят телевизионные сериалы, рассказывающие об истории СССР не плакатным или батальным, а уютным «сериальным» языком человеческих историй. Эти фильмы производят впечатления продуманной программы, однако таковой не являются. Это хорошо сделанные ленты, режиссерами которых стали люди постсоветского поколения. Хотя эти фильмы делались для федеральных каналов, они лишены пропагандистских черт и рассказывают параллельную или альтернативную официальной историю страны — от первого послереволюционного поколения до героев позднесоветской «контркультуры».
В ряду этих сериалов «Московская сага» (2004) и «Тяжелый песок» (2006) Дмитрия Барщевского по трилогии Василия Аксенова и роману Анатолия Рыбакова, «Казус Кукоцкого» Юрия Грымова по роману Людмилы Улицкой (2006), «Ликвидация» Сергея Урсуляка (2007), «Стиляги» (2008) и «Оттепель» (2013) Валерия Тодоровского, «Таинственная страсть» Влада Фурмана (2016), «Оптимисты» Алексея Попогребского (2017), «Лето» Кирилла Серебренникова (2018). Добротно и с любовью к описываемому времени воссозданная атмосфера эпохи, без стремления «обелить» или «очернить» ее, позволяет говорить об этих сериалах как об энциклопедии советской жизни, облегчающей новому поколению разговор о прошлом и не скрывающей «трудные» темы.
Образовательные проекты 2010х
К середине 2010х российскому обществу становится понятно, что решать свои проблемы, в том числе связанные с образованием и самоидентификацией, оно должно самостоятельно, не рассчитывая на государство, а то и сторонясь его. Именно в это время возникают примеры успешного обращения к феноменам советского прошлого, свободные от идеологизации, без гордости и сентиментальности, но проникнутые нежностью. Любопытен процесс обращения к образовательной тематике тех, кто в 2000х делал «городскую журналистику» или «журналистику развлечений».
Запущенный в 2015 году командой филологов и журналистов во главе с бывшим главным редактором журнала «Большой город» Филиппом Дзядко образовательный проект «Арзамас» публикует, наряду с материалами о мировой культуре, культуре Древней Руси и Российской империи, многочисленные материалы о советской культуре — в том числе соцреализме, советской детской литературе, предлагая читателям подборки книг и мультфильмов. Весной 2018 года был запущен совместный с каналом ТВ3 проект «Кинотеатр Арзамас», в рамках которого просмотр ключевых для понимания советской эпохи фильмов («Цирк», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука», «Гараж») сопровождался разговором о темах, бывших фоном этих фильмов: сталинской культурной политике, оттепели, позднесоветских практиках «сосуществования» с государством и ухода от него.
В том же 2015 году издатель и редактор Илья Бернштейн начал выпускать книжную серию «Руслит. Литературные памятники XX века». Это своего рода аналог классической серии «Литературные памятники», но эпохой, которую необходимо бережно и качественно мемориализовать, выступает не вся история мировой и русской литературы в наиболее выдающихся ее проявлениях, а конкретно советский период. Среди изданий этой серии — добротно откомментированные «Республика Шкид» Григория Белых и Леонида Пантелеева, «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Приключения капитана Врунгеля» Андрея Некрасова, повести о Васе Куролесове Юрия Коваля.
В 2017 году художник-иллюстратор Аня Десницкая и редактор детских книг Александра Литвина выпустили книгу «История старой квартиры». Это захватывающий и трогательный рассказ о жизни поколений одной семьи в большой квартире в старом московском переулке. Это снова очень нежный и внимательный к деталям рассказ об истории XX века языком человеческих историй. Он не упускает из виду тяжелых страниц истории — жителей квартиры не обходят стороной война и репрессии, на стенах у них висят портреты Сахарова и Солженицына, но этот рассказ свободен от идеологизированности. «История старой квартиры» настолько ухватила какой-то важный способ рассказа о времени, что стала не только книгоиздательским событием, но и осовой для выставок-инсталляций, которые с большим успехом прошли в Москве (в «квартире» общества «Мемориал»), Санкт-Петербурге (в Фонтанном доме), Твери. Следующим проектом Десницкой и Литвиной стала книга о Транссибе (2019). Здесь рассказ о путешествии по главной железнодорожной артерии России также дается через истории отдельных людей и живо схваченные бытовые детали. Рассказ о стране в оптике человеческих историй оказался удачной находкой: обе книги стали бестселлерами.
В мае 2017 года образовательный портал InLiberty под руководством издателя и просветителя Андрея Курилкина запустил проект «Семь дат», предлагающий взгляд на историю России, в которой, как сказано на сайте проекта, существуют «не только победы над внешними и внутренними врагами, расширение территории и преодоление смуты, но и опыт успеха в отстаивании индивидуальных прав и свобод». Семь дат, вокруг которых строится проект, следующие: отмена крепостного права (19 февраля 1861 года), публикация Манифеста об усовершенствовании государственного порядка (начало парламентаризма в России, 17 октября 1905 года), Норильское восстание (26 мая 1953 года), демонстрация на Красной площади (25 августа 1968 года), открытие I съезда народных депутатов СССР (25 мая 1989 года), победа над путчем (21 августа 1991 года), указ о свободе торговли (начало рыночной экономики, 29 января 1992 года). Каждой дате посвящен объемный рассказ о соответствующей странице истории. По мысли авторов проекта, эти даты, по образцу существующих государственных праздников, могли бы стать примером выстраивания иного общественно-государственного нарратива, делающего акцент не на величии государства, а на силе общества и граждан.
Весной 2018 года команда журналистов и филологов во главе с бывшим главредом журнала «Афиша» Юрием Сапрыкиным запустила проект «Полка», посвященный «самым важным произведениям русской литературы». Одна из задач проекта — попытка определить канон русской литературы, каким он выглядит из сегодняшнего дня и в котором центр тяжести перенесен с XIX на XX век, то есть на литературу, написанную в годы существования СССР. Среди ключевых книг этого канона — «Котлован» Платонова, «Москва-Петушки» Ерофеева, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «Школа для дураков» Саши Соколова.
Еще один пример «благодарного» или «не закрытого к благодарности» рассказа о прошлом — проект «Прожито», созданный в 2015 году под руководством московского историка Михаила Мельниченко (с 2019 года — Центр изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге). Участники проекта собирают дореволюционные, советские и постсоветские дневники, расшифровывают их и публикуют на своем сайте. Это удивительный портрет времени, созданный исключительно и только из человеческих историй: участники проекта сознательно не комментируют тексты и не снабжают их введениями или послесловиями. Эта очень простая и совсем не оригинальная идея привела к созданию невероятно популярного и всеми любимого проекта. Кажется, дело тут в том, что такого спокойного и теплого, «принимающего» рассказа о советском прошлом со всеми его ужасами и прелестями очень и очень не хватает.
Молодежная культура конца 2010х
Совсем новая тенденция, обозначившаяся в молодежной массовой культуре в 2017–2018 годах, стала в каком-то смысле реализацией описанных выше процессов, давно идущих в более глубоких пластах культуры. На смену попыткам воспроизвести в музыке, визуальных искусствах, архитектуре западные стандарты, вырваться из культурного гетто и догнать Запад приходит интерес к местному материалу, представление о том, что от советского и постсоветского материала можно не только отталкиваться, но и воспринимать его как уникальный культурный багаж и часть собственной идентичности. Об этом сдвиге на примере отношения к советским многоэтажкам говорит Юрий Сапрыкин:
Поколение 2000х как бы говорило: многоэтажки — это ужасно. Давайте их снесем и построим на их месте новый квартал по проекту Херцога и де Мерона. Или разукрасим их модно выглядящими граффити. Или как минимум проложим вокруг них велосипедные трассы и откроем на первых этажах кафе. Многоэтажки — это то, что надо преодолеть, надстроить над ними что-то вроде небесного Лондона. Поколение 2010х, видя многоэтажки, говорит: о, многоэтажки, это же здорово. Это отличная, брутально выглядящая штука; это жестко, это сильно, в этом много драмы и даже поэзии, это наша память, это то, из чего мы созданы — и вообще-то эти многоэтажки достойны того, чтобы осознать их как часть своей идентичности и даже как повод для гордости: это такие многоэтажки, что знаете, ни у кого больше таких нет. В них есть своя красота — но эта красота рождается через тяжесть, трагедию, травму, врожденную неуютность и неправильность этого места. И именно в силу тяжести и неправильности это место достойно — давайте назовем уже слово полностью — любви[422].
Эстетика многоэтажек и спальных районов — тема, все больше интересующая современных художников. Пейзажи Павла Отдельнова — его визитной карточкой стала серия 2014 года «Внутреннее Дегунино» — интересны отсутствием отчетливой эмоции. Художник не любуется многоэтажками и промзонами, но и не отвергает их. Его взгляд внимателен и изучающ, он позволяет увидеть привычное на новой дистанции (тут можно вспомнить сказанное выше про подведение черты). Неожиданным образом эта дистанция сообщает спальным районам романтический ореол: сам Отдельнов сравнивает отношение к эстетике многоэтажек с тем, как романтики вглядывались в искусство Античности[423]. Эстетика, рождение которой праздновал Пименов в серии «Новые кварталы», завершает виток, обретая у Отдельнова функцию «современной античности». Так и выглядит работа принятия.
Навык отделения в истории страны того, что достойно благодарения, от того, что достойно осуждения, и опыт работы благодарения позволяет приблизиться к решению задачи принятия прошлого.
Во-первых, предмет осуждения — государственные преступления советского периода — оказывается очищен от того, что делало отношение к нему «сложным». Теперь это просто террор, отношение к которому может быть однозначным и от которого не отвлекают соображения о том, что в СССР «было и хорошее».
Во-вторых, опыт благодарения позволяет выстроить позитивную идентичность, позволяющую обществу почувствовать общность и сделать осуждение преступлений прошлого, насколько возможно, не поводом для болезненных споров и разделений, а основанием для общенациональной программы примирения.
5
ТОРГ О ПРАВДЕ
26 апреля 2018 года недалеко от центра города Монтгомери, столицы американского штата Алабама, был открыт для посещения впечатляющих размеров объект, больше всего напоминающий инсталляцию какого-нибудь современного художника. Взгляду посетителя открывается огромная постройка, держащаяся, если смотреть на нее извне, на 800 опорах из «ржавой» кортеновской стали. Но входящий внутрь видит, что казавшаяся со стороны столь надежной и устойчивой конструкция на самом деле лишена оснований: массивные опоры висят в воздухе, прямо над головами посетителей. Фантастичности картине добавляет то, что эти несколько сот опор в форме правильных параллелепипедов очень похожи на таинственные инопланетные монолиты из «Космической одиссеи» Стенли Кубрика.
Поражающая воображение постройка — не творение инопланетян и не инсталляция современного художника. Это мемориал жертвам линчеваний, происходивших в 12 южных штатах с 1877 по 1950 год, а параллелепипеды из кортеновской стали символизируют тела повешенных. Мемориал возведен на частные пожертвования неправительственной организацией «Инициатива за равное правосудие», созданной в 1994 году юристом и правозащитником из Монтгомери Брайаном Стивенсоном. «Равное правосудие» занимается сбором информации о жертвах линчеваний с 2010 года. Эти данные легли в основу выпущенного в 2015 году отчета «Линчевания в Америке: противостояние наследию террора по расовоу признаку»[424] и созданного в рамках мемориала музея, посвященного истории рабства и преследований чернокожих. Он находится в нескольких минутах ходьбы от мемориала, рядом с местом, где когда-то располагался самый известный в Америке рынок, где чернокожих продавали с аукциона[425].
И все же ассоциации с творением современного искусства не совсем ошибочны. Мемориал в Монтгомери во многом работает именно так. Его эмоциональное воздействие строго подчинено авторской концепции, а все детали конструкции имеют вполне определенный смысл. 800 параллелепипедов соответствуют числу округов, где происходили расправы, на каждой из них выбиты имена известных на сегодня жертв, убитых в соответствующем округе (в общей сложности 4400 имен).
Но едва ли не самая интересная часть мемориала вынесена за пределы центральной постройки. По периметру территории разложены дубликаты 800 параллелепипедов, подвешенных в главном здании. Округам, названия которых на них выбиты, создатели мемориала предлагают установить эти колонны в своих административных центрах, соорудив тем самым мемориалы жертвам линчеваний по всему американскому Югу. В условиях оживившейся в последнее время в США дискуссии о наследии рабства (участившиеся случаи полицейского произвола в отношении афроамериканцев, кампания по сносу памятников Конфедерации и т. д.) и с учетом волны публикаций о мемориале в Монтгомери во всех мировых СМИ игнорирование такого предложения местными администрациями выставит их в крайне невыгодном свете. Согласие же установить памятники, напротив, окажется легким способом выгодно смотреться на фоне соседей. (Здесь трудно не вспомнить запущенную Юрием Дмитриевым конкуренцию национальных памятников в Сандармохе.) Таким образом, мемориал представляет собой не статичное напоминание о событиях прошлого, но служит свидетельством о настоящем, о том, какие округа сегодня признают прошлые преступления, а какие этой памяти сопротивляются; он не только отражает прошлое, но в известной мере формирует будущее, запуская «волну» памяти о наследии рабства по всему Югу.
Мемориал в Монтгомери не просто удачно сделан с концептуальной и архитектурной точки зрения — он грамотно использует память о трудном прошлом как инструмент воздействия на современность. Это отражает изменившееся представление о роли мемориалов в принципе: они не столько канонизируют некую (как правило, государственную) позицию, как это было на протяжении большей части XX века, сколько вовлекают общество и государство в разговор о последствиях этого прошлого.
Рассуждения про принятие прошлого, отказ от «нюрнбергского подхода», переход от позиции внешнего наблюдателя к позиции соучастника ни в коей мере не отменяют факта преступлений, без осуждения которых полноценная проработка прошлого невозможна. Случай Дениса Карагодина важен прежде всего тем, что в ситуации отсутствия правосудия и даже возможности его осуществить он делает то главное, что надо сделать: публикует свидетельства преступления, называет имена его жертв и соучастников. Это обязательный шаг всей логики осмысления-проработки-примирения: вот убитые, вот убийцы, это факт, вот свидетельства — давайте все посмотрим на это, а теперь давайте что-то с этим делать. Ту же самую функцию выполняют любые публикации фактов и свидетельств о государственном терроре, обнаружение мест расстрелов, установление памятных табличек и т. д.
Искомая российская модель подведения черты и переосмысления прошлого, учитывающая российскую специфику, должна удовлетворять следующим условиям:
1. Основой этого процесса должен быть взгляд на проблему изнутри, а не «нюрнбергская модель».
2. Этот процесс должен предполагать прежде всего разговор об ответственности, а не осуждение преступников (в силу того, что преступников просто нет в живых).
3. Это должен быть процесс, максимально вовлекающий самые разные общественные и политические силы. А значит, он должен быть выгодным для этих сил, позволять им выработать единую договорную позицию об отношении к прошлому.
4. Этот процесс должен предполагать максимальную публикацию информации о преступлениях прошлого.
Всем перечисленным условиям отвечает модель, предполагающая создание некоего аналога комиссии правды и примирения — специфического института из арсенала правосудия переходного периода, одним из самых ярких примеров которого является Южноафриканская комиссия. В случае России это совсем не обязательно должна быть единичная инициатива. Но модель комиссии правды — наиболее отработанный из существующих сегодня в мире механизм решения проблем того типа, с которыми мы имеем дело в России. Имеет смысл скорее обсуждать совокупность практик, так или иначе ориентирующихся на принципы работы комиссий правды, использующих выработанный ими опыт, арсенал их приемов и подходов. Это общественно-государственные инициативы, проекты (общественные, то есть работающие при участии государства, но не государственные), направленные на публикацию и популяризацию фактов, имен, обстоятельств и их мемориализацию.
Согласно классическому определению Присциллы Хайнер, ведущего специалиста по комиссиям и сооснователя Международного центра правосудия переходного периода, комиссия правды:
1) сосредоточена на прошлом, а не на современных событиях;
2) занята расследованием не конкретного события, а событий, происходивших на протяжении ограниченного периода времени;
3) представляет собой временное образование, задачей которого является подготовка доклада на основе своих расследований;
4) официально уполномочена властями государства, в котором работает[426].
Такие комиссии начали возникать в странах Латинской Америки в 1970х и превратились в широко распространенную практику после резонансного доклада Сальвадорской комиссии в 1993 году (в это же время закрепился и сам термин «Комиссия правды и примирения»)[427]. Самыми яркими примерами таких комиссий стали описанные в предыдущей части аргентинская CONADEP (1983–1984) и южноафриканская TRC (1994–2002). Если первое издание классического исследования Хайнер о комиссиях правды, вышедшее в 2001 году, включало описание 20 известных к этому времени комиссий, во втором, вышедшем в 2010 году, их было уже 40. К настоящему моменту общее число работавших когда-либо комиссий превысило пять десятков и продолжает расти. В декабре 2017 года Национальная ассамблея Гамбии учредила Комиссию правды, примирения и репараций, призванную расследовать нарушения прав человека, имевшие место в годы президентства Яйи Джамме (1996–2017). В июле 2018 года о намерении учредить Комиссию для расследования массовых репрессий в годы правления Франсиско Франко объявили в новом правительстве Испании.
Case study: Афинская комиссия 403 года до н. э.
Хотя комиссии правды и примирения — феномен, возникший во второй половине XX века, основные принципы, на которых строится работа подобных переходных механизмов, неотделимы от развития демократии как таковой. Первым задокументированным примером такого компромиссного соглашения считается договор между узурпаторами власти и пришедшими им на смену демократическими силами, заключенный после свержения Тридцати тиранов в Афинах в 404–403 годах до н. э[428]. Тридцать тиранов, установившие в Афинах олигархическую проспартанскую диктатуру после поражения Афин в Пелопоннесской войне, развернули террор против политических противников и просто состоятельных афинян.
По сообщению Ксенофонта, за девять месяцев правления Тридцати были убиты 1500 жителей города — больше, чем погибло за десять лет Пелооннесской войны; у тысяч было отобрано имущество. Террор Тридцати принял классические формы: чистки в собственных рядах (через несколько месяцев после установления диктатуры был казнен Ферамен, первоначальный лидер Тридцати), превращение суда в фарс, поощрение доносительства и участия афинян в расправах над согражданами. Демократическая оппозиция в вооруженном противостоянии низложила режим Тридцати. Те попытались призвать на помощь Спарту, но спартанский царь Павсаний предложил заключить выгодное обеим сторонам соглашение.
Это соглашение предотвратило гражданскую войну и обеспечило гарантии стабильности демократии, которая сохранялась в Афинах на протяжении всей их последующей истории вплоть до потери независимости. По условиям соглашения, Тридцати и их сторонникам предоставлялось право переселиться в Элевсин, предместье Афин, становившееся самостоятельным поселением. Не желавшие переселяться лидеры диктатуры могли получить амнистию, представ перед судом граждан. Остальные получали амнистию за преступления, совершенные в правление Тридцати. Это соглашение так описано в «Афинской политии» Аристотеля:
Примирение состоялось <…> на следующих условиях: из афинян, остававшихся в городе, всем, желающим выселиться, предоставляется право жить в Элевсине с сохранением всех гражданских прав, полной свободы, самоуправления и правом пользоваться доходами от своего имущества. Что касается храма, то доступ к нему должен быть предоставлен одинаково тем и другим, а попечение о нем должно лежать на обязанности Кериков и Эвмолпидов по отеческим заветам. Далее, ни жителям Элевсина не дозволяется приходить в город, ни жителям города в Элевсин; разрешается это тем и другим только во время мистерий. Вносить подати с доходов в союзную казну элевсинцы должны наравне с остальными афинянами. А буде кто-нибудь из лиц, собирающихся переселиться, пожелает занять дом в Элевсине, он должен получить на это согласие от владельца; в случае же невозможности достигнуть соглашения каждая сторона должна выбрать троих оценщиков, и какую цену назначат эти последние, такую и следует брать. Из элевсинцев предоставляется жить с ними тем, кого они сами пожелают к себе пустить. <…> За прошлое никто не имеет права искать возмездия ни с кого, кроме как с членов коллегий Тридцати, Десяти, Одиннадцати и правителей Пирея, да и с них нельзя искать, если они представят отчет. А представить отчет правившие в Пирее должны перед гражданами в Пирее, правившие в Афинах — перед собранием из лиц, могущих показать имущественный ценз. После этого желающим предоставляется право выезда. Что касается денег, которые занимали на войну, то каждая сторона должна выплатить их самостоятельно[429].
Не обошлось без обычных в таких случаях мер обеспечения выполнения соглашений. По свидетельству Аристотеля, когда один из афинян стал требовать возмездия за прошлое, его казнили без суда.
После его казни уже никто никогда потом не искал возмездия за прошлое. Наоборот, афиняне, кажется, превосходно и в высшей степени дальновидно с политической точки зрения воспользовались и в частных и в общественных отношениях пережитыми несчастьями. Они не только пресекли обвинения по делам о прошлом, но и возвратили из общих средств лакедемонянам те деньги, которые Тридцать заняли для войны, хотя договор предлагал обеим партиям отдавать порознь — партии города и партии Пирея. Они видели в этом первое, что должно служить началом для взаимного согласия[430].
Этот сюжет из истории древних Афин особенно интересен тем, что в нем уже присутствует большинство основных черт, характеризующих работу комиссий и переговорный транзит в целом: соглашение, подписываемое под давлением военных, не полностью добровольно; амнистия виновным в преступлениях как основной элемент соглашения; возможность для преступников получить иммунитет от преследований при готовности добровольно дать ответ об обстоятельствах совершенных деяний; гражданский консенсус (желание «взаимного согласия») как условие успешности и устойчивости транзита; наконец, очень относительный успех всех этих мер (спустя два года те из числа Тридцати, кто не успел сбежать, были убиты, а Элевсин присоединен к Афинам).
Основные характеристики модели
Важное отличие комиссии как модели в том, что это институциональное, но в то же время не судебное разбирательство с прошлым. Это институт, главной задачей которого является «воздействие на общественное восприятие прошлого страны и его принятие, а не просто стремление устранить те или иные проблемы»[431]. Именно поэтому такая модель представляется столь интересной с учетом российской специфики.
Большинство комиссий правды не пересекаются с задачами судебных институций и не дублируют их. Но несмотря на их куда более ограниченные правовые полномочия, их более широкий мандат, позволяющий сосредоточиться на типах, причинах и последствиях политического насилия, позволяет комиссиям правды идти в своих расследованиях и заключениях намного дальше, чем это оказывается обычно возможным (или приемлемым) в суде. Широта задач и гибкость комиссий правды — их сильная сторона. Например, эти комиссии обычно способны обозначить полную ответственность государства и различных его институтов, которые проводили или оправдывали репрессивную политику, включая не только военных и полицию, но и саму судебную систему. Фокус комиссий правды на жертвах, предполагающий, как правило, сбор тысяч свидетельств и публикацию их в рамках публичного и санкционированного государством доклада, означает для многих первый шаг в признании государством того, что их слова заслуживают доверия, а зверства действительно не имеют оправдания[432].
Обобщая опыт работы комиссий по всему миру, можно перечислить несколько важных характеристик этой модели.
1. Комиссии правды и примирения почти никогда не открывают чего-то принципиально нового и ранее неизвестного обществу. Их задача состоит скорее в легализации широкого признания факта прошлых преступлений. В начале 1990х глава центральноамериканского подразделения Human Rights Watch Хуан Мендес писал:
Знание, которое получает официальную санкцию и тем самым становится «частью публичной картины реальности», таинственным образом обретает новое качество, которого было лишено, будучи просто «правдой». Официальное признание как минимум начинает процесс врачевания ран[433].
Это ответ на замечания о том, что общественная дискуссия о преступном характере советских репрессий неуместна. Действительно, за очевидностью преступлений такая дискуссия может казаться (и должна со временем стать) бессмысленной. Но, как показывает опыт огромного количества стран, чтобы сделать очевидным для всех даже интуитивно понятное, необходима отдельная и грамотная просветительская работа.
2. Такие комиссии не гарантируют примирения и даже не могут служить гарантией от повторения расследуемых ими преступлений в будущем. Более того, они могут служить средством манипуляции обществом, обеления себя новым режимом или намеренного очернения режима предыдущего — как это было, например, в Чаде и Уганде.
3. Работа этих комиссий, как правило, не завершается судом над всеми виновными в нарушениях прав человека. Нередко даже принимается решение засекретить результаты их работы (в этом случае они с большой вероятностью утекают в прессу).
4. Хотя одним из основных условий успеха работы комиссий считается наличие у них мандата от правительства, известны примеры неофициальных расследований преступлений диктаторских режимов, осуществлявшихся частными лицами при поддержке неправительственных организаций и авторитетных общественных деятелей, результаты которых привлекали значительное внимание.
Самый яркий случай — подпольное раследование пыток, предпринятое бразильскими правозащитниками. В 1979 году бразильская военная диктатура, находившаяся у власти с 1964 по 1985 год, приняла закон об амнистии. Этот закон дал правозащитникам предлог для доступа к протоколам судебных заседаний, проходивших с 1964 по 1979 год и не предназначавшихся для публикации. Использовав эту лазейку, 35 активистов под руководством архиепископа Сан-Паулу Паулу Эваристу Арнса, пресвитерианского пастора Джейми Райта и раввина Генри Собеля и при поддержке Всемирного совета церквей за три года, с 1979го по 1982й, перефотографировали 2700 страниц свидетельств о пытках и идентифицировали 17 тысяч жертв. Эти данные были переправлены в штаб-квартиру Всемирного совета церквей в Женеве, и на их основе в 1985 году (после инаугурации первого гражданского президента Бразилии) был выпущен доклад Brasil: Nunca Mais[434]. (Интересная деталь: поскольку «бразильский проект» существовал в подпольных условиях, Католическая церковь обеспечивала не только его финансовую поддержку, но и легитимность напечатанному докладу.)Только десять лет спустя военные публично признали массовые пытки, а правительство инициировало программу выплат семьям жертв в размере 1,5 млрд долларов США. В 2012 году начала работу официальная комиссия правды, отчет которой был выпущен в 2014 году.
Другие примеры резонансных неофициальных инициатив такого рода — доклад Uruguay: Nunca Ms, подготовленный правозащитной организацией SEPRAJ и оказавшийся куда более содержательным, чем предшествующее ему парламентское расследование (парламентская комиссия обладала полномочиями только расследовать случаи исчезновения людей, таким образом подавляющее большинство совершенных в стране преступлений, прежде всего незаконные тюремные заключения и пытки, оказались вне ее рассмотрения)[435]. В 1998 году Бюро по правам человека архиепископа Гватемалы Хуана Херарди выпустило четырехтомный отчет о многолетнем расследовании нарушений прав человека в ходе гражданской войны в стране[436]. Через два дня после публикации доклада архиепископ Херарди был жестоко убит. Публикация отчета и убийство Херарди стимулировало работу официальной «Комиссии по установлению исторической истины». Суд над убийцами Херарди в 2001 году стал прецедентом юридического преследования армейских офицеров в Гватемале.
Эти примеры представляют далеко не только исторический или этнографический интерес. Работа общества «Мемориал» и другие подобные гражданские и правозащитные инициативы в России в международном контексте — аналоги такого рода неофициальных инициатив, направленных на установление и обнародование правды о преступлениях прошлого (Truth-Telling Inquiries). Именно в этом контексте стоит воспринимать как их успехи в том, что касается публикаций книг памяти, обнаружения мест массовых захоронений и идентификации жертв, так и неудачи в том, что касается официального признания результатов этой деятельности и их донесения до широкой общественности.
Месть или прощение
Именно в рамках длящихся уже два десятилетия дискуссий о комиссиях стоит искать, например, ответ на распространенные сегодня в России замечания о том, что акцентирование внимания на палачах и обстоятельствах преступлений смещает акцент с примирительной памяти на память обвиняющую. Ярче всего это видно в реакциях на расследование Дениса Карагодина, которого обвиняют в «помешательстве на возмездии». Именно так называется статья православного писателя Елены Тростниковой, видящей в стремлении установить имена палачей готовность «войти в круговорот расширяющейся ненависти и в духовном отношении уравняться с палачами»:
Когда кто-то начинает требовать справедливости, разыскивая палачей, — мне это кажется странным. Я думаю, что прежде всего надо не искать палачей, да еще зачисляя в их число всех причастных — шоферов, машинисток, техничек НКВД. Надо восстанавливать память о тех, кто пострадал, кто принял мучения, — тех, кого мы должны продолжить. <…>
Мне кажется, что восстановление исторической правды как раз и состоит прежде всего в том, чтобы помнить. Чтобы память о безвинно пострадавших, о величии их духа не пропала бесследно. А месть — ведь это и есть то, что мы видели в 1937–38 годы. Месть — это бесконечная череда убийств, это порочный круг, который невозможно разорвать. Разве это нам нужно?[437]
Эти опасения очень характерны сами по себе, ведь говорящие так отлично сознают: в ситуации, когда преступление не осуждено, привлекательным способом восстановления справедливости начинает выглядеть месть со стороны близких жертв. Если подумать, это довольно важный штрих: примирительные предложения «не ворошить прошлое» на самом деле порождены сознанием, что конфликт не разрешен и легитимные средства его разрешения отсутствуют. Но единственный легитимный инструмент защиты от мести — это действенное и независимое правосудие. Французский историк культуры Рене Жирар в классической работе «Насилие и священное» пишет:
Угрозу мести устраняет судебная система. Она не подавляет месть: она четко ограничивает ее единственным наказанием, исполнение которого возлагается на специально предназначенную для этого верховную власть. Решения судебных властей всегда выносятся в качестве последнего слова мести[438].
И именно на это возражение отвечает главный принцип, лежащий в основании комиссий правды: когда осуществление правосудия судебными средствами невозможно, единственным способом восстановления справедливости и защиты жертв или их памяти (то есть тех, кто в такой защите в первую очередь нуждается) является максимально возможное установление обстоятельств совершения преступлений, имен виновных и степени их вины.
Вопрос о публикации имен виновных в преступлениях, совершенных авторитарным режимом, хорошо известен исследователям комиссий. Публикация имен часто вызывает возражения: комиссия — не судебный орган и, как правило, ее работа не приводит к полноценному уголовному процессу. В этих обстоятельствах называние имен виновных подменяет формальное обвинение, лишая их возможности оправдаться, и оставляет без судебной защиты (из трех градоначальников, объявленных виновными в насилии в Руанде, двое были убиты через несколько месяцев). Поэтому по состоянию на 1994 год из 15 комиссий опубликовали имена преступников только 4. Однако после ставшего во многом образцовым доклада сальвадорской комиссии публикация имен стала превращаться в общую практику. В докладе говорится:
Можно заметить, что поскольку методы, используемые Комиссией в ее расследовании, не отвечают требованиям формального уголовного процесса, доклад не должен называть имена людей, которые, по мнению Комиссии, замешаны в установленных случаях насилия. Но Комиссия считает, что у нее нет иного выбора.
Заключая мирные договоры, стороны дали понять, что необходимо «сделать известной всю правду», и именно в этом состоит задача Комиссии. Но сказать всю правду нельзя, не назвав имен. В конце концов, перед Комиссией стояла задача не подготовить академический доклад о событиях в Сальвадоре, но описать крайне важные факты насилия и предложить меры для предотвращения их повторения в будущем. Эту задачу нельзя выполнить абстрактно, скрывая часть информации <…> когда доступны вполне достоверные свидетельства, особенно если установленные лица занимают руководящие посты и выполняют официальные функции, непосредственно связанные с преступлениями или покрытием таковых. Не называть имена значило бы обеспечивать ту самую безнаказанность, положить конец которой Стороны уполномочили Комисию[439].
Процесса над организаторами и участниками советского террора не было — и среди отрицательных последствий этого не только отсутствие осуждения преступлений, служащее для некоторой части общества их оправданием. Есть и другое негативное последствие, не меньше разделяющее общество, но упоминаемое куда реже. Отсутствие конкретных и поименных приговоров позволяет другой части общества распространять вину за преступления на неопределенное множество людей, в которое автоматически входят все «сотрудники НКВД-МГБ-КГБ».
Отстаивающие необходимость суда над советским террором часто указывают на Нюрнберг как на образцовый пример. Между тем в рамках всех 13 нюрнбергских трибуналов обвинения были предъявлены всего 5 тысячам человек, и даже в Германии многие бывшие нацисты были оправданы и стали полноправными гражданами. Важно понимать, что усилия Дениса Карагодина, стремящегося выявить и назвать по именам всю цепочку лиц, участвовавших в убийстве его прадеда, работают не на запуск «маховика возмездия», а на прямо противоположное — на то, чтобы уйти от разговоров о мести. Ведь эти разговоры подпитываются «проклятой неопределенностью» на месте трагедии. Уйти от нее можно, установив с максимальной полнотой картину преступления и степень виновности конкретных лиц (вот машинистка, печатавшая расстрельные приговоры, вот водитель «черного воронка», а вот человек, эти приговоры выносивший или приводивший в исполнение). И память машинистки, всего лишь перепечатывавшей расстрельные бумаги, — пока она включается в неопределенное и неранжированное по степени вины «сообщество преступников», на которых кровь миллионов, — страдает от этой неопределенности не меньше, чем память жертв.
Вариант развития темы ухода от «порочного круга отмщения», звучащий, как правило, в дискуссиях православных христиан, — апелляция к христианскому прощению палачей[440]. Современные россияне считают христианство традиционным мировоззрением, а христианская этика прощения врагов — хорошее основание для гражданского примирения. Отчасти это напоминает апелляцию к традиционной для большинства населения этике «убунту» в рамках процесса национального примирения в ЮАР, также ориентированного на прощение совершенных злодеяний.
Прощение — хороший сценарий гражданского примирения. Но оно возможно только в случае, если виновные — или те, кто принимает вместо них ответственность за совершенное, — признают вину и просят прощения. Именно к этому, пусть часто формально-идеологически, сводился процесс примирения в Южной Африке. Зло таким образом констатируется и обличается, что способствует установлению мира. Но дарование прощения без его испрашивания есть нечто противоположное, способствующее не миру, но консервации раскола. Потому что оно не останавливает зло: прощение не испрошено, злодей не признал злодейства и не раскаялся, он невредим и на коне, а значит, дарование прощения будет только маскировкой раны, потворством злу и подбадриванием злодея. Христианское прощение ни в коем случае не предполагает неосуждение зла или покрывание греха, но учит возможности мистического освобождения от последствий сделанного зла при искреннем и деятельном покаянии. Именно в этом смысле можно говорить о любви к врагам и грешникам как к людям, в которых есть ресурс для покаяния.
Прощение не заменяет осуждение преступлений, но оказывается частью большого процесса преодоления его последствий по формуле «Помнить, знать, осудить и только потом простить». И смысл инициатив, подобных расследованию Карагодина, состоит как раз в том, чтобы не позволить совершенному злу оказаться забытым, сделав тем самым процесс примирения уж точно невозможным. Наиболее предметными и глубокими здесь вновь оказываются свидетельства, касающиеся личной и семейной памяти о совершенном зле. Петер Эстерхази подчеркивает, что его собственные интересы как потомка виновного в отношении признания совершенного зла не отличаются от интересов окружающего его общества. Как и все общество, отравленное последствиями сотворенного в прошлом зла, он нуждается не в прощении, а в сохранении памяти о произошедшем:
Я работаю против забвения. Мне хочется, чтобы дело Папочки не забыли, а, напротив, запомнили. Прощения я не хочу. (Если б хотел — умолял бы, на коленях ползал. Если б это хоть что-нибудь изменило.) Так чего же мне нужно? Ну… Чтобы все это… было видно. Чтобы выяснилось, что было в действительности, а в действительности, как выяснилось, было это.[441]
Как показывает опыт других стран, максимально масштабное и подробное обнародование информации, касающейся преступлений времен советского террора, отвечает интересам не только всего общества, но и интересам потомков преступников.
Суд или обличение
Другое возражение против компромиссной модели проработки прошлого звучит от сторонников максимально жестких расчетов с преступным прошлым. По их мнению, такие модели призваны защитить наследников и правопреемников советского режима от реальной ответственности и тем самым подменяют реальное подведение черты под прошлым.
В контексте дискуссий о комиссиях это соответствует проблеме соотношения правды и правосудия, которой мы касались в предыдущей части в главе, посвященной работе южноафриканской TRC. В самом деле, с появлением «моды» на комиссии правды они часто оказывались частью сознательной сделки, на которую шли представители уходящей диктатуры. Также подобные сделки использовались новыми режимами для своей легитимации (в этом смысле доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» можно считать своего рода аналогом таких легитимирующих комиссий). Примером таких сделок можно назвать комиссии в Уганде (1986–1995), Чили (1990–1991), Гватемале (1997–1999), Сьерра-Леоне (1999), Конго (2002), Либерии (2003) и некоторых других странах. Однако со временем стало понятно, что реальная роль и воздействие комиссий, независимо от первоначальных намерений их организаторов, вовсе не сводится к роли подушки безопасности для ослабевших диктаторов. Напротив, в большинстве случаев комиссии делают суд над преступниками более вероятным[442].
Во-первых, потому, что любое последующее юридическое преследование, как правило, основывается на фактах, выявленных в рамках работы комиссии. Именно так произошло в Аргентине, где приобретшие к концу первого десятилетия XXI века массовый характер суды над военными использовали свидетельства, зафиксированные комиссией 1983–1984 годов. По похожему сценарию развивались события в Чаде и Перу. В Чаде через восемь лет после публикации отчета комиссии 1992 года ее материалы стали главным основанием для обвинений против диктатора Хиссена Хабре. В 2013 году он был экстрадирован из Сомали, а в 2016 году осужден на пожизненное заключение. В Перу комиссия передала все свои материалы прокуратуре страны сразу после публикации отчета в 2004 году. За этим последовали многочисленные суды, однако большинство обвиняемых были оправданы.