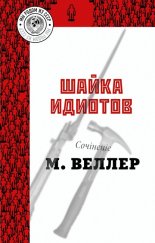Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах Эппле Николай
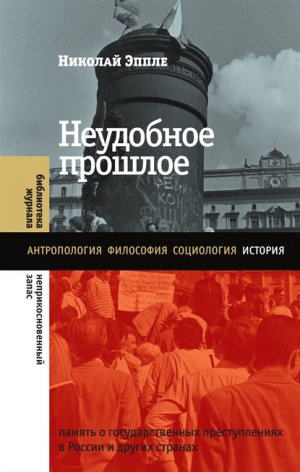
Одним из свидетельств постепенного изменения общественного мнения и одновременно факторов, способствующих изменению этого отношения снизу, становится увеличение числа гражданских инициатив и неправительственных организаций, отстаивающих права жертв нацизма или координирующих деятельность, связанную с попытками искупления вины. Среди такого рода инициатив — церковно-общественная организация «Акция искупления». Ее создателем был юрист и правозащитник Лотар Крейссиг (1898–1986). В 1933 году он, единственный из немецких судей, отказался вступить в НСДАП, а в 1940 году выступил против нацистской программы эвтаназии умственно отсталых людей и инвалидов и даже инициировал дело об убийстве против Филиппа Боулера, главы канцелярии НСДАП, ответственного за программу.
Фактически открыто заявивший о незаконности нацистских практик, Крейссиг был всего лишь отправлен в отставку и — личным распоряжением Гитлера — на пенсию. (Журналист и историк Эрнст Клее, исследовавший медицинские преступления нацистов, в одной из своих книг передает разговор, состоявшийся в ноябре 1940 года между Крейссигом и министром юстиции Третьего рейха Францем Гюртнером. Когда Гюртнер показал Крейссигу собственноручное письмо Гитлера с распоряжением инициировать программу эвтаназии, Крейссиг сказал, что «слово фюрера не создает право». «Если вы не признаете волю фюрера источником права, вы не можете оставаься судьей», — ответил министр.)[265] До конца войны он жил в своем загородном доме, занимаясь сельским хозяйством и укрывая евреев. С 1930х годов Крейссиг был членом синода антифашистской Исповедующей церкви и в качестве церковного администратора выступил с инициативой создания «Акции искупления». Используя церковные каналы, организация налаживала контакты со странами, пострадавшими от нацистской оккупации, и направляла туда немецкую молодежь, стремившуюся под влиянием чувства ответственности вести социальную работу в этих странах. К концу 1960х «Акция искупление» стала получать широкую поддержку общества и государства, став одним из ключевых участников и популяризаторов процесса примирения.
К концу 1960х, ознаменовавшемуся массовыми протестами 1968 года, аденауэровская политика «осторожной консолидации» общества стремительно устаревала. Ее символом стал мемориал, возведенный рядом с городом Фридланд — местом, где после войны располагался транзитный лагерь для немцев, возвращавшихся домой из СССР после плена, депортации и принудительных работ. Символический смысл четырех огромных каменных глыб, прозванных «Аденауэровым стоунхенджем», сводится к памяти о немецком страдании. Кроме таблички с упоминанием 50 млн «убитых и погибших» на разных континентах, ничто не указывает на то, что война принесла страдания не только немцам. Алейда Ассман в 2018 году пишет:
Хотя политика Аденауэра по интеграции беженцев и возвращению домой немецких военных была крайне успешной, его монумент таковым не был. Сам канцлер не дожил до его открытия в 1967 году, к этому времени мемориал с его анонимным пафосом, туманными формулировками и настойчивым уходом от вопросов о причинах и последствиях или вине и ответственности уже не отвечал требованиям времени. Несмотря на его монументальный облик, сегодня в Германии он почти неизвестен[266].
Новое время требовало новых «инструментов памяти».
В конце 1960х наследие прошлого, о котором прежде можно было «коммуникативно умалчивать», становится все более заметным фактором политики. В 1968 году журналистка и антифашистка Беата Кларсфельд с возгласом «Нацист!» публично дает пощечину канцлеру Курту Кизингеру: он был членом НСДАП с 1933 года. Год спустя Кизингер проигрывает на выборах, и канцлером становится Вилли Брандт, активный антифашист-подпольщик, в 1938 году (ему было тогда 25 лет) лишенный нацистами немецкого гражданства.
7 декабря 1970 года в ходе визита в Варшаву канцлер Вилли Брандт преклоняет колена перед мемориалом жертвам восстания в гетто, отчетливо связав свою политику с переосмыслением прошлого. Это было первое подобного рода извинение, знаменовавшее новые политические стандарты, а кроме того — политику сближения с Восточной Европой и СССР. В качестве признания важности такого поворота на следующий год Брандт получает Нобелевскую премию мира. Это не было пустой работой на публику: отношение к бывшим нацистам ощутимо меняется. С 1970 по 1989 год обвинения были предъявлены более чем 6 тысячам бывших нацистов; около 200 человек были приговорены к тюремному заключению.
Политическая судьба Брандта хорошо отражает ситуацию в западногерманском обществе в эти годы. В 1972 году его партия выигрывает выборы в Бундестаг при небывало высокой явке в 91 %. В то же время растет недовольство его политикой по отношению к Восточному лагерю и жестким отношением к нацистскому прошлому. В 1974 году, после обнаружения восточногерманского агента в его ближайшем окружении, он был вынужден подать в отставку[267].
В 1975 году в Дюссельдорфе начинается процесс над сотрудниками концлагеря Майданек, продолжающийся до 1981 года. Обвинения предъявлены 16 нацистам, осуждены 8. Это самый долгий и дорогостоящий (474 заседания) из западногерманских процессов, сыгравший важную роль в ознакомлении общества с преступлениями нацизма.
Между тем демократические ценности прививаются и укореняются: по данным Евробарометра, если в 1973 году развитием демократии в стране были удовлетворены 39 % респондентов (против 55 % неудовлетворенных), в 1979м это соотношение было уже 70 к 10 %[268].
В 1973 году при содействии федерального президента Густава Хайнемана был учрежден школьный конкурс работ по немецкой истории, предоставивший юным немцам по всей стране возможность исследовать историю Третьего рейха на примере своих родных мест. Этот конкурс со временем станет одним из образцов для конкурса школьных сочинений «Человек в истории», который проводит в России с 1999 года общество «Мемориал».
Но решающему сдвигу в отношении к прошлому способствуют не дискуссии в кругах интеллектуалов и даже не громкие процессы над военными преступниками, оставляющие равнодушной значительную часть общества. Лед в сердцах немцев, по выражению Алейды Ассман, разбивает продукт американской коммерческой культуры. В январе 1979 года по западногерманскому телевидению транслируется четырехсерийный фильм Марвина Чомски (двоюродного брата знаменитого лингвиста и публициста Ноама Чомски) «Холокост» с Мерил Стрип в одной из главных ролей. Фильм рассказывает историю вымышленной семьи немецких евреев с середины 1930х до середины 1940х годов; в нем упоминаются Хрустальная ночь, восстание в Варшавском гетто и в лагере Собибор, программа эвтаназии, массовые депортации евреев, расстрелы и лагеря уничтожения. Демонстрация каждой серии сопровождалась передачей с участием историков: в студию могли позвонить зрители и задать вопросы об историчности показанных в фильме фактов. Фильм посмотрели 20 млн человек, или 48 % взрослого населения Западной Германии[269]. Зрители, разгневанные тем, как такое можно было допустить, оборвали телефоны студии (было зафиксировано 23 тысячи звонков). Правые радикалы пытались подорвать телекоммуникационные вышки, чтобы помешать трансляции фильма.
Знание о Холокосте, которое до этого ограничивалось кругом интересующихся и неравнодушных, выплеснулось на всю страну. «Общество немецкого языка» объявило «Холокост» словом года. С этого момента изучение Холокоста стало частью школьной программы и постоянным элементом политического дискурса. В 1979 году, ставя точку в двадцатилетней дискуссии, парламент отменил сроки давности преследований за Холокост и геноцид.
Тема нацистского прошлого прочно входит в научный, культурный, образовательный и политический обиход, становится предметом постоянного внимания СМИ. Факты военных преступлений больше всерьез никто не отрицает, акценты широко обсуждаются, растет круг жертв и памятных дней. В 1982 году канцлером становится Гельмут Коль, историк по образованию и председатель ХДС. Он снова пытается проводить политику подведения черты, но теперь эти попытки не только проваливаются, но и провоцируют масштабный прорыв молчания о прошлом.
В инаугурационной речи в Бундестаге Коль говорит, что видит своей задачей сместить фокус разговора о прошлом с вины на ответственность и обратить внимание немцев на послевоенные достижения. Выступая в 1984 году в израильском Кнессете, он напоминает об особой ответственности Германии перед Израилем и о «милости позднего рождения» (Gnade der spten Geburt) как самоощущении нового поколения, непричастного к преступлениям. Акцент на движении вперед заметен и в инициативе Коля начать строительство «Дома истории» (1986) в Бонне — музея, посвященного истории Германии после 1945 года (он будет открыт только в 1994 году).
Общественная атмосфера заметно меняется. Важным фактором оказывается приход поколения 1968 года «с улиц в парламент». В 1982–1983 годах в Бундестаг от Партии зеленых избирается Йошка Фишер, активный участник протестов 1968го (20 лет спустя Фишер станет министром иностранных дел объединенной Германии). В 1984 году, после 40-летней неопределенности, участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года («люди 20 июля») официально признаются национальными героями (такую оценку разделяют 60 % опрошенных), а не изменниками (12 %). Переломить отношение к попытке переворота мешал немецкий легализм — все-таки участники заговора формально выступали против государства.
В 1985 году президент Рихард фон Вайцзеккер в своей речи в Бундестаге назвал 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Всего 15 годами ранее Вилли Брандту не удалось сделать такую трактовку официальной. Нарратив поражения во Второй мировой окончательно сменяется нарративом освобождения. При этом именно окончание войны, а не основание Республики в 1949 году, немцы называют главным событием последних 40 лет.
Переводу разговора на новый уровень послужил так называемый «спор историков» (в действительности, скорее философов), развернувшийся в германской прессе в 1986 году. Одним из непосредственных толчков к нему стала пьеса Райнера Вернера Фассбиндера об антисемитизме и вызвавший скандал комментарий мэра Франкфурта о том, как «могущественны» евреи до сих пор. Философ и историк Эрнст Нольте, считавший фашизм реакцией на куда более агрессивный и потенциально опасный большевизм, предложил освободиться от бремени прошлого: Холокост не был уникальным и вневременным событием, а потому, вместо того чтобы зацикливаться на нем, следует покаяться и идти дальше. Философ Юрген Хабермас, напротив, считал, что уникальность и вневременность Холокоста должна быть постоянной точкой отсчета: это событие нельзя «нормализовать» и «оставить в прошлом». Спор, который Хабермас назвал «дискуссией о самосознании Федеративной Республики», был во многом переосмыслением в новых обстоятельствах вопросов, поставленных в 1940х и 1950х годах Карлом Ясперсом и Теодором Адорно. Результатом спора, в который оказались прямо или косвенно вовлечены не только ведущие немецкие интеллектуалы, но и многие политики, стал новый общественный консенсус в оценках прошлого.
Евгения Лёзина отмечает:
Когда в начале 1980х годов инициаторы программы «нормализации» попытались освободить западногерманское общество от «бремени» нацистского прошлого, они невольно вызвали серию публичных дебатов, резко изменивших представления элит и общества о периоде национал-социализма и оказавших долгосрочное влияние на политическую культуру ФРГ. Противостоя намерению консерваторов релятивизировать преступления нацизма и позволить нацистскому прошлому исчезнуть из публичного пространства, левые интеллектуалы настояли на необходимости сохранения критической памяти о Холокосте и других преступлениях нацистского режима. Позицию Юргена Хабермаса и его сторонников поддержало тогда не только большинство средств массовой информации и исторических институтов, но и многие представители различных политических партий. В конечном итоге к концу 1980х годов в ФРГ сформировался общественный консенсус относительно критической культуры памяти: память о нацистских преступлениях с тех пор воспринималась как постоянная политическая обязанность немцев практически всеми без исключения элитными группами[270].
Как пишет политолог Аня Мир:
На смену категории коллективной вины в публичной сфере постепенно приходит представление о коллективной памяти, моральной ответственности и общем (неискаженном) нарративе, которые предвосхитили и приблизили Коль и фон Вайцзеккер[271].
Падение Берлинской стены в 1989 году и объединение Германии в 1990 году не изменило направление, в котором развивалась культура памяти о наследии Третьего рейха, но усложнило «мемориальный пейзаж». Теперь к преодолению последствий 12 лет нацистской диктатуры прибавились усилия по преодолению последствий 40 лет диктатуры СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии).
На территориях советской оккупационной зоны, в 1949 году получивших название Германской Демократической Республики, власти (голос общества в ГДР был почти не слышен) создали нарратив о государстве-наследнике героического коммунистического антифашистского сопротивления. Травмирующая память о преступлениях нацистов была вытеснена и спроецирована на Западную Германию, которая воспринималась как «наследница» Третьего рейха. Социолог Райнер Лепсиус назвал это «экстернализацией» памяти о трудном прошлом[272]. В свою очередь в ФРГ эта память также была экстернализирована и перенесена на Гитлера и его ближайшее окружение.
Большую часть истории ГДР память о нацистском прошлом будет оставаться там не основанием для размышлений о вине или ответственности, а инструментом внутри- и внешнеполитических манипуляций. Не будучи в состоянии конкурировать с ФРГ в выплатах компенсаций Израилю в силу размера экономики, ГДР объявила, что не считает необходимым обсуждать репарации со странами, не являющимися ее союзниками (требования репараций со стороны Израиля власти ГДР игнорировали вплоть до 1990 года). При этом власти ГДР сталкивались с тем же недостатком образованных технократов, что и в ФРГ. Поэтому, в противоположность официальной риторике о том, что элиты ГДР сплошь состоят из бывших антифашистов, власти были вынуждены прибегать к услугам бывших членов НСДАП (в 1950 году среди сотрудников госведомств их было до 12 %).
ГДР необходимо было противопоставить нюрнбергским трибуналам свидетельства готовности судить бывших нацистов на своей территории. Результатом стали печально знаменитые судебные процессы 1950 года в городе Вальдхайм. Перед судом предстали по большей части заключенные советских лагерей, уже находившиеся под стражей с 1945 года. Суды велись в спешке (в некоторые дни выносилось по 100 приговоров) и были простой формальностью. Среди осужденных были молодые люди, бывшие членами «Гитлерюгенда» в 14-летнем возрасте и уже проведшие за это в заключении 5 лет, и женщина, заворачивавшая продукты в антисовесткую листовку (которую она даже не могла прочесть, так как не знала русского языка). К разным видам наказания были приговорены 3400 человек: 32 к смерти, 146 к пожизненному заключению, 2000 к заключению на 25 лет, остальным дали до 15 лет.
Восточноевропейским ноу-хау в деле экстернализации работы с нацистским прошлым стало превращение категории «фашизм» в пропагандистское клише, описывающее явления настоящего. Когда в июне 1953 года протесты рабочих в Восточном Берлине переросли в забастовки по вей стране и были подавлены с применением советских танков (погибло более 50 человек), это выступление официально было названо «фашистской вылазкой». Когда же в 1961 году власти ГДР вынуждены были перестать изображать демократию и возвели стену, отделив Западный Берлин от Восточного (за 10 лет страну покинули 3 млн человек, или 15 % населения), эта стена была названа «антифашистским оборонительным валом».
Разделение Германии на «злую» и «добрую», от которого так настойчиво отговаривал просвещенное человечество Томас Манн в своей речи в Библиотеке Конгресса, стало государственной идеологией Восточной Германии. Отождествление Западной Германии с фашизмом, а себя — с антифашизмом принимало подчас курьезные черты: у мемориала на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен, среди флагов 12 стран, пострадавших от нацизма, был и флаг ГДР.
Даже память о жертвах нацизма оказывалась в ГДР подчинена инструментальным целям. Средства для реставрации крупнейшей в Германии синагоги на Рикерштрассе, разгромленной во время «Хрустальной ночи» 1938 года, были найдены только в конце 1980х: холодная война закончилась, и восточногерманскому правительству нужно было срочно начать договариваться с международным сообществом, США и Израилем[273].
Падение Берлинской стены было в первую очередь результатом краха восточногерманской экономики и неспособности СССР поддерживать режим Эриха Хонеккера, и только затем — массового недовольства жителей ГДР и их протестами. Но то, что «мирная революция» с самого начала направлялась восточногерманскими диссидентами и правозащитниками, во многом определило акценты транзитного правосудия в первые годы после объединения.
Наиболее разрушительными и болезненными для общества преступлениями коммунистического режима, требовавшими безотлагательной проработки, были тотальная слежка со стороны Министерства государственной безопасности ГДР, или Штази (сокращение от Ministerium fr Staatssicherheit), и убийства мирных граждан, пытавшихся перейти германо-германскую границу. Именно вокруг этих тем в первую очередь группировались меры переходного правосудия после объединения Германии. Вопрос об ответственности руководства ГДР оказался на третьем плане.
Система массового доносительства, опиравшаяся на разветвленную сеть официальных и неофициальных сотрудников Штази, была основой репрессивного режима СЕПГ. Раздутый до невероятных пределов штат официальных и неофициальных агентов представлял собой специфическую черту восточногерманской диктатуры. По подсчетам исследователей, за период с 1950 по 1989 год общее число официальных сотрудников Штази достигало 274 тысяч, а неофициальных осведомителей — 624 тысячи. В последний год существования ГДР это соотношение составляло 91 тысячу к 189 тысячам человек. То есть в общей сложности в 1989 году на Штази работали 1,7 % населения страны, а досье были заведены на 6 млн человек, или более 37,5 % населения[274]. Это не могло не оставить следа в культуре: именно в форме дневника человека, знакомящегося со своим досье, британский историк Тимоти Гартон Эш написал книгу о восточногерманской диктатуре «Досье: личная история» (1997)[275], и именно сотрудник Штази, составляющий такие досье на своих подопечных, стал героем во многих отношениях знакового фильма Флориана Доннерсмарка «Жизнь других» (2006).
Неудивительно поэтому, что в декабре 1989го и январе 1990 года жители восточногерманских городов штурмовали не правительственные здания, а штаб-квартиры Штази, главное олицетворение диктатуры и хранилище архивов, а одним из самых популярных лозунгов мирной революции 1989–1990 годов был «Свободу моему досье!».
Одним из важных решений правительства объединенной Германии была передача архивов упраздненного Штази в ведение Ведомства по управлению документацией Штази. Оно получило известность под названием «Ведомства Гаука» — его возглавил Йоахим Гаук, лютеранский пастор и диссидент. Хотя очень многие и на западе, и на востоке настаивали во имя сохранения гражданского мира на необходимости уничтожения архивов Штази (за это, в частности, выступали канцлер ФРГ Гельмут Коль и его министр внутренних дел Вольфганг Шойбле), под давлением восточногерманской общественности был принят Закон о документации Штази. Он обеспечил неприкосновенность архивов, политическую независимость Ведомства Гаука, регламентировал доступ к личным досье. Закон давал возможность всем гражданам бывшей ГДР узнать, было ли заведено на них дело и, если да, ознакомиться со своим досье. Закон защищал права третьих лиц (их упоминания заклеивались или вычеркивались), оговаривал особые права доступа к файлам для исследователей и журналистов, а также предполагал особые правила публикации досье, касавшихся публичных лиц. Только за первые два года после принятия закона заявки на ознакомление со своими досье подали более 2 млн человек.
Документы Штази стали основанием для наиболее широкомасштабных мер переходного правосудия: проверок госслужащих на предмет сотрудничества с госбезопасностью. По Закону о документации Штази все служащие госучреждений бывшей ГДР должны были повторно подать заявление о приеме на работу, при этом ответив на вопрос о сотрудничестве со спецслужбами. Работодатель имел право запросить досье своего служащего и, если факт сотрудничества подтверждался, мог отказать в приеме на работу. Таким образом, решение оставлялось на усмотрение работодателя, и наиболее строго подходили к проверке кадров те организации, которые более всего дорожили репутацией и нуждались в публичной легитимации, — в первую очередь университеты, школы и суды. Закрытые и бюрократизированные учреждения оказывались затронуты в наименьшей степени. Обратной стороной стремления очистить репутацию стало то, что все ответственные посты в образовательных, в частности, учреждениях оказались фактически захвачены выходцами с Запада.
По данным на 2014 год, в Ведомство Гаука поступило более 1,5 млн запросов от работодателей, а уволено за сотрудничество со Штази было порядка 55 тысяч человек. При этом на 2000 год 12 % действующих офицеров полиции ФРГ (или 7300 человек) являлись бывшими сотрудниками или информаторами Штази, а в 2009 году административные должности в правительствах федеральных земель занимали 17 тысяч бывших сотрудников Штази.
Наиболее важной целью люстрационных процедур было возвращение доверия граждан к власти. Позднее Йоахим Гаук писал:
Мы краине нуждались в этом законе. Логически немыслимо, чтобы те, кто служил этому аппарату угнетения, по-прежнему продолжали бы занимать руководящие должности. Нам нужно убедить наш народ в том, что он теперь свободен, и сделать так, чтобы люди прониклись доверием к органам власти на всех уровнях[276].
В то же время суды над преступлениями коммунистической диктатуры свелись главным образом к процессам над пограничниками, стрелявшими в тех, кто пытался перейти германо-германскую границу. Число убитых при переходе границы с 1957 по 1989 год составило, по разным оценкам, от 500 до 1100 человек (в том числе 27 пограничников). (Поразительная деталь: с 1961 по 1989 год около 7000 восточногерманских пограничников предприняли попытки сбежать в ФРГ; 2500 из них это удалось, а 5500 получили тюремные сроки до 5 лет.) К тюремным срокам были приговорены 75 тысяч человек за попытку перехода границы, еще около 50 тысяч — за помощь в организации побега. С 1992 по 2004 год приговоры были вынесены 267 обвиняемым — в основном пограничникам и их непосредственным начальникам.
Руководства ГДР и ее репрессивного аппарата суды коснулись в более щадящем режиме. В ноябр 1992 года перед судом предстали генеральный секретарь СЕПГ Эрих Хонеккер, глава Штази Эрих Мильке, премьер-министр Вилли Штоф и члены Совета безопасности Хаинц Кесслер, Фриц Штрелец и Ганс Альбрехт. Хонеккер, Мильке и Штоф были освобождены из-под стражи по состоянию здоровья. Мильке был судим повторно и осужден на 6 лет тюрьмы, но не за похищения людей, пытки заключенных и массовые нарушения прав человека его ведомством, а за убийство двух полицейских, разгонявших демонстрацию коммунистов в 1931 году. Через два года он вышел на свободу и жил в Берлине, получая повышенную пенсию как жертва нацизма. Кесслер, Штрелец и Альбрехт получили от 4,5 до 7,5 лет.
В 1995–1997 годах прошли еще три процесса над 7 членами Политбюро СЕПГ и 15 генералами. В первом из них осуждены были четверо (они вышли на свободу досрочно, проведя в тюрьме от 1 года до 4 лет), генералы получили от 1 года условно до 6,5 года. Еще порядка 200 обвинений было вынесено в первой половине 1990х годов сотрудникам восточногерманской судебной системы.
В целом за годы после объединения Германии из почти 100 тысяч человек, в отношении которых предпринимались расследования, перед судом предстали 1400, а были осуждены 756 (или 0,7 %), причем в 92 % случаев они были приговорены к штрафам или условным срокам. С учетом того, в какой мере люстрации коснулись рядовых учителей, университетских преподавателей и судей, из которых в некоторых землях до 90 % вынуждены были оставить свои посты, это производило впечатление непропорционального применения правосудия. Недовольство правозащитников и бывших диссидентов хорошо резюмирует известная формула восточногерманской художницы и правозащитницы Бэрбел Болей:
Мы хотели справедливости, а получили верховенство права.
Задачу информировать людей о преступлениях коммунистического режима и объединить расколотое в годы диктатуры общество были призваны решить две правительственные комиссии, работавшие в 1992–1994 и 1995–1998 годах. В отличие от традиционных комиссий правды и примирения, их задача сводилась к сбору и анализу материала и рекомендациям правительству. Результатом первой комиссии стала публикация 18-томного отчета, результатом второй — создание Фонда осмысления диктатуры СЕПГ и ее последствий[277]. Рекомендации комиссий касались учреждения праздников и мемориальных дат, музеев, выплат компенсаций жертвам коммунистических репрессий, публикации материалов о них и разработки образовательных программ.
Объединение обществ, несколько десятков лет развивавшихся раздельно, не могло не принести трудностей и разочарований. Высокие ожидания жителей бывшей ГДР в плане демократии и благополучия довольно быстро оказались заметно подкорректированы реальностью. Если в 1990 году удовлетворенность демократией высказывали 77 % немцев, то в 1993м — всего 47 %, причем недовольных было больше именно на востоке страны. Сохранявшийся внутренний раскол отразился и на политике работы с прошлым: преодоление нацистского прошлого было оставлено бывшим «западникам», а преодоление коммунистического — бывшим «восточникам».
Со временем, впрочем, этот раскол сокращается. Романы и фильмы, посвященные «второй диктатуре», с начала 2000х способствуют созданию общей памяти о прошлом. На это же работают многочисленные музеи и мемориалы — среди них Музей Штази в бывшей штаб-квартире ведомства в берлинском районе Лихтенберг, Музей Берлинской стены в бывшем КПП «Чекпойнт Чарли», экспозиция в другом бывшем КПП, «Дворце слез» на Фридрихштрассе, и многие другие. А темы ответственности власти перед гражданами, доверия общества к власти и вовлеченности граждан в борьбу за свои права, которые олицетворяла деятельность Ведомства Гаука, оказались настолько важными и востребованными, что в 2012 году Йоахим Гаук был избран на пост федерального президента Германии. Спустя 22 года после объединения страны ему доверяли 80 % немцев.
Яркий пример многослойности германской мемориальной культуры, — общественные дискуссии вокруг даты празднования объединения Германии. Днем открытия границы между двумя частями Берлина (символическое «падение Берлинской стены») было 9 ноября 1989 года. Однако эта дата, получившая название «судьбоносного дня» (Schicksalstag), несла на себе негативную символическую нагрузку: 9 ноября 1938 года осталось в истории как дата «Хрустальной ночи», знаменовавшей начало Холокоста; в этот день в 1923 году случился «Пивной путч», первая предпринятая Гитлером попытка переворота, в 1918 году был свергнут кайзер Вильгельм II, а в 1848м казнен лидер Революции 1848–1849 годов Роберт Блюм. Было принято компромиссное решение: официальным праздником объединения Германии стало 3 октября, когда был подписан договор об объединении, а 9 ноября объявили общенациональным днем памяти, покрывающим и события 1938 и 1989 годов. Праздничные мероприятия в этот день ограничиваются местами, соседствующими с остатками Стены.
Страна, несущая на себе сложное наследие двух диктатур, тем не менее начинает выработку общего нарратива о прошлом. Его складыванию вновь помогает американский кинематограф: вышедший в 1993 году фильм Спилберга «Список Шиндлера», в отличие от «Холокоста» 1979 года, смотрят жители и Востока, и Запада Германии.
Новым шагом критического осмысления истории Второй мировой в единой Германии стала выставка «Война на уничтожение: преступления вермахта в 1941–1945 годах», открывшаяся в Гамбурге в 1995 году и объехавшая 33 города Германии и Австрии. Выставка, подготовленная Гамбургским институтом социальных исследований, представляла фотографии из частных альбомов, на которых немецкие военные участвовали в расправах над мирными жителями. Резонанс, вызванный выставкой, был связан с тем, что она нарушала негласное табу на обсуждение роли в войне военных, в отличие от СС и айнзацгрупп, разрушала миф о «чистом вермахте» и четкое разделение на «преступников» и «честных солдат, исполнявших свой долг». Граница между хорошими и злыми, между немцами и нацистами снова оказывалась под вопросом.
Выставка вызвала резкие протесты во многих городах Германии и Австрии, ожесточенные дискуссии в СМИ. Когда выяснилось, что на некоторых фотографиях вместо солдат вермахта в действительности изображены солдаты НКВД, выставка была закрыта на реконструкцию и снова открылась в 2001–2004 годах. И хотя многие представители старшего поколения отвергли ее посыл, молодежь приняла его и осмыслила как «нашу вину»[278].
Именно в 1990е годы память о Холокосте начинает все заметнее выдвигаться на первый план. В декабре 1992 года в ознаменование 50-летней годовщины указа Гиммлера о депортации евреев в концлагеря художник Гюнтер Демниг вмонтировал в мостовую перед Кельнской ратушей первый «камень преткновения» (Stolperstein). Облицованный латунью бетонный куб, торчащий из мостовой, призван заставить пешехода «споткнуться» (stolpern) и вспомнить о жертвах нацизма. Вскоре мемориальные «камни преткновения» распространяются по всей Германии и за ее пределами — в 2015 году их было уже 50 тысяч. Именно «камни преткновения» послужили источником вдохновения для создателей российского проекта «Последний адрес», посвященного жертвам ГУЛАГа.
В 1996 году президент Германии Роман Херцог объявляет 27 января, день освобождения концлагеря Аушвиц в 1945 году, общенациональным днем памяти. В середине 1990х в германском обществе начинается дискуссия об общенациональном мемориале жертвам Холокоста. В 2001 году начинается строительство мемориала по проекту архитектора Питера Айзенмана; он открывается в 2005 году. В 2001 году в Берлине начинает работу крупнейший в Европе (и один из наиболее посещаемых в Германии) Еврейский музей.
Одна из наиболее авторитетных исследователей германской мемориальной культуры Алейда Ассман так описывает особенность сложившейся в Германии модели работыс прошлым:
Германский пример предпочтения «негативной памяти» через интернализацию вины за исторические преступления и принятие ответственности за прежний политический режим в качестве национальной политики не только отличен (от моделей объединения, строящихся на героической или жертвенной памяти. — Н. Э.), он исторически уникален. Многие политические аналитики отнеслись к этому примеру со скептицизмом, назвали его мазохистским и уверяли, что это невозможно. Другие же превозносили «германскую модель», знаменующую важный поворот в оценке и конструировании прошлого. До сих пор конструирование национальной памяти оставалось монологичным, держалось на восхвалении и возвеличивании себя; сегодня мы имеем перед глазами новую модель, которая может сделать это конструирование более диалогичным и самокритичным. Об этом повороте от монологичной к более диалогичной памяти свидетельствует длинный список глав государств, которые после 1990 года публично принесли извинения жертвам рабства, колониализма и государственного террора диктатур за преступления против человечности, совершенные в прошлом их странами[279].
Каждое поколение нуждается в новом языке разговора о прошлом. Современная Германия с начала 2000х трансформировалась в общество в значительной степени иммигрантсткое: она больше не абсорбирует иммигрантов, превращая их в немцев, разделяющих их мифы, воспоминания, символы и традиции. Сегодня интеграция предполагает сохранение собственных идентичностей, а тем самым немецкая мемориальная культура оказывается перед необходимостью становиться более инклюзивной, более адаптируемой к опыту иммигрантов. И здесь память о Холокосте и Второй мировой оказывается основанием для выработки ответов на новые вызовы времени.
Отстаивая политику приема мигрантов во время кризиса беженцев 2015 года, власти Германии апеллировали именно к памяти о Второй мировой войне, когда 12 млн немцев оказались беженцами. В то же время происходящее сегодня в Германии подтверждает, что говорить об успехе в преодолении трудного прошлого невозможно: это всегда процесс, требующий постоянного усилия. Учащающиеся с 2017 года сообщения о проявлениях исламского антисемитизма со стороны мигрантов, для которых вражда с Израилем лишена ассоциаций с Холокостом, активно используются правыми и националистическими силами в самой Германии для эскалации ксенофобских настроений по отношению к мигрантам. Из зафиксированных в 2017 году в Германии 1500 преступлений антисемитской направленности 90 % совершены представителями праворадикальных и неонацистских объединений.
В последние годы исследователи коллективной памяти много пишут об универсализации памяти о Холокосте, превращающей ее в язык обсуждения и реагирования на нарушения прав человека во всем мире. Это блестяще иллюстрирует личный пример отца Манфреда Дезелерса, многие годы бывшего единственным немцем среди сотрудников Музея Аушвиц-Биркенау в польском городке Освенцим. Его судьба по-человечески уникальна и в то же время очень характерна для представителя немецкого поколения 1968 года.
В середине 1970х 19-летний Манфред Дезелерс поступил на факультет права Боннского университета, но меньше чем через год оставил учебу, чтобы уехать в Израиль волонтером «Акции искупления». Полтора года Манфред живет в Иерусалиме, работая в центре помощи детям-инвалидам. После возвращения в Германию он в 1976–1981 годах изучает богословие в Тюбингене и Чикаго. В 1983 году он становится священником и членом правления Общества сотрудничества христиан и иудеев.
После падения Берлинской стены в 1989 году отец Манфред едет в Польшу как в страну, наиболее пострадавшую от нацизма, и с 1992 года становится сотрудником и духовником католического Центра диалога и молитвы в Освенциме. В 1996 году в качестве богословской диссертации он защищает двухтомную работу о Рудольфе Хёссе, коменданте Аушвица[280]. Первый том — лучшая на сегодня биография Хёсса, второй — богословское осмысление проблемы зла, проделанное на материале этой биографии (основой этого осмысления становится этика Эманнуэля Левинаса). Отец Манфред — единственный немец, вот уже почти 30 лет живущий в Освенциме. За эти годы он стал квалифицированным гидом музея Аушвиц-Биркенау и преподавателем Школы исследований Холокоста при мемориале Яд-Вашем. Он посвятил свою жизнь разработке языка, на котором можно осмыслять зло нацизма и свидетельствовать о нем — большую часть времени он общается со школьниками и студентами, которые приезжают в Центр диалога и в Музей на экскурсии. (Манфред Дезелерс — не единственный немец, ставший священником под влиянием идей искупления зла, принесенного нацизмом. Так же поступил Мартин Адольф Борман (1930–2013), старший сын ближайшего сподвижника Гитлера и крестник последнего. В 17 лет, узнав о преступлениях отца, он принял католичество, в 28 стал священником и отправился миссионером в Конго, где провел несколько лет с риском для жизни. В 1970х он сложил с себя сан, женился и посвятил последние годы жизни изучению богословия и поездкам с лекциями об ужасах нацизма по школам Германии, Австрии и Израиля.)
В последние годы отец Манфред активно участвует в акциях, семинарах и конференциях в разных странах, где делится опытом диалога о преодолении наследия нацизма. А в Центр диалога и молитвы в Освенциме все чаще приезжают люди, озабоченные преодолением трудного прошлого в своих странах — от Франции до Японии. И для него все очевиднее, что этот опыт преодоления подлежит распространению за пределы Германии и за пределы собственно памяти о германском опыте. В последние годы отец Манфред часто приезжает в Россию, участвуя в дискуссиях, посвященных ГУЛАГу, «советскому Холокосту». Осенью 2017 года отец Манфред вместе с группой польских паломников посетил Бутовский полигон, одно из главных московских мест памяти о жертвах ГУЛАГа.
6
ЯПОНИЯ
или
балансирующая память
В детстве я отчетливо понимал, что Япония ведет глупую войну. Я слышал, как люди с гордостью говорили об ужасных вещах, которые японские военные творили в Китае. В то же время я слышал, как японцы страдали от авианалетов. Я много чего наслушался, и после этого стал по-настоящему ненавидеть Японию, считая, что родился в стране, которая наделала много глупостей.
Поскольку мы врали до сих пор, нам приходится продолжать врать. Те, кто хочет сохранить чувство преемственности, могут хотеть говорить, что довоенная Япония ни в чем не виновата, но она виновата. И мы должны это признать. История про женщин для утешения — это история про национальную гордость, и Япония должна извиниться и заплатить компенсации[281].
Это слова Хаяо Миядзаки, знаменитого японского мультипликатора, основателя студии «Гибли» и создателя всеми любимых историй про Тоторо и Навсикаю. Всю свою жизнь Миядзаки снимал сказочные истории для детей, проникнутые пацифизмом, но не касавшиеся напрямую истории и политики. Но сам Миядзаки не скрывал своей гражданской позиции. В 2003 году в знак протеста против вторжения США в Ирак он отказался от поездки на церемонию вручения Оскара за фильм «Унесенные призраками».
Однако в 2013 году Миядзаки выпускает фильм «Ветер крепчает», романтизированную историю авиаконструктора Дзиро Хорикоси, разработавшего легендарный истребитель «Зеро», гордость японской военной промышленности и самый знаменитый самолет Второй мировой войны. Герой фильма — щуплый очкарик-мечтатель, влюбленный в небо, но не могущий стать пилотом, а потому решающий стать авиаконструктором. Его роман с небом развивается параллельно роману с будущей женой (художницей) и проникнут таким же трагизмом: юные Дзиро и Наоко решают пожениться, когда становится понятно, что девушка смертельно больна; свою страсть к небу и красоте в условиях надвигающейся войны Дзиро может реализовать, только созавая истребитель — орудие убийства[282].
Сначала фильм вызвал негодование японских либералов и пацифистов, увидевших в нем воспевание милитаризма. Стремясь исключить недоразумения, студия «Гибли» посвятила теме ответственности за Вторую мировую войну целый номер выпускаемого ею журнала, который включал обширные интервью с Миядзаки, его коллегами Исао Такахатой и главой студии Тосио Судзуки[283]. Высказывания сотрудников «Гибли», подобные приведенному во вступлении к этой главе, вызвали негодование теперь уже националистов и консерваторов, обвинивших их в непатриотической позиции.
В спорах вокруг фильма «Ветер крепчает» отразилось не просто столкновение патриотов, милитаристов и ревизионистов с настаивающими на покаянии пацифистами. Миядзаки делает главным героем своего фильма не прекраснодушного мечтателя, а создателя «Зеро». И сколько бы он устами своего персонажа ни утверждал, что работа на военных — просто-напросто единственная возможность воплотить мечту («Мы не торговцы оружием, мы просто хотим делать красивые самолеты!»), воплощением мечты становится машина, уничтожившая Перл-Харбор. Куда более честным Миядзаки оказывается, когда в интервью главной либеральной газете Японии «Асахи симбун» говорит, что его задачей было стремление не дать милитаристам «присвоить» авиаконструктора Хорикоси:
Большинство фанатичных поклонников «Зеро» в сегодняшней Японии страдают серьезным комплексом неполноценности, который заставляет их компенсировать недостаток самоуважения фиксацией на чем-то, чем они могли бы гордиться. Последнее, чего бы я хотел, — чтобы эти люди использовали «Зеро» и выдающийся гений Хорикоси в качестве отдушины для реализации своего патриотизма и комплекса неполноценности. Надеюсь, что, сняв этот фильм, я отстоял Хорикоси у этих людей[284].
Для обеих сторон, Миядзаки и его оппонентов, ключевым в споре оказывается поиск оснований для гордости. Это спор не о том, хорош или плох истребитель «Зеро» в качестве составляющей национальной идентичности, а о том, героем какого сюжета он станет — истории военной мощи или романтической сказки.
Жаркие дискуссии, спровоцированные мультфильмом Миядзаки, показывают, насколько живой остается для Японии тема памяти о Второй мировой войне и ответственности за совершенные тогда преступления даже 70 лет спустя. Популярное представление о Японии как о стране, настойчиво избегающей ответственности, регулярно извиняющейся и столь же регулярно дезавуирующей свои извинения ритуальным почитанием военных преступников, — как минимум упрощенное, а то и неверное. (Очень показательно, что страну, которая принесла более пяти десятков формальных извинений за преступления Второй мировой, не раз называли «Японией, которая не умеет просить прощения».)[285] Особенность японской модели памяти — в уникальном соединении виновности и заплаченной за эту вину цены, которое делает разговор об ответственности крайне сложным.
Поражение Японии во Второй мировой войне положило конец целой эпохе развития Японии как претендента на лидерство в Восточной Азии. Эта эпоха началась с реставрации императорской системы после гражданской войны 1860х годов. Победы в Японо-китайской (1894–1895) и русско-японской (1904–1905) войнах обеспечили Японии господство на Японском и Желтом морях, позволив присоединить Тайвань (1895), Южный Сахалин (1905) и Корею (1910).
В 1914 году Япония принимает участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, расширив свое политическое влияние (становится в 1919 году одним из четырех постоянных членов Лиги Наций) и территорию за счет тихоокеанских территорий, управлявшихся прежде Германией. В 1931 году Япония занимает Маньчжурию, создавая там марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1933 году, одновременно с гитлеровской Германией, Япония выходит из Лиги Наций, в 1936м подписывает Антикоминтерновский пакт с нацистской Германией, а в 1940м — «Тройственный пакт» с Германией и Италией.
В 1937 году Япония вторгается в другие части Китая, начиная вторую Японо-китайскую войну (1937–1945). Чтобы обеспечить своему флоту свободу действий в Юго-Восточной Азии, 7 декабря 1941 года Япония предприняла налет на американскую военную базу Перл-Харбор. Нейтрализовав американский тихоокеанский флот, Япония начинает вторжение в Таиланд, британские Гонконг и Малайю (современную Малайзию), американские Филиппины. С этого момента конфликт с Китаем перерастает в составляющую часть Второй мировой войны.
Разница подхода к этой части истории фиксируется даже на уровне словоупотребления. Японские либералы предпочитают говорить о Тихоокеанской войне, тогда как консерваторы и националисты — о Великой восточно-азиатской войне, призванной освободить Азию от большевизма и господства белых.
По подсчетам политолога из Гавайского университета Рудольфа Руммеля, за 1937–1945 годы японский военный режим уничтожил около 6 млн человек — жителей Китая, Индонезии, Кореи, Филиппин, Индокитая и западных военнопленных[286]. К наиболее кровавым страницам этой войны относятся эпизоды, оставшиеся в истории как Нанкинская резня и резня в Маниле. В первом случае речь идет об уничтожении Императорской армией Японии, по разным оценкам, от 40 до 300 тысяч человек гражданского населения и разоруженных солдат после захвата столицы Китайской республики Нанкина в декабре 1937 года. Во втором — об уничтожении 100 тысяч жителей столицы Филиппин Манилы в феврале — марте 1945 года.
После капитуляции Германии Япония заявляла о готовности воевать до конца, предпочитая сдаче смерть. Японская пресса писала:
Единственный оставшийся путь для ста миллионов японцев — пожертвовать своими жизнями в борьбе с врагом и сделать все, чтобы подорвать его боевой дух.
Даже атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вооруженными силами США и объявление Советским Союзом войны Японии не стали ключевым фактором, заставившим Японию капитулировать[287]. Им стала договоренность с властями США о сохранении власти императора как инструмента проведения оккупационной политики.
15 августа 1945 года император Хирохито обратился к нации с речью, содержание которой было далеко от раскаяния или признания ответственности:
Мы объявили войну Америке и Британии из искреннего желания обеспечить защиту Японии и стабилизацию в Юго-Восточной Азии. Мы были далеки даже от мысли о нарушении суверенитета других государств или о территориальных захватах. Но сейчас война длится уже четыре года. Несмотря на все усилия, приложенные каждым гражданином нашего отечества, и самоотверженность всего стомиллионного народа, никто не может гарантировать победы Японии в этой войне. Более того, общие тенденции современного мира обернулись не в нашу пользу.
Кроме того, противник начал использование нового оружия небывалой мощности. Эта смертоносная бомба причинила непоправимый ущерб нашей земле и унесла тысячи невинных жизней. Если мы продолжим борьбу, это приведет не только к полному уничтожению японской нации, но и даст старт искоренению всего человечества.
В сложившейся ситуации мы обязаны спасти миллионы сограждан и оправдать себя перед святыми духами наших предков. Именно по этой причине мы отдали приказ о принятии всех положений совместной Декларации.
Мы выражаем свое сожаление всем союзным государствам, которые сотрудничали с японской империей во время освобождения Восточной зии. Мысль о солдатах и офицерах, павших на полях сражений и на боевом посту, о безвременно ушедших от нас и их осиротевших семьях наполняет болью наши сердца день и ночь[288].
Но США и не ставили целью добиться от побежденной стороны признания вины. Возможно, причиной тому был разработанный американским антропологом Рут Бенедикт и ставший известным благодаря книге «Хризантема и меч»[289] взгляд на Японию как «культуру стыда» в противоположность западной «культуре вины». Исследования Бенедикт проводились по заказу американских властей, ее рекомендации сохранить императорское правление были приняты во внимание президентом Рузвельтом.
Разработанная США при непосредственном участии генерала Макартура «формула примирения» состояла из трех частей. Первой был выпуск 1 января 1946 года так называемой Декларации о человеческой природе (Ningen-sengen), которая была воспринята Западом как отказ императора от божественного достоинства. На деле речь шла скорее о признании демократических оснований императорской власти, непосредственным же эффектом заявления было лишение синтоизма статуса государственной религии[290]. Второй частью «формулы согласия» было принятие новой конституции, согласно 9й статье которой страна отказывалась от создания вооруженных сил и от войн как средства решения международных споров (вступила в силу в мае 1947 года). Третьей — возложение ответственности за военную агрессию на руководство страны за исключением императора, на трибунале, аналогичном Нюрнбергскому.
Высшее военное и гражданское руководство Японской империи (за исключением императора) предстало перед судом в рамках Токийского процесса. Официально он именовался Международным военным трибуналом для Дальнего Востока и проходил с мая 1946го по ноябрь 1948 года. По словам одного из подсудимых, с которым склонны были согласиться и большинство юристов, токийский процесс был «не реализацией правосудия, а продолжением воины». При этом император не только не оказался на скамье подсудимых, он даже не выступал свидетелем; исключены были любые его упоминания. (Отвечая на вопросы обвинителя, один из подсудимых, генерал Тодзио, сказал, что «ни один японский подданный не мог бы действовать против воли императора». Это заявление явно угрожало стратегии «вненаходимости» императора, и на следующем слушании Тодзио поправился: «император, пусть и неохотно, согласился с рекомендацией Верховного командования начать войну».) Если военные вермахта часто и охотно перекладывали вину на Гитлера, то японские военные и чиновники предпочитали оправдывать императора, принимая всю вину на себя.
Помимо императора, среди подсудимых не было разработчиков биологического оружия во главе с Сиро Исии, «японским доктором Менгеле». Жертвами бесчеловечных экспериментов Отряда 731, который он возглавлял, стали, по разным данным, от 3 до 10 тысяч человек (в основном китайцы и русские). Исии и другим участникам программы был предоставлен иммунитет в обмен на данные об их исследованиях. Впоследствии многие члены Отряда 731 работали врачами в Японии и США. Двенадцать участников программы были осуждены в СССР на Хабаровском процессе в 1949 году, но получили небольшие сроки и скоро вернулись на родину.
«Обратный курс» проявился и в том, что главные японские военные преступники (кроме казненных по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока и умерших в заключении) были к 1956 году выпущены из тюрем. Некоторые из них, как бывший министр иностранных дел Сигэмицу Мамору, даже сделали политическую карьеру в послевоенной Японии.
Главной задачей Токийского процесса, кроме собственно обвинения военных преступников, была фиксация генерального нарратива о Тихоокеанской войне. Он гласил, что виновен в войне «японский милитаризм» в лице высшего военного и гражданского руководства страны, с граждан же ответственность полностью снималась. Слабой частью этой конструкции оказывался вопрос об ответственности лично императора Хирохито. Эта тема на долгие годы стала запретной для японского общества. Блокировка обсуждения этой темы в обществе оказалась решением, устраивающим не только японские и американские власти, но большую часть японского общества, замечает писатель и журналист Иэн Бурума в книге, посвященной сравнению работы с прошлым в Германии и Японии:
Институт императорской власти до конца войны использовался для подавления свободы слова и разговора о политической ответственности в принципе. Без обсуждения роли императора в войне невозможно было изобличить «систему безответственностей», а значит, так или иначе она продолжала свое существование. <…> Пока император, формально ответственный за все, был жив, японцам трудно было быть честными перед собой в отношении прошлого. Сняв ответственность с императора, каждый мог считать лично для себя вопрос закрытым[291].
По-своему виртуозная схема, позволившая Японии обезопасить себя от темы ответственности за войну, имела оборотную сторону. В отличие от Германии, где за Нюрнбергом, пусть и не сразу, но все же последовали судебные процессы, инициированные властями под давлением общества, в Японии таких процессов никогда не было. Дело в том, что японская военная агрессия не отличалась от «обычных» военных преступлений в такой степени, как Холокост. Вдобавок японцы считали себя достаточно наказанными ядерными бомбардировками и международными трибуналами. Но главной причиной, делающей невозможным самостоятельное осуждение собственных преступлений и преступников, была мастерски разработанная Макартуром и его советниками схема ненавязчивого отъема у Японии ее суверенитета. Самостоятельный расчет с прошлым невозможен при отсутствии самостоятельности.
Отказ от прошлого и увлеченное принятие оккупации во всех ее формах, от романов с американскими солдатами и общенационального обожания генерала Макартура до рыночной экономики и права на неприкосновенность частной жизни, Джон Довер, автор одной из лучших книг о послевоенной Японии, удачно назвал «броском в объятия поражению»[292]. Период американской оккупации был, по сути, военной диктатурой, но диктатурой, эффективно разрушившей жестко авторитарные институты японского общества и насильно одарившей правами и свободами сто миллионов японцев. Еще недавно они были готовы покончить с собой по приказу императора, а теперь рады строить новое общество на основе ценностей «мира и демократии» (эта связка быстро стала идеологическим штампом).
В 1947–1948 годах на фоне усиления позиций коммунистов в Китае и обострения противостояния с СССР в Корее США начинают пересматривать отношение к Японии. Прежде, с точки зрения американцев, это было вражеское государство, заслуживавшее наказания. Теперь же Япония стала для Вашингтона важным военно-политическим союзником (послевоенный премьер Сигэру Ёсида назвал Корейскую войну «даром богов»). Последовательное сворачивание мер демилитаризации Японии (создаются сначала Национальные силы безопасности, а потом Национальные силы обороны) и запрет на ритуалы в память о военных, погибших в 1948–1952 годах, получили название политики «обратного курса». Она завершилась подписанием в 1952 году Сан-Францискского мирного соглашения. Оно превращало Японию из оккупированного государства в младшего союзника США. Негласный договор между ними предполагал помощь в развитии экономики в обмен на отказ от политических амбиций. Японии предоставлялось право стать экономической силой, но не политической.
Япония, заперая в двустороннем и подчиненном альянсе с США, десятилетиями не могла рассчитывать на сближение с азиатскими соседями, которое напоминало бы то, что смогла сделать Германия в составе Европейского союза. Более того, отказ от попыток завоевать политическое лидерство в Азии был ценой, которую Япония сознательно платила за поражение в войне. Много десятилетий многие в Японии и в Азии видели в этом молчаливый способ признания японской ответственности за военную агрессию, развязанную как раз для реализации японского представления об интеграции Восточной Азии[293].
Развитием Сан-Францискского соглашения стал Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 года, оговаривавший большую самостоятельность Японии (в частности, запрещалось военное вмешательство США в ее внутренние дела). Но это все же была «подчиненная независимость», о чем свидетельствовали самые масштабные в японской истории гражданские протесты. Открытие Японии навстречу Западу в сочетании с экономическими реформами и помощью США запускают процессы, делающие возможным «японское экономическое чудо». В 1960х и 1970х годах Япония не только полностью восстанавливается после поражения в войне, но и последовательно обходит по размеру ВВП Францию, Италию, Канаду, Великобританию, ФРГ и СССР, уступая лишь США. Статус второй экономики мира Япония удерживает с 1968 по 2011 год.
Восстановление экономики способствует нормализации отношений с соседями. По соглашению 1952 года Япония к середине 1970х выплатила Филиппинам, Индонезии, Бирме и Вьетнаму репарации в размере 1 млрд долларов США. Аналогичное соглашение с Кореей было заключено в 1965 году, по его условиям Япония к 1975 году выплатила 800 млн долларов «экономической помощи». Договор о сотрудничестве с Китаем был подписан только в 1972 году. В его рамках Китай отказался от требований репараций с Японии (тем не менее в 1980х Япония оказывала Китаю помощь в виде низкопроцентных займов более чем на 3 млрд долларов).
Стремясь эмансипироваться от США, в 1970е годы Япония активизирует отношения с азиатскими соседями. Однако в отличие от стран, пострадавших от Германии и готовых требовать извинений и компенсаций, с жертвами японской агрессии дело обстояло совершенно иначе. В Китае и Корее до второй половины 1980х существовали авторитарные режимы, делавшие акценты только на триумфах и победах. Взгляд на историю с точки зрения жертв был под запретом. В результате тема ответственности Японии за военные преступления оказалась «закупорена» с обеих сторон.
Будучи заблокирована на внешнеполитическом уровне, тема ответственности присутствует в эти годы в Японии как внутриполитический фактор. Левая оппозиция традиционно критиковала правительство консерваторов за отказ от разговора об ответственности, правые в ответ обвиняли левых в низкопоклонстве перед Западом и недостатке патриотизма. Не касаясь признания вины перед конкретными жертвами, эта дискуссия оставалась по большей части риторическим упражнением.
Демократизация на фоне экономического роста делает прорывы памяти все более частыми, и постепенно они готовят смену перспективы. Среди таких прорывов — публикация в 1971 году серии репортажей о Нанкинской резне японского журналиста Кацуити Хонды под названием «Путешествия в Китай», книга «Нанкинский инцидент» (1972) историка Томио Хоры, серия исков историка Сабуро Иенаги к японскому правительству по поводу цензурирования написанного им учебника истории. Первый иск был подан в 1965 году, последний — в 1986м, в 1993 году цензурирование учебника было признано незаконным, а Иенаге выплатили компенсацию.
Перипетии истории японской памяти трудно понять, не отдавая себе отчета в том, что представляет собой феномен святилища Ясукуни. Эта святая святых японской идентичности уникальна тем, что и сам храм, и существующий вокруг него культ — явления довольно новые. Святилище Ясукуни моложе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и последней версии американского Капитолия, оно всего на 20 лет старше Эйфелевой башни, символа радикального модерна. Религия, храмом которой стало святилище Ясукуни, — столь же поздний политико-идеологический конструкт. Государственный синтоизм, сформированный после реставрации Мейдзи в 1868 году, стал сознательным инструментом модерного процесса нациестроительства. Герои, чьему почитанию посвящен храм, — военные, которым император Муцухито был обязан победой над кланом Токугава. Японовед Владимир Гринюк пишет:
Позднее «открытие» Японии поставило перед властвующей элитой страны задачу приобщения к современной западной цивилизации при сохранении национальной идентичности. При этом японские правящие круги исходили из того, что страна может сохранить свою независимость и обеспечить для себя достойное место на международной арене только в том случае, если будет проводить империалистическую политику. Напор молодого японского империализма создал спрос на националистическую идеологию[294].
Элементами нового извода синтоизма стали представления об исключительности японского народа, происходящего от божественных предков, о божественности императора как его главы, о священном единстве нации и императора. Идеология японской исключительности (кокусай) предполагала, что и для других народов японское управление будет благом. Поэтому отречение императора от божественного достоинства нужно было американцам для разрушения системы государственного синтоизма. Этой же цели служило придание синтоистским святилищам после Декларации 1946 года статуса частных структур.
В условиях невозможности напрямую вернуть синтоизму статус государственной религии националистические силы начинают бороться за возвращение церемониалу в Ясукуни официального статуса. В 1960 году в парламент была передана соответствующая петиция, под которой стояли подписи почти трех миллионов человек. С середины 1960х японские политики и военные все активнее участвуют в церемонии «в качестве частных лиц». Педалирование темы вызывает реакцию демократически настроенной общественности. Попытки Либерально-демократической партии протащить законопроект о придании храму «особого юридического лица» в 1969 году вызывает волну протестов по всей стране, а петиция с протестом против законопроекта собирает почти 4 млн подписей.
В 1970е годы японские националистические силы добиваются включения военных преступников, казненных по приговорам международных трибуналов, в число почитаемых в храме героев. С середины 1970х визиты высокопоставленных политиков в Ясукуни становятся фактором политики, для одних означая борьбу за сохранение японской идентичности, для других — отторжение ценностей демократии. Традиционным ответом участников церемонии на упреки в этом было то, что в храме Ясукуни они молятся о мире. Все официальные описания святилища подчеркивают, что оно посвящено миру и служит примирению нации. Бурума замечает:
Это очень специфическое понимание мира. На цветущих вишневых деревьях перед храмом повязаны белые ленточки с названиями подразделений Имперской армии и известных сражений. Позади храма — каменный монумент в форме земного шара, посвященный памяти сотрудников Кэмпэйтая, японского эквивалента СС. Рядом — длинная бетонная плита с отверстиями, в которых находятся разноцветные камни с мест сражений в заливе Лейте, битв за Гуадалканал, Гуам и атолл Уэйк[295].
Но разговор об этом специфически японском понимании мира невозможен без упоминания Хиросимы как уникального мемориального феномена.
По мере внутреннего отстраивания от США в 1960–1970х в Японии формировалась очень специфическое отношениек прошедшей войне и к роли в ней Америки. Идеология «мира и демократии» все отчетливее превращалась в риторический прием, при помощи которого осуждение войны работает в первую очередь на осуждение США и поддержание самоидентификации в качестве жертв агрессии. Главным инструментом и символом этого нарратива стала Хиросима.
Сам выбор Хиросимы в качестве главной военной жертвы был сознательным политическим шагом, лишний раз напоминающим о том, в какой степени память — это конструкт, а не «объективная правда о прошлом». Самой разрушительной и смертоносной бомбардировкой Японии были не бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а так называемая «Операция „Дом молитв“», — налет на Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, унесший жизни порядка 100 тысяч человек и разрушивший территорию в 42 квадратных километра. Из двух объектов ядерных бомбардировок символом трагедии стала именно Хиросима не только изза большего числа жертв и объема разрушений (в отличие от расположенного в холмистой местности Нагасаки, город стоит на равнине), но и потому, что в Нагасаки разрушенными оказались большей частью военные объекты.
Сконструированность памяти о Хиросиме дает о себе знать не только в выборе города, но и в настойчивом умолчании о его роли во Второй мировой войне и о жертвах из числа неяпонцев. В 1952 году рядом с Музеем мира в Хиросиме был установлен кенотаф с надписью по-японски: «Покойтесь с миром, ибо ошибка не будет повторена». Английская надпись звучит более определенно: «Да упокоятся все души с миром, ибо мы не повторим зла». В 1983 году появилось уточнение на двух языках о том, что «мы» подразумевает «все человечество». Жертвами бомбардировки Хиросимы стали от 20 до 40 тысяч корейцев, многие из них были задействованы на принудительных работах. Однако мемориал корейским жертвам, установленный корейской диаспорой в 1970 году, городские власти на территории парка разместить не разрешили. Он был перенесен туда только в 1999 году после долгих дискуссий.
В начале 1960х годов, когда благодаря суду над Адольфом Эйхманом тема Холокоста начинает приобретать международный резонанс, в Японии заговаривают о параллелях между Хиросимой и Холокостом. В 1962 году четверо японцев, в том числе буддийский монах и ветеран Имперской японской армии организуют «Марш мира Хиросима — Аушвиц», главная цель которого — «соединить память о жертвах и местах трагедии Второй мировой войны». За 10 месяцев участники марша проходят 3000 километров, и 27 января 1963 года, в годовщину освобождения лагеря, торжественно вступают на территорию музея Аушвиц, где польские политики вручили им прах жертв для захоронения на территории хиросимского музея. В условиях обострения холодной войны (только что отгремел Карибский кризис) городские власти, однако, не захотели принимать такой дар от коммунистической страны, и прах был захоронен рядом с одним из буддийских святилищ.
Главное послание музея и мемориального парка вплоть до 1990х годов — проповедь «Духа Хиросимы», похожего на религиозный культ пацифизма, стремящийся оторваться от контекста Второй мировой и обратиться к агрессии как таковой и, в частности, к войнам с участием США. В музейном буклете, который цитирует Йэн Бурума, подчеркивается:
Хиросима больше не просто японский город. Он стал признанной во всем мире Меккой движения за мир.
В то же самое время с конца 1950х годов в рамках рефлексии о жертвах бомбардировок становится отчетливо заметной тема мести американцам. Яркий пример — популярнейшие в 1960х манги (японский комикс) Кейдзи Накадзавы «Жертвы черного дождя» и «Вниз по черной реке», посвященные судьбам выживших в бомбардировке. Герой первой манги работает наемным убийцей, специализирующимся на иностранцах, в первую очередь американцах. Героиня второй, вынужденная зарабатывать на жизнь себе и своему ребенку проституцией рядом с американской базой, узнав, что обречена умереть от облучения, решает перед смертью заразить сифилисом как можно больше американских служащих[296]. Подобные сюжеты не противоречат «духу Хиросимы», а вполне встраиваются в него: в 1970х Накадзава приобретает репутацию одного из признанных классиков антивоенной манги.
Годом прорыва памяти, аналогичным 1979му в Германии и 2000му в Испании, в Японии стал 1989й, год смерти императора Хирохито и окончания холодной войны[297]. Однако факторы, готовящие этот прорыв, начинают складываться уже в середине 1980х.
Начало «политики реформ и открытости» в Китае Дэн Сяопина и демократизация общества в Южной Корее (где в 1987 году проходят первые демократические выборы) приводят к постепенному отказу от триумфальной памяти. Память об истории с точки зрения жертв становится удобным инструментом для национального единения и контролируемой демократизации. Когда в 1982 году вспыхивает первый скандал вокруг японского учебника истории, из которого якобы вымарывается упоминание о вторжении Японии в Китай и о Нанкинской резне, китайское правительство выражает официальное недовольство и отбирает группу стариков, выживших в нанкинской трагедии, чтобы предъявить их журналистам. Япония заверила, что признает ответственность и будет внимательнее следить за содержанием учебников. Вскоре, правда, выяснилось, что новость о корректировке текста учебника была ошибкой японских журналистов. Но завеса молчания над темой оказалась прорвана.
В 1987 году сотрудники киотского университета Рицумейкан начали собирать материалы для нового музея военной истории и обнаружили Широ Азуму, живого участника Нанкинской резни, который с готовностью стал рассказывать о том, что видел, позвал однополчан и согласился опубликовать дневники. Тема, казалось, давно погребенная, оказалась весьма и весьма живой.
В 1986–1987 годах жители Хиросимы и Осаки, городов с большим корейским населением, обратились к городским властям с просьбой установить в помещении Музея мира «уголок агрессора» — часть экспозиции, посвященную роли Японии в войне. После долгих колебаний это предложение было отвергнуто мэрией, заявившей, что «уголок агрессора» может вызвать новые интерпретации ядерной бомбардировки, которые могут угрожать искажением «духа Хиросимы» и оскорбить память жертв.
Город Хиросима обязан принять во внимание возможные реакции посетителей на выставку, посвященную японской агрессии. Что, если они сочтут атомную бомбардировку неизбежным последствием такой агрессии? Такое понимание противоречило бы нашему желанию передать посетителям Дух Хиросимы. Более того, мы опасаемся, что подобное понимание может побеспокоить души жертв ядерной бомбардировки. На Хиросиме лежит ответственность сообщить «правду об атомной бомбардировке», поэтому «исторические факты» о Хиросиме как главной военной базе и центре подготовки военных мы планируем представить в новом музее[298].
В декабре 1989 года, когда император был уже тяжело болен, японское общество всколыхнуло заявление мэра Нагасаки Хитоси Мотосимы. Отвечая на вопрос об ответственности Хирохито за войну, он сказал:
С окончания войны прошло 43 года, и мне кажется, у нас было достаточно возможностей поразмышлять о ее природе. Я читал много иностранных сообщений и сам получил военную подготовку, и я считаю, что император несет ответственность за войну, как и все те из нас, кто жил в то время[299].
Нарушение негласной договоренности молчать об ответственности императора, помноженное на неудачный выбор времени (через месяц Хирохито скончался), вызвало мало с чем сравнимый всплеск возмущения. На Мотосиму обрушились угрозы расправиться с ним и его семьей, в его кабинет пытался прорваться человек с канистрой бензина, Либерально-демократическая партия разорвала с ним сорудничество, его уволили с поста председателя местной патриотической ассоциации. Но табу на разговор об ответственности императора тяготило уже слишком многих, и прорыв молчания был слишком долгожданным. Через две недели Мотосима получил больше десяти тысяч писем с изъявлениями поддержки от профессоров и студентов, ветеранов войны, домохозяек, активистов, клерков, творческой интеллигенции, через несколько месяцев писем было уже сотни тысяч. Автор одного из писем в редакцию либеральной газеты «Асахи симбун» писал:
Императорское правление привело к установлению военного режима и стало причиной самой ужасной трагедии в истории Японии. Консерваторы снова обратились к традиционной монархии, чтобы напасть на демократические права. <…> Наша ответственность перед историей состоит в том, чтобы средствами науки проанализировать механизм, оформивший сознание общества со времен периода Мейдзи и приведший к войне. <…> Только тогда вопрос об ответственности наших лидеров может быть полностью решен не средствами «правосудия победителя», но самим народом Японии[300].
Через год после заявления, когда Мотосима отказался от предоставленной ему охраны, представитель праворадикальной организации выстрелил ему в спину, окончательно превратив мэра Нагасаки в национального героя. Вскоре после этого новый император Акихито лично встретился с ним в ходе визита в Нагасаки, что было воспринято многими как официальное снятие запрета на обсуждение ответственности императора.
1989 год был последним годом «японского экономического чуда». На смену десятилетиям стремительного роста экономики пришло потерянное десятилетие, встряхнушее японскую политику. В 1993 году впервые после 38 лет безраздельного господства Либерально-демократическая партия уступает на выборах коалиции во главе с социалистами. Политический порядок, заложенный в 1955 году и получивший название «система 55», был разрушен. Комментаторы сетовали на утрату стабильности и говорили о торжестве хаоса, о превращении из недосягаемого образца для соседей в «банановую республику» и «караоке-демократию».
Политические перемены обернулись окончательной «разморозкой» темы военной ответственности. В феврале 1990 года известный японский режиссер и активист Хитоиси Каи на страницах «Асахи симбун» поставил под сомнение оправданность параллелей между ядерными бомбардировками и Холокостом.
Если обратиться к истории, разве не Нанкин и Сеул больше подходят для сравнения с Аушвицем? В конце концов, есть кое-что, о чем пока никто не сказал: Хиросима была на стороне агрессора[301].
Спустя несколько лет о том же самом скажет уже известный нам Мотосима. Но на этот раз он получит за это не пулю, а премию Ассоциации корейско-японской дружбы. 3 августа 1993 года звучит знаменитое «заявление Коно»: главный секретарь кабинета министров Ёхай Коно, ссылаясь на заключение правительственной комиссии, публично заявляет, что в годы войны японская армия принуждала женщин к проституции на организованных по распоряжению военного руководства «станциях утешения». В речи 15 августа 1993 года на ежегодной церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, премьер Морихиро Хосокава впервые признает военные действия Японии агрессией. Но самым громким заявлением такого рода, вызвавшим горячую дискуссию, стала выпущенная в июне 1995 года резолюция парламента с выражением сожаления за «боль и страдание, навлеченные Японией на народы других стран, особенно в Азии» и последующее извинение премьер-министра Томиити Мураямы.
Дело не ограничивается заявлениями. В 1995 году по распоряжению Мураямы был создан «Фонд азиатских женщин», формально неправительственная организация, по существу аффилированная с правительственными структурами. Уйдя в отставку, Мураяма возглавил фонд в качестве частного лица. За 12 лет существования Фонд выплатил жертвам сексуальной эксплуатации и их родственникам на Филиппинах, в Корее, Тайване, Индонезии и Нидерландах в общей сложности 1,7 млрд йен, или 14,3 млн долларов (из них около 5 млрд йен составляют пожертвования граждан Японии, остальные деньги перечислены правительством)[302]. В 2007 году Фонд прекратил свое существования как «выполнивший свои обязательства». Деятельность фонда стала важным фактором, стимулирующим разговор о военной ответственности в Японии и за ее пределами[303].
Начало 1990х отмечается «разморозкой» и мемориальной политики в музейной сфере. В 1991 году в Киото, городе с самым большим в Японии корейским населением, открывается созданный на средства муниципальных властей «Музей мира во всем мире», а в 1992 году при университете Рицумейкан в Осаке открывается «Международный центр мира». Оба музея, сохраняя традиционный нарратив «мира и демократии», не скрывают истории японской агрессии и военных преступлений императорской армии. Наконец, в 1994 году в восточном крыле хиросимского Музея мира открывается экспозиция, рассказывающая о японской агрессии и страданиях, причиненных народам других стран.
Начиная с 1990х годов дискуссии об ответственности за войну перемещаются в публичную сферу и оказываются фактором, заметно влияющим на массовую культуру. Одним из полей, на которых разворачиваются азиатские «войны памяти», предсказуемо оказывается манга, специфическое явление массовой культуры.
В среде националистов создается ревизионистская неонационалистическая манга. Самым влиятельным представителем этого течения стал Ёсинори Кобаяси, автор серии «Манифест высокомерия» (Gmanism Sengen). Манги Кобаяси — это попытка переосмыслить в неонационалистическом ключе представления о японском народе как сверхъестественной коллективной сущности во главе с императором, о божественности императора и сам культ Ясукуни (ему Кобаяси посвятил отдельную серию «Yasukuniron»). Хотя император Хирохито отказался от утверждений о божественной природе императорской династии еще в рамках договоренностей о капитуляции, споры о том, как понимать эту божественность, отказ от нее и саму его возможность, идут до сих пор.
Противоположный лагерь представлен в первую очередь корейской мангой, обличающей японский милитаризм и оплакивающей его корейских жертв. Главный политический сюжет тут — споры об ответственности Японии за организацию «станций утешения», эта тема разрабатывается в манге особенно активно. Между этими конфликтующими позициями располагается широкий слой популярной японской манги, разрабатывающей горячие темы в беллетристическом, сентиментальном и эротическом ключе. Классический сюжет здесь — истории любви «женщин для утешения» и японских солдат, особенно летчиков-камикадзе, культ которых представляет собой отдельный культурный феномен[304].
В начале 2010х либерал-демократы во главе с Синдзо Абэ снова надолго закрепляются у власти. Японского премьера называют националистом и даже ревизионистом. За годы пребывания на посту премьера он выступал с заявлениями о том, что японский народ не должен быть «обречен вечно извиняться» за преступления Второй мировой, а правительство не принуждало «женщин для утешения» к занятиям проституцией. Дискуссии об отмене 9й, «пацифистской», статьи конституции, как показывает упоминавшийся выше пример фильма Миядзаки «Ветер поднимается», и не думают успокаиваться.
Однао политику Абэ не стоит рассматривать как полновесный ревизионизм. Это вовсе не попытка пересмотреть итоги дискуссий, длившихся три последних десятилетия и ставших неотъемлемой частью японской общественной жизни. Скорее это попытка не выглядеть в них догоняющим и оправдывающимся. Синдзо Абэ ходит в святилище Ясукуни не чаще, а реже большинства своих предшественников, а его извинения в основном повторяют все, что говорили премьеры-прогрессисты. Однако благодаря имиджу ревизиониста каждая новость о непосещении святилища рассматривается его внутри- и внешнеполитическими оппонентами как шаг навстречу пацифистам.
Отношение Японии к своему прошлому сохраняет принципиальную двусмысленность. С одной стороны, интегрированность в мировую экономику требует следования правилам хорошего тона, предполагающим признание вины за агрессию против Китая, Кореи и Вьетнама (о чем Японии не дают забыть западные партнеры). С другой — продолжающееся соперничество с этими странами не позволяет вполне отказаться от «оборонительной памяти» и всерьез переосмыслить историю взаимоотношений с ними. В конце концов, именно об этом говорит Миядзаки в интервью, с которого мы начали эту главу, цитируя своего любимого писателя Ёсиэ Хотту, с начала 1950х много писавшего о военной ответственности Японии: Ёсиэ Хотта говорит, что история находится перед нами, а будущее позади нас.
И мы можем видеть только прошлое, которое перед нами. Я понимаю, что люди не хотят видеть наше милитаристское прошлое. Но если ты хочешь быть политиком в этой стране, ты должен быть обучен этому, должен пытаться узнавать об этом самостоятельно. Иначе глобальное общество тебя не примет[305].
Часть III
СИНТЕЗ
.
ВВЕДЕНИЕ
Представленный в этой части анализ не претендует на сколько-нибудь исчерпывающее перечисление рецептов проработки трудного прошлого, подходящих для России. Но это и не набор произвольных сценариев, которые случайным образом пришли в голову автору. Скорее это попытка очертить своего рода «периодическую таблицу» механизмов и стратегий преодоления прошлого, набросать универсальную систему координат и перечислить основные элементы, без которых конструкция преодоления прошлого невозможна. Для этого используются как подходы, описанные в предыдущей части, так и те, что в ней не рассматривались.
Короткие вводные сюжеты, с которых начинается каждая глава, — не просто виньетки, включенные в книгу для развлечения читателя. Они призваны показать, что тема работы с прошлым не сводится к политическим и общественным механизмам. В огромной степени эта работа производится культурой. Произведения изобразительного и монументального искусства, литературы и кино — не побочные продукты этой работы, а один из важнейших ее инструментов и «языков», без применения которого она не может считаться полноценной. Неслучайно не менее половины исследований, посвященных теме памяти о трудном прошлом, так или иначе концентрируются на роли искусства в работе индивидуальной и коллективной памяти.
1
KNOW YOUR ENEMY
В июне 2017 года на американском кабельном канале Showtime и на Первом канале российского телевидения состоялась премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (слоган американской версии фильма — «Know your enemy»). Отвечая на вопрос об отношении к Сталину, Владимир Путин сказал:
Излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?[306]
Как обычно в высказываниях Путина, эти слова сопровождались замечаниями об «ужасах сталинизма», «уничтожении миллионов своих соотечественников» и о том, что «Россия капитально изменилась», но основное послание президента все комментаторы различили именно в тезисе о связи демонизации Сталина с атакой на СССР и Россию.
Лидер авторитарного государства защищает одного из своих предшественников, который довел систему авторитарного управления до совершенства, от атак представителей другой политической системы, построение которой возможно только в результате слома авторитаризма. В этой перспективе Сталин — не исторический персонаж и не объект морали или права, а воплощение политической системы, и его защита от нападок — естественная мера самообороны и самолегитимации. Особенно характерна тут оговорка о «родимых пятнах»: в самом деле, если считать, что авторитаризм генетически присущ российской государственности, то сталинизм — не оспа и не шрам на теле государства, не что-то внешнее и травмирующее, рассекающее живую ткань, но именно родимое пятно, органическая часть живой ткани.
Примеры стран, описанных в предыдущей части, показывают, что публикация имен жертв репрессий и палачей, обустройство мест памяти, дискуссия о признании ответственности за советский государственный террор — все это напрямую связано с изменением окружающей социально-политической реальности, а вовсе не ограничивается «музейно-гуманитарной» сферой, как это может послышаться в словосочетании «переосмысление прошлого». Ведь главная задача всех этих усилий — не допустить повторения подобных преступных практик в будущем и обеспечить их прекращение в настоящем. То, о чем идет речь, — средства или инструменты не только и не столько коллективной памяти, сколько «правосудия переходного периода». Память о «трудном прошлом» обязательно ставит вопрос о формулировании отчетливого к нему отношения, а призыв помнить в данном случае очень близок к призыву знать врага в лицо (to know your enemy), чтобы дать ему бой.
«Проработка прошлого» призвана не столько организовать память о прошлом, сколько институциализировать переход от одной политической системы к другой, от авторитаризма (диктатуры) к демократии. Этот переход может происходить в результате полноценного слома прежней системы и прихода на смену ей другой (как в Германии), в результате перетекания из одной системы в другую с сохранением элементов старой конструкции (как в Испании, Аргентине или Польше) или складывания в рамках одной системы элементов другой (как в Японии). Исключительность российского случая не в том, что наш опыт гостеррора не имеет аналогов — опыт каждой страны по-своему уникален, — а в том, что он уникальным образом соединяет элементы разных моделей. Как в Германии, прежняя политическая система в России пережила крах, но произошло это без внешнего воздействия, а по естественным причинам. Как в Испании, перетекание из одной системы в другую застыло на полпути, с попыткой возрождения старой системы на новом историческом этапе. Как в Японии, старые элиты постарались адаптировать старую систему к новым условиям, оставшись при этом при власти.
Если взглянуть на процессы осмысления памяти о советском терроре сквозь эту призму, многое в отношении сегодняшних российских властей к этим процессам станет гораздо понятнее.
Нарратив, активно продвигаемый властью и государственными СМИ в России с начала 2000х годов, предлагает видеть в смене политической системы в 1991 году, активизировавшей все соответствующие инициативы и протоинституциональные процессы (снос самых одиозных памятников, открытие архивов, создание баз жертв репрессий, расширение деятельности «Мемориала» и т. д.), не поворот от диктатуры к демократии, а катастрофический слом. Программное послание Владимира Путина Федеральному собранию 25 апреля 2005 года, известное благодаря формуле «крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века», посвящено объяснению демократического пути России как «продолжения российской государственности», преемственности по отношению к СССР, а не прощания с его наследием[307]. На поверку рассуждения о свободе и демократии оказалисьриторикой, призванной успокоить граждан и западных партнеров (для которых был понятен только «демократической транзит»), на деле же важнее в этой речи и в политике вообще оказалось налаживание преемственности современной России по отношению к СССР именно так, как будто бы никакого слома системы не было.
Логика развития России последних двух десятков лет напоминает курс бригантины «Пилигрим» из романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Команда и пассажиры «Пилигрима» были убеждены, что корабль движется из Сан-Франциско в Южную Америку, но в конце концов он оказывается в Африке: прятавшийся под личиной кока агент работорговцев Негоро, подложив под компас железный брусок, тайно вел корабль другим курсом. Если компас сломан, проверить, каким курсом на самом деле идет корабль, можно только по звездам. Аналог звездного неба, по которому стоит пытаться поверять сегодняшний курс российского государства, движущегося, согласно настойчивым уверениям его руководителей, по демократическому пути, — это мемориальные практики и отношение к ним власти.
В 2015–2016 годах, то есть примерно тогда, когда Оливер Стоун записывал интервью с Путиным, занятие историей репрессий перестало восприниматься государством нейтрально. Символическим порогом, отмечающим, что занятие историей репрессий начинает считаться политикой, стало, как говорилось в первой части этой книги, признание общества «Мемориал» иностранным агентом и дело против Юрия Дмитриева. Происходит это именно тогда, когда в России окончательно формируется полноценный авторитарный режим — после протестов 2011–2013 годов, выборов Путина на новый президентский срок и начала кризиса на юго-востоке Украины.
О том, что работа по переосмыслению прошлого в самом деле представляет опасность для подобного движения истории вспять, свидетельствует — с противоположной стороны — реакция на нее «национал-патриотов». Деятелей вроде Александра Проханова, Сергея Кургиняна в просвещенных кругах принято (вполне заслуженно) не воспринимать всерьез, но трудно отказать в верности их интуициям, когда дело касается памяти о советском прошлом. В августе 2017 года члены «Изборского клуба», сообщества представителей консервативной общественности во главе с Прохановым, направили губернатору Орловской области Вадиму Потомскому (известному инициативой установки памятника Ивану Грозному) письмо, в котором высказались за установку в Орле памятника Иосифу Сталину. В письме говорится:
Воздвигая памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, тем самым признавая его великие заслуги перед отечеством, мы устраняем трагический исторический разрыв, в котором пропадает весь великий XX век с его победами, с неисчислимыми свершениями нашего народа, добытыми в муках и великих тратах[308].
Если отвлечься от дикости самой идеи установить памятник государственному деятелю, ответственному за уничтожение миллионов собственных граждан, мысль авторов письма очень понятна и примечательна. Сталин — воплощение авторитарного принципа управления страной, символ диктаторского курса и главенства национальных интересов над правами человека. Если именно такой курс ассоциируется с существованием Российского государства, то жизненно важно, во-первых, наладить преемственность современных принципов управления с советскими и сталинскими, а во-вторых, маркировать 1990е годы, отчетливо обозначившие противоположные тенденции, как «трагический исторический разрыв».
Выступления Александра Проханова со всеми их отличительными чертами — истеричностью, завиральностью, визионерством, соседством пафоса с цинизмом, религиозных образов с нарочитым физиологизмом — очень точно характеризуют весь соответствующий «дискурс», нервный, то и дело срывающийся на крик, паясничающий и манипулятивный. Ведь проблема стремящихся «назад в СССР» в том, что восстановить былую империю невозможно. Она развалилась не в результате козней США или подрывной деятельности изнутри, а в силу исторических и экономических законов. СССР оказался нежизнеспособен как система. И попытки продления его жизни — это попытки оживить труп. Странность положения, при котором государство не стремится сознательно к реабилитации сталинизма, но это выходит как бы само собой, объясняется тем, что без выстраивания реальных, а не имитационных и маскировочных демократических институтов, иной модели управления, кроме авторитарной, не существует.
А потому стоит помнить, что «переосмысление прошлого» — деятельность политическая, а не только мемориально-просветительская. Ее задача — обеспечить гарантии невозможности возвращения к преступным практикам. Это не попытки «раскачать лодку», но стремление вернуть ее на верный курс, вытащив железный брусок из-под компаса. Для уверенного движения этим курсом необходимы, во-первых, согласие на него большей части общества, а во-вторых, системный характер предпринимаемых усилий. Такое согласие относительно движения вперед невозможно без консенсуса о прошлом. Полярные оценки россиянами политической роли Сталина и всего советского периода свидетельствуют, что такого консенсуса в сегодняшней России не существует, а те проекты примирения общества, которые готова предложить власть, как было показано в первой части, не способны его сформировать.
Тому, как может выстраиваться такой консенсус и какие системные механизмы этот процесс может предполагать, посвящена третья часть этой книги.
2
ПОДВЕДЕНИЕ ЧЕРТЫ ПОД ПРОШЛЫМ: ОТДЕЛИТЬ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ
Весной 2018 года в венском Леопольд-музее проходила выставка[309] словенского художника Зорана Музича (1909–2005). Картины этого малоизвестного мастера производят не меньшее, а то и большее впечатление, чем выставленные там же работы знаменитых венцев Густава Климта и Эгона Шиле. С первого взгляда обращает на себя внимание невероятная витальность и пластичность воображения художника — он переезжает из страны в страну, и все окружающее, школы и стили, мгновенно отражаются в его работах. Он проводит несколько месяцев в Мадриде — и пишет довольно большую работу, имитирующую Эль Греко. Он оказывается в Венеции — и, естественно, начинает писать венецианские пейзажи. В октябре 1944 года Музича, вскоре после его первых персональных выставок за пределами Словении, арестовывают в Венеции за участие в подпольном антифашистском сообществе и, после пыток, отправляют в концлагерь Дахау, где он проводит несколько месяцев до освобождения лагеря американцами в апреле 1945 года.
В лагере Музич работает на заводе и, вырывая страницы из бухгалтерских книг, делает почти две сотни карандашных набросков. Это абрисы безжизненных человеческих тел, истощенных, лежащих в неестественных изломанных позах, по одиночке и грудами. Это именно абрисы, минимально проработанные, такая беглая и бессильная фиксация окружающего ужаса. Кажется, художник с трудом удерживает в руке карандаш, то ли от физического, то ли от душевного истощения. Музич слишком внимателен к окружающим впечатлениям, его мир слишком зависит от окружающих его визуальных образов, чтобы он мог закрыться и не пытаться зафиксировать то, что видит, чтобы «отразить», сложить это во внутреннюю копилку. В одном из позднейших интервью он замечает, что желание рисовать в Дахау — иногда с риском для жизни — было вызвано не стремлением зафиксировать преступления. Это было художническое желание, невозможность противостоять своему призванию — очень характерно, что Музич не может удержаться от замечания о «трагической элегантности» этих тел[310].
Из 180 набросков Музичу удалось сохранить 35 (он прятал их на территории завода, после бомбежек большая часть рисунков была утеряна). После освобождения из Дахау он возвращается в Словению, но сразу сбегает от режима Тито в Италию и с невероятной энергией начинает рисовать венецианские виды, светлые, сочные и яркие. Музич словно пытаетс компенсировать мрак и ужас того, что ему недавно пришлось пережить. Он путешествует по Балканам, живет в Италии и Франции, пропускает через себя все новый и новый опыт, быстро поддаваясь свежему материалу, подстраиваясь под него и меняя свой стиль. В 1950х он пишет непохожую ни на что прежнее серию Cavalli: лошади в пейзажах родной художнику Далмации, балканский колорит, напоминающий порой национальные африканские мотивы, эксперименты с техникой вышивки. В 1960х Музич увлекается абстракционизмом: постепенно цвет и сочность послевоенных работ уходят с его полотен, они все темнее и мрачнее — и все убедительнее. Его игры со стилями все убедительнее и оригинальнее, это уже безусловно большой мастер — но все еще не нашедший собственной темы.
Эта тема прорывается в начале 1970х. Спустя 25 лет после Дахау Музич достает из загашников свои старые наброски и делает на их основе картины, вбирающие в себя и раскрывающие весь его предыдущий опыт, все накопленное мастерство. Эта серия получает название «Мы не последние»: несмотря на весь ужас преступлений нацизма, человечество ничему не научилось. После 1945 года массовые убийства гражданского населения продолжились во Вьетнаме и Корее.
На картинах серии «Мы не последние» — те же человеческие тела, та же мрачная бежево-черная гамма, к которой Музич естественным путем приходит к концу 1950х. Их простота, почти на грани абстракции, напоминает об опытах художника в 1960е годы. Давая выход тому, что много лет было заключено у автора в сознании, выпуская наружу опыт, который он пытался «закрасить» яркими картинами Венеции, этнографически энергичными картинами балканской степи, уходом в абстракцию, — Музич наконец находит себя, и его картины обретают силу оригинального высказывания большого мастера.
Серия «Мы не последние», обеспечившая Музичу действительно большой успех, стала признанной вершиной его творчества, но не была последним, что он сделал. Музич идет дальше, и во второй половине 1980х и в 1990х начинается его новый, «философский» этап. Это портреты или автопортреты, выполненные в той самой «трупной» или «концлагерной» технике, но теперь говорящие о жизни и о новых занимающих художника проблемах. Эти темные фигуры, склоненные то ли в молитве, то ли от немощи, — размышление о старости, слабости, силе духа, о смерти, но уже не пугающей и ужасной, а о близкой и «естественной»; о смерти, лишенной жала. Это путешествие в глубь себя еще и потому, что в эти годы Музич начинает слепнуть — но не перестает писать. Его многолетняя работа с тьмой, экзистенциальной и живописной, позволяет ему писать из опыта этой тьмы. Преодоление собственной душевной травмы в каком-то смысле позволяет ему преодолеть даже физические обременения.
Жизнь и творчество Музича — иллюстрация утверждений психологов, что проработка травмы — не способ излечить ее и навсегда избавиться от ее груза. Так получается далеко не всегда. Итальянский писатель Примо Леви, тоже описывавший свой лагерный опыт не в последнюю очередь для того, чтобы справиться с его последствиями[311], не смог этого сделать — и покончил с собой. Травма — не просто тяжелые воспоминания, а опыт, полностью освободиться от которого невозможно; это события прошлого, которые нельзя повернуть вспять. Преодоление травмы — это обретение возможности жить с этим опытом так, чтобы он не отравлял жизнь, дезактивировать его разрушающие последствия. Картины Зорана Музича — свидетельство именно такой работы со своим прошлым[312].
Описанные далее формы отношения к прошлому — разные примеры той работы с травмой, которая так живописно раскрывается в истории Зорана Музича. Работы, призванной не стереть болезненный опыт, но блокировать его деструктивный потенциал, чтобы пережитое в итоге стало составляющим здорового комплексного целого.
При рассуждении об инструментах осуждения преступного прошлого, отказа от него и перехода к новой государственности, свободной от прежних практик, одной из важнейших категорий оказывается категория подведения черты. Под прошлым подводится черта, чтобы отделить его от того, что будет дальше, обозначить границу между старым и новым. О «жирной черте» под прошлым говорил в своей первой речи в качестве премьер-министра новой свободной Польши в 1989 году Тадеуш Мазовецкий. «Подведением черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ», призывал считать 100-летие революции российский президент Владимир Путин в 2017 году, открывая Мемориал жертвам репрессий. «Законом, подводящим черту» или «ставящим точку» (Ley de Punto Final), был назван аргентинский закон 1986 года, запрещающий юридическое преследование за преступления, совершенные в годы правления хунты. Но самым известным образом подведения черты в послевоенной европейской истории стал образ «нулевого часа» (24/0 часов 8/9 мая 1945 года) или «нулевого года» (1945) в Германии[313].
Категории черты, точки, нуля, санитарного рва, переворачивания страницы — это способ набросить на непрерывное течение времени разметку, позволяющую обозначить прошлое, с которым не хочется иметь дело, как закончившееся, а себя отнести к начинающемуся с нуля и свободному от наследия прошлого настоящему. «Завершить» прошлое оказывается необходимо прежде всего потому, что его деструктивное воздействие на настоящее слишком болезненно и губительно. В этом смысле подведение черты подобно сооружению санитарного кордона, призванного изолировать заражение, не дать ему перекинуться дальше. Едва ли случайно, что убедительнейший образ такого кордона на пути болезни создан в романе Альбера Камю «Чума», изданном в 1947 году и осмыслявшем фашизм как болезнь, которая может вернуться.
Одна из первых фиксаций выражения «нулевой год» в отношении Германии — снятый в 1948 году фильм Роберто Росселини «Германия, год нулевой», посвященный подведению черты под историей Третьего рейха. Герой фильма, ангельского вида белокурый 12-летний мальчик (ровесник Третьего рейха — символическая репрезентация Германии, родившейся при нацистах), бродит по развалинам послевоенного Берлина. Его мать погибла при бомбежке. Отец, участник Первой мировой, прикован к кровати; он переживает, что обременяет детей, и мечтает умереть. Его старший брат, солдат вермахта, прячется от союзников, а сестра проводит время в барах, выпрашивая у американских солдат сигареты, и вот-вот решится выйти на панель. Мальчик встречает в городе своего школьного учителя, который внушает ему мысль, что слабым надлежит уступать дорогу сильным, а в случае чего им можно и помочь, — и дает своему отцу яд. Он вовсе не злодей — напротив, он старается исполнить волю отца и наказ учителя. Но его брат и сестра убиты горем, учитель в ужасе отказывается от своих слов и даже встреченные на улице дети почему-то не принимают его в свою игру, убегая от него как от прокаженного. В финальной сцене, которую называют самой страшной сценой послевоенного европейского кино, мальчик выбрасывается из окна полуразрушенного дома. По Росселини, «год нулевой» — это не столько новое начало, сколько «обнуление» предыдущего исторического периода. Ведь даже вполне невинные его порождения помимо своей воли несут в себе отпечаток распространившегося на все вокруг зла.
Подведение черты привлекательно не только возможностью поставить заслон заразе преступных практик прошлого. Это еще и возможность «обезвредить» прошлое, освободив себя от ответственности за него. Этот аспект оказывается важен и для авторов компромиссных моделей договорного транзита (задача — максимально сгладить переход для всех договаривающихся сторон), и для авторов моделей реваншистских (задача — замаскировать отсутствие переода правильными словами). Аргентинский «Закон о финальной точке» был «завершением прошлого» в смысле запрета на преследования за совершенные в прошлом преступления. Эта мера объяснялась необходимостью двигаться дальше, освободившись от бремени прошлого, но на деле служила интересам военных, виновных в преступлениях в годы правления хунты. «Жирная черта» Мазовецкого, формально обозначая прощание с коммунистическим прошлым, фактически гарантировала блокировку инициатив, касающихся люстрации в отношении коммунистического руководства. Оба случая обернулись отложенным эффектом: возвращением к судам над военными спустя двадцать лет в Аргентине и политизацией темы люстраций начиная с 2015 года в Польше.
Подведение черты — всегда немного игра, проектирование реальности, спектакль, предполагающий подыгрывание со стороны участников процесса. В Японии обращение императора Хирохито к нации 15 августа 1945 года символически отмечало договор между японскими элитами и США, по которому виновным в военных преступлениях признавалось военное руководство (исключая императора), а японский народ оказывался жертвой, искренне заинтересованной в демократизации страны по американской модели. Кэрол Глюк, специалист по истории Японии XX века из Колумбийского университета, пишет:
Японская версия германского «нулевого часа», этот абсолютный разрыв между военным прошлым и послевоенным настоящим, ощущался очень глубоко даже теми, кто не знал причин резкого разъединения непрерывности истории. Школьники в одночасье превратились из патриотической «военной молодежи» во вдохновенную «демократическую молодежь» — эту искреннюю и как будто не требовавшую усилий метаморфозу представители военного поколения вспоминали с удивлением. Для японцев постарше это был скорее сознательный разрыв, индивидуальное и коллективное усилие освободиться от прошлого и начать жизнь заново. На фоне относительной преемственности институтов — те же рабочие места, те же учителя, те же бюрократы — японцы предпочли поверить в резкий разрыв с прошлым. Новое начало стало мифом основания «возрожденной Японии», как ее часто называли. Представление о «пересоздании» Японии в стремлении к двойной цели — миру и демократии — разделяли представители всех частей политического спектра. Неважно, насколько разнилось их понимание этих мира и демократии: огромное число японцев согласились с американскими оккупантами в том, что их главной задачей было создать «новую Японию»[314].
Образ «нуля» (Nullstunde, Zero Hour, Punto Null) как конца старого отсчета и начала нового достоин отдельного рассмотрения. Трудное прошлое хочется не просто изолировать; больше всего его хочется «обнулить», сделать небывшим. В этом вовсе не обязательно следует видеть нечто предосудительное. Именно императив забвения считался нормой большую часть человеческой истории вплоть до XX века[315]. «Забыли», «проехали» — так говорят, примиряясь после конфликта, давая понять, что конфликт исчерпан и не мешает дальнейшему общению. Но реплика «забыли» исчерпывает конфликт, если ее произносит пострадавшая сторона после того, как виновник конфликта признает свою вину и попросит о прощении. И даже тогда «забвение» — метафора: причиненное зло не забыто, оно перестало быть активным, переведено в разряд прошлого и законченного. Между тем в политической практике предложение «забыть», как правило, исходит не от пострадавшего, а от виновника, причем именно тогда, когда он не готов брать ответственность за случившееся и просить прощения. Такое обнуление не исцеляет конфликт, а ретуширует его.
Возможно, самая важная в советском и постсоветском искусстве иллюстрация того, что происходит, если прошлое пытаются забыть, не проведя с ним должной работы, дана в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятом в 1984 году. Главный образ «Покаяния» — труп чиновника, ответственного за репрессии против собственного народа, который герои фильма снова и снова выкапывают из земли. Закапывание преступника в землю означает его упокоение (то самое подведение черты и закрытие прошлого). Однако, пока его преступления не осуждены, такое упокоение недопустимо, и героиня, дочь его жертв, считает своим долгом не допустить такого попрания справедливости. Как и у Росселини, непреодоленное зло бьет по молодому поколению: узнав о злодеяниях деда, кончает с собой внук Варлама. И тогда сын, прежде защищавший отца, сам выкапывает его труп и сбрасывает его с горы на растерзание птицам.
Об этой сцене не перестают спорить до сих пор. Разве выбрасывание трупа отца на корм птицам имеет что-то общее с покаянием? Разве не так «либералы», прикрываясь красивыми и правильными словами, оскверняют собственное прошлое, которое ненавидят? Но смысл этого образа в другом. Пока преступления Варлама не осуждены, пока его сын продолжает оправдывать отца, сам Варлам еще не вполне умер; подобно вампиру, он ведет призрачное посмертное существование. И упокоение в земле способствует такому существованию, тогда как единственный способ его прекратить — это не дать ему упокоиться в могиле, обесславить, бросив на корм птицам, заставив умереть по-настоящему. Это и в самом деле не покаяние. Но это именно подведение черты под прошлым, открывающее путь в будущее, что подчеркивает вид на современный город, открывающийся с горы, с которой Авель сбрасывает Варлама.
Классическая теория психической травмы, изложенная Зигмундом Фрейдом и Йозефом Брейером в книге «Исследования истерии» (1895), гласит, что болезненное переживание, прежде всего вызванное насилием, оборачивается тяжелыми последствиями для психики пережившего это человека[316]. Естественная реакция психики на травму — вытеснение памяти о травмирующем событии, его забвение. Но такое психическое обнуление не способствует исцелению; напротив, вытесненная в подсознание травма продолжает свою невидимую работу, оборачиваясь психическими расстройствами, неврозами или психосоматикой. Терапия травмы предполагает не забвение травмирующего события, но его вспоминание и проработку. При этом приходится преодолевать защитные механизмы пострадавшего, которые могут выражаться, в частности, в отвращении к обсуждаемой теме.
Важно отметить, что с точки зрения работающих с травмами задачей терапии не может быть «исцеление» травмы. Травма на то и травма, чтобы радикально изменять жизнь человека. В этом смысле «излечить» травму, сделать событие небывшим, как и вернуться в состояние «до» случившегося, невозможно. Задача терапии — проработать травму, помочь человеку осознать то, что произошло, оплакать и принять себя после случившегося и новый мир, изменившийся после того, как случившееся стало возможным. Кроме того, одно из главных условий успешной терапии травмы — прекращение травмирующих воздействий и изоляция человека от их источника (например, изоляция насильника). Этот принцип также важен в связи с работой с травматическим прошлым в масштабе общества.
Как и травма, пережитая отдельным человеком, травма, пережитая обществом, не может «обнулиться», и ее терапия не может преследовать такую цель. Попытка забыть трудное прошлое, перестать говорить о нем, подобно вытеснению травмы, только увеличивает возможность ее неконтролируемого «прорыва». В то же время подведение черты — работа осознания того, что случившееся уже в прошлом, — важное условие исцеления.
В дальнейшем понимании преодоления прошлого на помощь, как ни странно, приходят фольклористика и этнография. Ситуация, когда окончательное умерщвление предполагает, как предварительное условие, восстановление умершего в его полноте, а чтобы герой жил дальше, его надо сначала эффективно умертвить, далеко не удивительна для русских народных сказок.
Образ живой и мертвой воды слишком известен всем нам с детства, чтобы мы могли в полной мере осознать его странность и загадочность. Напомним, как это работает. Героя, пострадавшего в битве со змеем, сначала поливают мертвой водой — и его раны затягиваются, отсеченные члены прирастают, он снова как новенький, цел и невредим, вот только он мертвый. После этого его нужно сбрызнуть живой водой, и тогда герой оживает.
На третий день ворон прилетел и принес с собой два пузырька: в одном — живая вода, в другом — мертвая, и отдал те пузырьки серому волку.
Серый волк взял пузырьки, разорвал вороненка надвое, спрыснул его мертвою водою — и тот вороненок сросся, спрыснул живою водою — вороненок встрепенулся и полетел. Потом серый волк спрыснул Ивана-царевича мертвою водою — его тело срослося, спрыснул живою водою — Иван-царевич встал и промолвил:
— Ах, куды как я долго спал![317]
На первый взгляд логика понятна: чтобы ожить, нужно сначала исцелить раны. Но почему таким образом действует не живая, а мертвая вода? Почему волшебное средство, заживляющее раны, связано не с жизнью, а со смертью? Вероятно, лучшее объяснение этой загадки дал филолог и фольклорист Владимир Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки:
Мертвая вода его (героя. — Н. Э.) как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обсыпанию землей. Только теперь он — настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мертвой водой, живая вода будет действовать[318].
Действие мертвой воды — в выпуклой, как это свойственно мифу, форме — демонстрирует, как работает подведение черты под прошлым. Двигаться в будущее, не покончив с прошлым, когда это прошлое отмечено преступлениями, — значит принадлежать двум мирам. Но образ вампира напоминает, что принадлежать двум противоположным мирам — значит не принадлежать по-настоящему ни одному из них. Чтобы ожить, нужно сначала умереть «вполне». Чтобы перестать быть губительным для будущего, прошлое должно обнаружиться во всей полноте, получить оценку, — и только тогда оно оказывается «завершено».
Модель действительно продуктивной проработки травмы прошлого, спрыскивания его той и другой водой, иллюстрирует крайне важный во многих отношениях эпизод примирения между Денисом Карагодиным, инициатором расследования убийства своего прадеда, и внучкой человека, участвовавшего в его расстреле. Прочитав о расследовании Карагодина, Юлия N написала ему письмо
Я не сплю уже несколько дней, просто не могу и все… Я изучила все материалы, все документы, что у вас на сайте, я столько всего передумала, ретроспективно вспомнила… Умом понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я испытываю не передать словами…
Отца моей бабушки (маминой мамы), моего прадеда, забрали из дома, по доносу, в те же годы, что и вашего прадедушку, и домой он больше не вернулся, а дома остались 4 дочки, моя бабушка была младшей… Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы и палачи… Очень горько это осознавать, очень больно… Но я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, какой бы она ни была. Мне поможет все это пережить сознание того, что ни я, ни все мои родственники, которых я знаю, помню и люблю, никак не причастны к этим зверствам, которые происходили в те годы…
То горе, которое принесли такие люди, не искупить… Задача следующих поколений просто не замалчивать, все вещи и события должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам — это просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне.
Но у нас ничего в обществе никогда не изменится, если не открыть всю правду. Неспроста сейчас опять возникли сталинисты, памятники Сталину, это просто в голове не укладывается, не поддается никому осмыслению.
Много еще хотелось бы вам написать, рассказать, но главное я сказала — мне очень стыдно за все, мне просто физически больно. И горько, что ничего я не могу исправить, кроме того, что признаться вам в моем с Зыряновым Н. И. родстве и поминать вашего прадедушку в церкви.