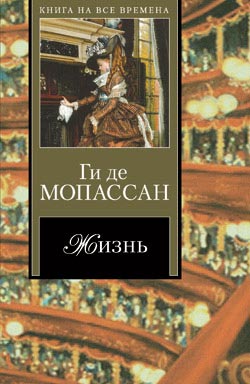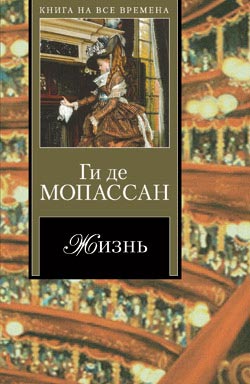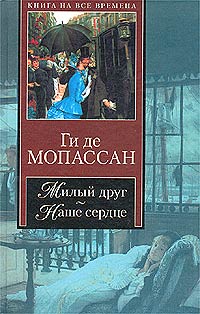Князь Ночи Бенцони Жюльетта
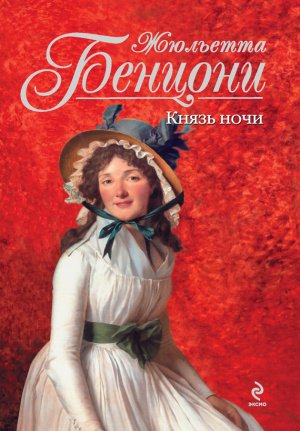
Жан расхохотался. Вернувшись, он сразу поставил на огонь козье молоко, а теперь добавил в него меду, спирту и подал смесь Гортензии.
– Любовь внушает вам отвращение? Вот уж не подумал бы! – воскликнул он, и в глазах его блеснул огонек недавних воспоминаний. – Сделайте несколько глотков. Это питье придаст вам силы выдержать дорогу.
– Любовь? – вопросила изумленно Гортензия, машинально беря в руки чашку.
– А что же еще? Всякий здесь знает, что уже давно мадемуазель де Комбер без ума от своего кузена. И нет ничего противоестественного в том, что женщина, до такой степени влюбленная, отдается тому, кого любит… Здесь не она виновна, а он. Ведь он берет ее, не любя…
– Он ее не любит?..
Франсуа вдруг взорвался. Его охватил внезапный приступ гнева, заставив забыть о сдержанности:
– Он любил только свою сестру… и какой любовью! Дьявольской! Он ее хотел бы затащить в свою постель! Я однажды видел, как он подглядывал за ней, когда она купалась в реке, эта невинная овечка… Он притаился в кустах у воды… У него глаза были готовы выскочить, и лицо перекосило, будто у беса. А потом тихо, очень осторожно он стал раздвигать траву и приближаться к ней… Он полз, как змея, и пока он елозил по земле, он уже начал срывать с себя одежду. Я понял, что сейчас он бросится на нее, что он уже не владеет собой. И тогда я затопал, завозился. Я спугнул его. Он подумал, что это какой-нибудь зверь или человек из замка. Убежал… Ему повезло. Я бы его убил, если бы он хоть притронулся к ней!
Опустошенный воспоминанием об этом ужасном мгновении, Франсуа без сил опустился на скамью. Машинально он схватил бутыль со спиртом и, отхлебнув большой глоток, проглотил его так быстро, что закашлялся…
– Простите меня! – вздохнул он, вытирая рукой пот со лба. – Я, должно быть, не имел права… но по крайности… вы не должны сомневаться: на меня можно положиться… А теперь скажите, куда нам ехать, потому что время уходит… Скоро утро…
Подняв глаза, Гортензия поймала умоляющий взгляд Жана:
– Заклинаю вас, езжайте в Комбер… Там я хотя бы смогу дать вам знать…
– Вы поможете мне подготовиться к бегству?
– Я поклялся… Так что же?
Она покачала головой, устало соглашаясь, и этот простой жест послужил сигналом к тому, что двое мужчин вскочили и яростно принялись за дело. Жан протянул Гортензии ее платье, уже вполне просохшее, и задернул занавеси кровати, чтобы она могла одеться. Это удалось ей с грехом пополам – поврежденная нога все еще давала о себе знать. Между тем Франсуа соорудил нечто вроде носилок из переплетенных свежесрезанных ветвей и застелил их покрывалом. Гортензию положили на них, укутав в ее толстый плащ, а сверху запеленали свободными концами покрывала, поместив ей в ноги нагретый на огне камень…
– Я помогу тебе донести ее до брода у Комбера, а дальше ты пойдешь один…
– Но ведь до Комбера далеко? – простонала Гортензия.
– Напрямик через лес путь вполовину короче, – успокоил ее Франсуа. – Дорога-то петляет вдоль реки, а мы срежем… Не беспокойтесь, госпожа, через час вы будете в мягкой постели.
Действительно, час спустя они оказались у брода, о котором ранее упоминали, и перешли реку. На другом берегу мужчины остановились и опустили носилки на землю. Жан взял девушку на руки и, не стесняясь присутствия своего спутника, в долгом поцелуе припал к ее губам. Затем передал ее на руки Франсуа, который бегом поспешил дальше. Гортензия снова услышала плеск воды, когда в три прыжка Жан перебрался обратно через поток. Она уткнулась в плечо Франсуа, руки, обхватившие его шею, обмякли, и она тихо заплакала. Франсуа шел очень быстро, громадными шагами горца, и тяжесть ноши не причиняла ему, казалось, ни малейших неудобств. Он молчал, не тревожа девушку в ее горе. Лишь когда серые крыши Комбера встали над верхушками деревьев, закутанных в дымку шедшего с реки тумана, он осмелился спросить:
– Вы его любите, госпожа? Жана то есть…
– Да… Конечно!..
– Нельзя этого!
И, почувствовав, что она окаменела, готовая защищать свою любовь от друга, советующего распроститься с нею, добавил:
– Я знаю, невозможно так просто взять да перестать любить… но хотя бы нужно отказаться от надежды остаться с ним!.. Между вами ничего не может быть… как и у меня тогда давно… Если вы его любите не шутя, так только распростившись с ним, вы сумеете это доказать…
– Но почему? Почему?..
– Потому что, когда любишь, хочется, чтобы тот человек был жив! Вот я был счастлив, узнав, что другой увезет ее в Париж, а там братец ее уже не достанет. Я знал, что надо дождаться смерти и другой жизни, чтобы увидеть ее вновь, но я был счастлив.
– А вы ее… любите до сих пор?
– Больше всего на свете! Она всегда где-то в моем сердце, как та роза, что у вас в ящике… Это скрашивает ожидание…
Если у Гортензии и были некоторые опасения относительно того, как ее встретят в Комбере, они тут же рассеялись. Дофина приветствовала ее взрывом смеха.
– Еще один охромевший Лозарг? – вскричала она, убедившись, что гостья не опасно ранена. – Какая муха укусила и вас, и Этьена? Почему надо добираться до Комбера по лесу, скалам и бурным водам? Не проще ли и, как говорят англичане, не комфортабельнее ли приехать, как обычные люди: по дороге и в экипаже?
– Я не отправлялась к вам, кузина, я бежала, – вздохнула Гортензия, слишком утомленная, чтобы дать более пространные объяснения своего поступка. Потом она просто закрыла глаза и уронила голову на плечо фермера. На ее лице проступила гримаса боли, и мадемуазель де Комбер, сразу став серьезной, распорядилась приготовить хорошую постель и разжечь жаркий огонь, прежде чем посылать Франсуа в Лозарг, чтобы «успокоить» маркиза.
Ей постелили в маленькой комнатке, затянутой очаровательными ситцевыми набивными обоями в розовых тонах. На ткани были изображены поселяне, занятые «крестьянскими работами», и, взглянув на них, Гортензия чуть повеселела: в особняке на шоссе д'Антен ее детская тоже была обита подобным ситцем…
– Эта комната была моей до смерти родителей, – объяснила мадемуазель Комбер, поправляя занавеси кровати после того, как туда положили Гортензию, облаченную в одну из ночных рубах хозяйки дома. – Надеюсь, что вам здесь будет неплохо. А поговорим мы позже. Моя добрая Клеманс принесет вам завтрак. Это лучший способ согреться…
– Мне уже очень тепло! Даже слишком…
– У вас жар. Кому может прийти в голову провести ночь в лесу при такой буре? Удивительно, что вы не вымокли до нитки прежде, чем Франсуа вас обнаружил.
– Он нашел меня под скалой, где я смогла укрыться после падения, – пояснила Гортензия, вспомнив историю, придуманную заранее вместе с фермером.
– Ну да, он так мне и сказал. Но какая удача, что он имел при себе все необходимое, чтобы сделать перевязку! Я знала, что Франсуа – человек предусмотрительный, но не думала, что он способен бродить по лесу, имея при себе полоски тканей и бальзам с настойкой донника. Впрочем, в нашем краю так часто случаются подобные неприятности!..
Гортензия благословила лихорадку, позволившую ей скрыть румянец, проступивший, как она чувствовала, у нее на щеках. Она все предусмотрела, кроме живого ума и проницательности хозяйки дома.
Было совершенно очевидно, что та не слишком поверила ее рассказу, но это сейчас, по существу, не имело большого значения.
Появление Клеманс, работницы с фермы, превращенной в кухарку и горничную, положило конец беседе. В руках у пришедшей было блюдо. Гортензия, не горя желанием продолжать разговор, выпила несколько глотков бульона, пощипала сладкую тартинку и, быстро насытившись, попросила, чтобы ей позволили поспать.
Не то чтобы ее действительно клонило в сон, – впрочем, она и впрямь ощущала упадок сил, – просто таким образом она получала подходящий предлог побыть одной.
– Поспите, – одобрила ее решение мадемуазель де Комбер. – Это тоже прекрасный способ одолеть неприятную простуду, которую вы подхватили. Если дело не пойдет на лад, придется прибегнуть к помощи доктора Бремона, но, думаю, у меня достанет умения вылечить вас. Бедная моя матушка вечно страдала насморком.
Сказав это, Дофина вышла, решительно потряхивая ярко-зелеными бантами, украшавшими ее большой кружевной чепец, и Гортензия осталась одна, надеясь с толком распорядиться отпущенным временем, чтобы обдумать происшедшее. Но она переоценила свои силы, и усталость взяла свое. Через несколько минут после ухода хозяйки дома беглянка крепко спала…
Когда она пробудилась, ее стал мучить сильный насморк. Расчихавшись до изнеможения, она обнаружила, что глаза и нос превратились в неиссякаемый источник. Увидев это, Дофина напоила ее какими-то отварами, снадобьями на меду, теплым молоком и вдобавок – легким снотворным, снова отправившим девушку в страну грез вплоть до следующего утра. Но когда глаза ее раскрылись и она поглядела на розовые обои комнаты, то поняла, что чувствует себя гораздо лучше.
Поджидавшая ее пробуждения мадемуазель Комбер объявила с полнейшим удовлетворением:
– У вас прекрасное здоровье, дитя мое. А теперь надо бы вылечить вашу ногу. Это дело двух недель, и если у вас нет иных планов, было бы приятно, если бы вы подарили мне эти две недели. Не хочу быть слишком настойчивой, но мне кажется, что здесь вам было бы лучше, чем в Лозарге, где такие чудовищные лестницы. Этьен, наверное, уже убедился в этом на собственном примере, ведь ему трудно ходить и приходится лежать…
Она говорила, говорила, нанизывая фразы одна на другую, словно желая оттянуть тот миг, когда Гортензия даст ответ. Девушка мягко положила конец этому словоизвержению:
– Мне бы хотелось остаться здесь, конечно, при условии, что я не стесню вас.
Единственный расчет, определивший ее выбор, заключался в близости Франсуа Деве, негаданно сделавшегося ее сторонником. Того самого Франсуа Деве, который был другом Жана, Князя Ночи, овладевшего ее сердцем и умом и остававшегося властителем ее помыслов, несмотря на испытанное ею разочарование. Однако, кроме всего прочего, возможность провести несколько дней в доме, где царили приветливость и веселье, вместо каждодневного созерцания серых стен угрюмого Лозарга, не могла не соблазнять юную особу восемнадцати лет. Здесь самый воздух был иным!..
Из полураскрытого окна ее комнаты – действительно красивого высокого окна, а не застекленной дыры в каменной воронке – виднелась ветка полураспустившейся сирени. Она, казалось, отбрасывала отсвет на белое облачко, запутавшееся в ее листве. Оттуда лился воздух, пахнущий свежей травой и чистыми полевыми ароматами, к которым не примешивался запах сырости и тлена старых стен. Слышно было, как пела какая-то птица… Одним словом, блаженство, да и только.
Мадемуазель де Комбер в ореоле зеленых лент, бантов и кружев сидела перед этим окном за пяльцами, которые по ее приказанию перенесли в комнату Гортензии, и улыбалась. А розовый запах ее духов приятно мешался с тем, что шел из сада. Когда девушка заговорила о неудобствах, которые может причинить, улыбка Дофины сменилась взрывом смеха.
– Стеснить меня? Мое драгоценное дитя, вспомните, что я уже приглашала вас самым настоятельным образом, когда была с визитом у вашего дядюшки. И делала это из чистейшего эгоизма. Мне здесь скучновато делить время между вышиванием и мадам Пушинкой.
– Мадам Пушинкой?
– Ах да. Бог мой! Я ведь еще не представила вам мою самую лучшую и верную подругу…
Поднявшись, она отступила на шаг, и из-под складок ее платья цвета молодого мха показалась великолепная жемчужно-серая, почти серебристая кошка, самым беззаботным образом дремлющая на венке из цветов, вышитом на толстом коврике…
– Как она красива! – искренне восхитилась Гортензия. – Но было бы жалко ее будить. Она слишком сладко спит, так что мы, пожалуй, сведем знакомство позже…
Она теперь чувствовала укоры совести за чрезмерно суровый приговор, который совсем недавно вынесла в своей душе гостеприимной хозяйке дома. Ее принимали здесь как младшую сестру, обращались с ней, соблюдая величайшую деликатность. А ведь Гортензия, естественно шокированная сценой, свидетельницей которой случайно стала в Лозарге, успела отнести мадемуазель Комбер к разряду лицемерных и опасных натур. Да знала ли она, в сущности, что такое девица легкого поведения, когда она ничтоже сумняшеся сочла Дофину одной из подобных особ? К тому же она не забыла оброненное Жаном: «Любовь внушает вам отвращение? Вот уж не подумал бы…» – и теперь смотрела на собеседницу совсем иными глазами. А посему, ласково поблагодарив ее за столь любезное гостеприимство, однако, добавила:
– То, чего я желаю, – одно. То, что решит мой дядя, – совсем другое. Полагаю, ему уже известно, что я здесь?
– О своих намерениях он вам скажет сам. Он сообщил мне, что приедет завтра посмотреть, как вы себя чувствуете. Но… до того, как он явится сюда, не объясните ли вы мне, Гортензия, что вы делали в лесу при такой грозе?.. Вы бежали, как сами признались вчера. Но от чего?..
Чтобы не выглядеть навязчивой, она склонилась над своей вышивкой, выбрала прядь лазурно-голубого льна, осторожно вдела ее в игольное ушко и стала пропускать сквозь ткань, натянутую на тонкие пропиленные планки из красного дерева. Вышивка представляла собой венок цветов и лент и была выдержана в стиле голубой гризайлин по фону цвета слоновой кости; Дофина предназначала ее для кресла в собственной комнате.
Ее стратегия оправдала себя: не чувствуя стесняющего, внимательного взгляда, Гортензия после краткого колебания решилась ответить:
– От того же самого, что заставило моего кузена броситься сломя голову из замка, когда я прибыла туда: Этьен знал, что отец задумал его женить, и не хотел этого. Мне известно, что маркиз считает наш брак делом решенным, а я отказываюсь… Впрочем, мне повезло не больше, чем ему, и мои, и его усилия неисповедимо приводят нас к одному финалу: постели в вашем доме!
За своим льняным экраном мадемуазель де Комбер рассмеялась:
– Уж вы позвольте мне не сожалеть об этом. Однако не можете ли сказать, почему вы и он противитесь прожекту, который кажется весьма благоразумным? Положим, у Этьена имелись более веские причины, нежели у вас, поскольку он не был с вами знаком. Уверена, что ныне он глядит на это несколько иначе: невозможно вас увидеть и не полюбить. Что же касается вас, до меня дошел слух, будто вы питаете к вашему кузену самые дружеские чувства?
– Да, это так. Я люблю Этьена. Но не такой любовью, как было бы надо. А кто может желать брака без любви?
Глаза мадемуазель де Комбер выглянули поверх рамки пяльцев, и ее задумчивый взгляд остановился на лице девушки.
– Никто, вы правы. Меж тем именно это случается почти со всеми женщинами. Их выдают замуж, и счастлива та, кто, подобно вам, питает хотя бы теплые чувства к своему будущему супругу… Вы – девица благородных кровей, Гортензия. Эта привилегия налагает на вас определенные обязанности, и первая из них – покорность воле главы семьи!
– А если я откажусь подчиниться? – вызывающе спросила Гортензия.
– Современные законы, какие у нас есть, не позволяют вам этого. Иначе вам будет закрыт доступ в высшее общество.
– Вот уж это меня не смутит, если такова цена свободы!
– Вы полагаете? Но, бедная моя крошка, вы никогда не получите свободу, никогда! А при нынешнем царствовании особенно. Наш монарх Карл X спит и видит, как бы стереть из памяти и жизни все, что напоминает о революции. Он желает оставаться Его Христианнейшим Величеством, несгибаемым охранителем добрых нравов, устоев семьи, достоинства и хорошего тона. Что весьма забавно, если вспомнить, каким любезным он казался в бытность свою графом д'Артуа: главным версальским повесой. Однако корона меняет взгляды и характер. Могу я спросить, куда вы рассчитывали направиться, покидая Лозарг? Вы намеревались возвратиться в Париж?
– Нет. Мне слишком хорошо известно, что в Тюильри не желают меня видеть. Я надеялась достичь Клермона и явиться к мадам де Мирефлер, моей тете, к которой мать была так привязана…
– И которая помогла ей выйти замуж за вашего отца. Что ж, выбор неплох. Но уверены ли вы, что вас там примут?
– Почему бы и нет, если она любила мою мать? Утверждают, что я на нее похожа…
Не говоря ни слова, Дофина отложила пяльцы, поднялась, вышла из комнаты и тотчас вернулась, держа в руках письмо в траурной рамке. Она протянула его Гортензии.
– Вот почему я уверена, что вас не приняли бы, дитя мое. Ваша тетушка мадам де Мирефлер две недели назад угасла в Авиньоне. Вчера утром я получила извещение о ее кончине… Ах! Вот вы и заплакали! Но вы ведь ее совсем не знали?..
– Вы не можете понять! – вскричала девушка, с яростью отбросив от себя письмо, которое опустилось на ковер, как мрачная птица…
Мадемуазель де Комбер его подобрала, сунула в кармашек у пояса, подошла и присела на край кровати. Потом притянула Гортензию к себе.
– Да я ведь все понимаю! Вы ее не знали, но видели в ее доме возможное убежище, путь к достойному отступлению перед волей маркиза!.. Теперь у вас никого нет… кроме меня!
Вся в слезах, Гортензия с робкой надеждой взглянула на нее.
– Вас? Но разве не вы только что проповедовали мне покорность «главе семьи»?..
– И продолжаю проповедовать, поскольку считаю, что это и есть единственный способ обрести свободу, если не полную, то значительную.
– Не вижу, как это сделать.
– А я вам сейчас объясню. Мой кузен Фульк решил, что вы должны стать супругой Этьена, и добился полного одобрения своих замыслов у короля и двора.
– Откуда вам это стало известно? Я не сказала ни слова.
– Вы забываете, что в Париже мы были вместе. Это должно было вас шокировать, но именно тут одна из привилегий, коими у нас пользуются старые девы. А я старая дева… Увы, это состояние, с которым мне не жалко было бы расстаться…
– Мне бы оно вполне подошло.
– Не говорите глупости! Вы созданы для настоящей женской доли: вам надо любить, быть любимой, дать начало новой жизни, основать династию, – делать все, в чем мне навек отказано в этой затерянной деревенской дыре, где я трачу свою жизнь на уход за кошкой и вышивки, которые мне некому завещать. Подумайте, что для вас единственная возможность отправиться жить подальше отсюда – это выйти замуж за Этьена!
– В самом деле? Хотелось бы знать как! Мой дядя желает этого брака, потому что ему необходимо мое состояние. Он спит и видит, что я сделаюсь женой его сына и буду проводить дни и годы в замке, глядя, как падает снег, дождь, осенняя листва, и ожидая, когда же выпадут мои собственные волосы…
– Да нет же, вы выйдете замуж за Этьена, превратитесь в графиню де Лозарг, то есть в полную властительницу мужа, у которого никогда не было собственного мнения: ведь в новой семье вы станете царствовать безраздельно. Кроме всего прочего, я думаю, что он вас любит.
– Это ничему не поможет, если в конечном счете мой дядя будет властвовать над нами обоими!
– Да поймите же, несчастная дурочка: пока вы несовершеннолетняя девица, у вас нет никаких прав, никакой власти, вы существуете – и только. А став графиней де Лозарг, вы обязаны отдавать отчет в своих действиях только собственному мужу, каковой и сам тогда получит полную власть над собой. Ни маркиз, ни даже король не смогут ему в этом отказать. Вы вправе уехать в Париж. Вам даже придется это сделать, чтобы законным образом вступить во владение своим состоянием! И вы наконец станете свободной… поскольку быть замужем за Этьеном значит не быть замужем вовсе!
Охваченная жгучим желанием убедить собеседницу, мадемуазель де Комбер перешла на крик, разбудивший мадам Пушинку. Кошка сначала окинула хозяйку возмущенным взглядом своих золотистых глаз, затем потянулась, зевнула, показав маленькую розовую пасть, а после этого прыгнула на кровать, чтобы лучше рассмотреть ту, что послужила причиной беспокойства. Ее прыжок отвлек их и заставил Гортензию улыбнуться. Она протянула руку, чтобы приласкать пушистого зверька. Кошка с задумчивым видом поглядела на нее. Без сомнения, она осталась довольна увиденным, а потому пустилась в путь по ложбинкам розовой перины и, урча, стала тереться о руку девушки.
– Она признала вас, – заметила мадемуазель де Комбер. – А это привилегия, ибо она весьма разборчива. Так, она питает отвращение к моему кузену Фульку. Но с вами… Смотрите-ка, ведь ее и ваши глаза имеют одинаковый золотистый оттенок.
Она встала, подошла к зеркалу, поправила кружевной чепец, потом дернула за расшитый шнур, висевший рядом.
– Попрошу Клеманс принести чай, – сказала она со вздохом человека, перенесшего тяжелое испытание. – Это не помешает нам обеим.
Теперь мадам Пушинка стала кружиться по постели, ища для себя подходящее место, и наконец улеглась под боком у Гортензии, скрепив таким способом их договор об обоюдной симпатии…
– Вы любите животных? – спросила Дофина, наблюдавшая за этим зрелищем.
– Да, люблю. Всех! – добавила Гортензия, вспомнив о Светлячке, огромном верном волке.
– Они – отрада тех, кто никогда не имел счастья укачивать ребенка. Но только представьте, Гортензия, что вместо мадам Пушинки – младенец. Он здесь, рядом, лежит, прижавшись к вам. Ради этого счастья, вы уж поверьте, я перенесла бы все казни египетские и всех маркизов де Лозарг прошлого, настоящего и будущего! Послушание может показаться вам тяжелым, но, когда идет речь о таких девушках, как вы, оно способно стать источником великих радостей. Подумайте о той власти, которую вы вручите своему сыну. Кольцо замкнется! Дитя будет де Лозаргом и останется вашим в большей мере, чем какой бы то ни было возлюбленный. О моя малышка, подумайте! Послушайте меня! Не противьтесь тому, чтобы ради вас перед замком посадили куст можжевельника!
– Можжевельника?
– Это обычай в день свадьбы! Вот почему так много можжевельника в наших горах. Он стал прообразом семейного дерева, которое вырастет из нового супружеского союза и раскинет свои ветви над землей…
Появившаяся с чаем на блюде Клеманс прервала монолог хозяйки, и та, видимо решив, что сказано достаточно, умолкла и с улыбкой передала чашку Гортензии. Впрочем, последняя тоже чувствовала, что исчерпала все доводы. У нее было слишком много здравомыслия, чтобы не понимать, что есть доля мудрости в словах кузины. Эта мудрость не была ей по сердцу, но, быть может, вполне соответствовала бы умонастроению ее матери, если бы та однажды не повстречала молодого парижского банкира. Человека, готового взять на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь той, которую любил. Все, на что волчий пастырь, одинокий житель каменной хижины, прилепившейся к скале, был не способен. И однако, сколь бы сирым он ни выглядел в сравнении с ее отцом, Гортензия отправилась бы за ним на край света, на самое дно нищеты, ибо как по возрасту, так и по душевной склонности принадлежала к тем натурам, чей разум не властвует над сердцем. Однако Жан, Князь Ночи, не пожелал вести ее в те края по своим трудным дорогам. Может, потому, что любил ее недостаточно? Или слишком сильно?..
До самой ночи Гортензия оставалась в обществе своих мыслей и мадам Пушинки, чей мягкий мех она время от времени поглаживала.
На следующий день мадемуазель де Комбер и Клеманс помогли ей одеться и спуститься в салон. Там ее ожидали кушетка с огромной стопой подушек и подушечек, которые поддерживали ее не хуже, чем добрая постель, но позволяли принять достойную позу. И правда, Гортензию отнюдь не прельщало принимать маркиза, лежа в кровати. В сложившихся обстоятельствах беседа с ним не могла не перейти в столкновение, и юная бунтарка желала сохранить за собой возможность встать и, пусть прихрамывая, покинуть поле боя, если дело примет слишком неприятный оборот. А кроме того, здесь перед ней был сад, от которого ее отдаляли только три высоких окна, и она испытывала необъяснимый прилив сил при виде распускающихся голубых колокольчиков. Эта обстановка не могла стать благоприятным полем для грубых маневров повелителя Лозарга: ему было бы неуютно среди скромного очарования стародевического сада. Впрочем, мадемуазель де Комбер никак не хотелось бы называть старой девой. Ее салон служил как бы продолжением сада и весь расцветал розочками, аккуратно вышитыми на изящных креслах, на двух канапе и кушетке.
– Люблю цветы! – решительным тоном часто повторяла хозяйка дома, и ее проворная игла рассеяла их повсюду, вплоть до завязок на больших полотняных портьерах бледно-зеленого цвета. Цветы стояли и в двух несколько простоватых фаянсовых вазах, украшавших полку камина, в котором горели пахучие сосновые поленья. Все это, как казалось Гортензии, поддерживало ее хорошее самочувствие. Нога уже не заставляла ее страдать, и ей было удобно в платье зеленого бархата, одолженном радушной хозяйкой.
Маркиза ждали к завтраку, но ближе к полудню появился не он, а Франсуа Деве с охапкой сирени в руках.
– Это из дальнего конца сада, они так хорошо пахнут, – объяснил он Дофине, упрекнувшей его в том, что он не принес их на кухню, как обычно. – Мне показалось, что мадемуазель будет приятно вдохнуть их запах, пока они свежи.
– Как это мило! – вскричала Гортензия, протягивая руки к роскошной бледно-лиловой охапке…
– Что за ребячество! – протестующе воскликнула мадемуазель де Комбер. – Вы будете дышать ими с тем же удовольствием, когда они окажутся в вазах. Ну же, несите их к Клеманс, слышите, Франсуа! Я пойду с вами, посмотрю, как там завтрак. Маркиз вот-вот явится!
Она взяла с кушетки цветы, но Гортензия уже накрыла спрятанную в них записку краем покрывала, которым были закутаны ее ноги.
Оставшись одна, она развернула тайное послание, и волна радости захлестнула ее при виде подписи Жана. Однако несколько строк на листке тотчас ввергли ее в отчаяние и тревогу.
«Ваше замужество – дело решенное. Сопротивляться бесполезно: не поможет. Вы лишь усугубите опасность, грозящую вам и вашему кузену. Единственная надежда: выиграть время. Соглашайтесь на этот брак, но лишь при двух условиях: чтобы вас обвенчал старый аббат Кейроль и сделал это в часовне, которая сейчас заколочена. Верьте мне, умоляю. Тот, кто желает навсегда оставаться вашим безмерно преданным Жаном…»
В полном расстройстве чувств Гортензия дважды перечитала короткую записку, но под конец та все же несколько приободрила ее. Была какая-то чувственная радость от возможности трогать этот лист бумаги, поглаживать пальцами начертанные на нем строки, но главное – она уверилась в том, что Жан все еще пытался охранить ее. Он терзался, искал пути к спасению, средства ее защитить. Быть может, он уже подготовлял бегство, устроить которое обещал? В этом случае он прав: время было самым драгоценным оружием против соединенной воли короля и властителя Лозарга…
Вот почему, когда через несколько минут маркиз появился на пороге, Гортензия вновь была тверда и спокойна. Записка, спрятанная за корсаж, придавала ей сил.
Уже достаточно знакомый с характером племянницы и ее выходками, господин де Лозарг поостерегся появляться в обличии ангела мщения, пришедшего за своей жертвой. Напротив, он вооружился улыбкой и обаянием, коего был не чужд. А если и упрекал ее, то лишь в том, что она отважилась на прогулку в столь позднее время по местам, ей неизвестным и к тому же опасным из-за причуд здешней погоды и сокрытых от глаз природных ловушек.
В залог грядущего мира он даже захватил две книги, чтобы развлечь заболевшую строптивицу. Они назывались «Урика» и «Эдуард» и четырьмя годами ранее наделали шума в светском обществе. Теперь же из-за смерти их автора, герцогини де Дюра, последовавшей в минувшем январе, были изданы большим тиражом, и о них заговорил весь Париж. Гортензия испытала живейшую радость, получив книги, о достоинствах которых ранее уже слышала, но не имела позволения их читать, поскольку на их страницах шла речь о любви людей с разным цветом кожи. При всем том она не ослабила бдительности, памятуя некую латинскую поговорку, призывавшую опасаться данайцев, дары приносящих. Она и впрямь не была способна, даже если бы захотела, питать к дяде хоть какое-то доверие.
Они не успели потолковать об ожидающих ее переменах: пришло время завтракать, и все отправились к столу. А так как мадемуазель де Комбер не терпела деловых разговоров во время еды, беседа вращалась вокруг последних светских новостей из Парижа, откуда Дофина выехала гораздо ранее кузена. Маркиз живописал, притом весьма красноречиво, каким горьким испытаниям подверглось честолюбие господина де Шатобриана, утратившего надежду получить портфель министра иностранных дел в правительстве Мартиньяка, и как знаменитый писатель все еще осаждает прекрасную мадам Рекамье. И все это в живой, приятной манере, с немалым остроумием, высветившим еще одну грань этого странного характера: способность быть именно таким сеньором, каковые некогда ценились в Трианоне среди очаровательного и несколько фривольного окружения Марии-Антуанетты.
Лишь когда все вернулись в салон, куда подали кофе, и Гортензия вновь устроилась на кушетке, тон разговора резко изменился. Сначала повисло напряженное молчание, и было вполне очевидно, что оно объясняется не только смакованием ароматного напитка. К примеру, мадемуазель де Комбер проглотила содержимое своей чашки без малейшей претензии на изящество и покинула салон, пробормотав несколько слов в свое оправдание, на которые Гортензия и маркиз совершенно не обратили внимания. И вот они остались одни лицом к лицу…
Снова воцарилось безмолвие, показавшееся беглянке нескончаемым. Теперь она чувствовала себя усталой от стольких сказанных всуе слов, и ей не терпелось перейти к предметам серьезным, однако маркиз не торопился. Смакуя вторую чашечку кофе, он поверх нее разглядывал свою племянницу. Наконец, убедившись, что ему более нечего ожидать ни от чашки, ни от пустого кофейника, он опустил хрупкий предмет на столик, удобнее устроился в кресле и мягко заговорил:
– В наш последний вечер я позволил себе разгорячиться больше, нежели то приличествует, и весьма желал бы, чтобы вы соблаговолили принять мои извинения. Вероятно, причиной тому долгое путешествие… Итак, мне бы хотелось, чтобы мы в более мирном духе продолжили ту беседу, которая завершилась столь прискорбно…
– Зачем же начинать все сначала? Мне, например, кажется, что мы уже все сказали друг другу… Вам придется простить меня, дядя, если я в чем-то задеваю ваши чувства, но я не могу добавить ничего, кроме того, что думаю. А мысли мои просты: я не горю желанием вступить в брак. По крайней мере так скоро…
– Я это все прекрасно понял. Но теперь ваша очередь уяснить себе: когда король отдает приказ, никто не вправе уклониться или хотя бы отсрочить его исполнение. А король приказал.
– Чтобы я вышла замуж за кузена?
– Разве вы не видели так же ясно, как я, документ, где выражена его воля? Эта женитьба – дело решенное в слишком высоких сферах, чтобы вам было позволено малейшее сопротивление.
– Вы уже беседовали с Этьеном?
– Конечно. И чтобы быть совершенно честным, признаюсь, что он также изо всех сил противился этому плану, что, впрочем, не застало меня врасплох. Однако… я сумел найти доводы, способные его убедить, и теперь он совершенно готов сделать вас своей супругой…
– Какие доводы?
Маркиз встал и сделал несколько шагов по салону, выбирая позу, позволяющую ему возвышаться над лежащей на кушетке собеседницей.
– Вам незачем это знать. Между отцом и сыном существуют такие области согласия, которые для вас совершенно недоступны. Теперь мне осталось уговорить вас одну!..
– Боюсь, что это будет не так легко.
На какое-то время маркиз перестал медленно прохаживаться и воззрился на племянницу с полуулыбкой, в которой явственно сквозила ирония.
– Не стоит заблуждаться на сей счет, моя драгоценная Гортензия. Я делаю огромную уступку вам и тому, что вы принадлежите к нежному полу, подыскивая доводы, способные смягчить строгость выражений королевского приказа, однако…
– Однако?..
– Однако они совершенно не являются необходимыми для завершения нашего дела.
– А это значит… что вы намереваетесь обойтись без моего согласия?
Тон беседы становился все более резким. Клинки уже скрестились, но, по сути, Гортензия сражалась лишь для спасения чести и самолюбия, ибо знала, что схватка заранее проиграна. Действительно, торжествующая усмешка маркиза становилась все откровеннее, в то время как его голос делался на удивление все более мягким, любезным, почти радостным:
– Выражение «намереваетесь» неточно, дитя мое. Я уже решился исполнить именно то, чего ждет от меня король. Не далее как завтра я отправлюсь в Сен-Флур, чтобы встретиться там с мэром и епископом. Ваша свадьба состоится в Иванов день в тамошнем соборе. Потом мы завершим церемонию торжественным обедом в старинном замке Лозаргов, принадлежащем моему кузену, который мне его по сему славному случаю предоставит в распоряжение, дабы придать празднеству больший блеск, чем это возможно в нашем собственном замке.
– Мне показалось, что вы собирались задать бал в своем доме, – язвительно заметила Гортензия.
– Бал и будет иметь место, но в нашей древней резиденции. Здешний замок никак нельзя привести в порядок за два месяца.
Лицо маркиза лучилось тщеславием. Теперь он, без сомнения, предвкушал роскошь торжеств, которым собирался ослепить кантальскую столицу. После десятилетий добровольного прозябания в тени, почти в нищете, Лозарги вновь выйдут на первые роли и заблистают на великой мировой сцене…
Какое-то время Гортензия разглядывала его, одновременно забавляясь и печалясь видом этого иллюзорного сияния, которое запечатлелось на лице человека, чудесным образом обласканного фортуной. А затем ее ясный спокойный голос положил предел его энтузиазму, отрубив, как топором палача:
– Если вы действительно желаете, чтобы этот брак случился, вы избавите меня от подобных церемоний.
– Что вы хотите сказать?
– Что я согласна выйти замуж за Этьена, коль скоро, по всей видимости, нет средства избежать этого. Но я не желаю служить посмешищем Сен-Флура. Чтобы между нами не было недомолвок, я ставлю два условия, соблюдение которых необходимо для моего согласия.
Маркиз даже вскрикнул от удивления.
– Условия? Я вообще-то не вижу, как вы можете их ставить? От вас ждут согласия, хотя и это лишь пустая формальность.
– О, сейчас увидите! Если вам надо, чтобы я стала графиней де Лозарг, то это случится в часовне замка, в присутствии всех людей, живущих в окрестностях – в замке и в деревне, как это всегда делалось в наших семьях. Я хочу быть обвенчанной в часовне Святого Христофора, чтобы это стало знаменательным днем для всех окрестных жителей, которые вновь обретут доступ в святую обитель, что им так дорога… По крайней мере тогда найдется много счастливых людей, хоть я и не буду из их числа. Что касается моего второго условия…
– Какое безрассудство! – прервал ее маркиз. – Я вам уже говорил, что вся постройка в плачевном состоянии и…
– Меня это не интересует. Пусть останется лишь одна стена за алтарем – я удовольствуюсь и этим. К тому же на Иванов день стоит жара. Время-то летнее. А если надо предпринять какие-то работы, я напишу в Париж, чтобы прислали необходимую сумму. Поймите же меня, дядя! Моя мать вышла замуж вдали от этих мест. Если вы желаете, чтобы я впрямь сочла Лозарг своим домом, мне нужно венчаться здесь!..
Возмущение и гнев, которым маркиз не осмеливался дать волю, настолько естественным было желание Гортензии, были столь велики, что он застыл, превратившись в каменное изваяние, всем своим видом выражая несогласие. Желая внести некоторое умиротворение, Гортензия позволила себе улыбнуться:
– Мадемуазель де Комбер сообщила мне, что существовал обычай во время свадьбы сажать можжевеловый куст перед домом невесты. Мне кажется, весьма затруднительно и нелепо сажать что бы то ни было перед собором в Сен-Флуре…
Но маркизу было не до улыбок:
– Мне бы хотелось услышать и второе ваше условие…
– Оно отчасти связано с первым. С тех пор как я нахожусь здесь, я часто слышу хвалы, воздаваемые аббату Кейролю…
– Этот жалкий, ничтожный клирик? Этот мальчишка?
– Вы меня не поняли. Я говорю о вашем прежнем капеллане, старом аббате Кейроле.
На сей раз в ледяных глазах повелителя Лозарга вспыхнула настоящая ярость, к которой – Гортензия могла бы поручиться в этом – примешивалась немалая доля страха… Но он ограничился сухим ответом:
– Вы требуете невозможного. Аббат Кейроль в слишком преклонных летах. Его трудно стронуть с места…
– Я бы, однако же, хотела, чтобы его попросили об этом. Если он откажется, что ж, посмотрим!
– А если я откажусь выполнить ваши условия? Если я сейчас скажу, что вы будете обвенчаны так, как я задумал? Если я настою…
– Ни на чем не следует настаивать, дядя! Полагаю, вам не понравится, если я в присутствии многочисленных гостей отвечу «нет», когда меня спросят перед алтарем, хочу ли я взять в мужья моего кузена. Голос так далеко и громко разносится под сводами собора…
– Вы не осмелитесь!
– Не заставляйте меня бросать вам вызов, дядя! Ведь второе мое имя – Наполеона…
Возвращение мадемуазель де Комбер положило конец этой сцене, которая грозила затянуться до бесконечности. Присутствие грациозной улыбающейся дамы погасило в душе Гортензии боевой задор. Но маркиз, застыв, продолжал стоять, неестественно выпрямившись, вне себя от досады на дерзкую особу, осмелившуюся ему перечить. На висках у него бились жилки, и нетрудно было догадаться, что он прилагает чрезвычайные усилия, чтобы не разразиться угрозами и оскорблениями. Наконец он отвел глаза от девушки и обратил к Дофине взгляд, в котором сквозила усталость.
– Ну, что же? – спросила та. – Вы достигли согласия?
– Пришлось, – раздраженно выпалил он. – Итак, мы посадим в Лозарге свадебный можжевельник этим летом в День святого Иоанна… А до тех пор, кузина, вы окажете мне большую любезность, оставив Гортензию у себя. Ко всему прочему, негоже ей жить под одной крышей со своим женихом.
И, не добавив ни слова, он выбежал прочь.
Глава IX
Брачная ночь
В первое воскресенье мая в Комбере праздновали обручение Гортензии Гранье де Берни и Этьена де Лозарга. Стоял серый холодный день – такую погоду садовники называют «черемуховая зима», поскольку нередко цветение этого деревца совпадает с возвращением холодов. Это позволило Годивелле (получившей от маркиза приказ помочь Клеманс, употребив здесь свое кулинарное искусство) бурчать, что ненастье поделом всем им, так как красивый месяц, месяц май заповедан девичеством Пресвятой Богородицы и вовсе не подходит для свадебного сговора.
– «Майский брак к напасти!» – голосом пифии предрекала она. – И еще: «Не подобает разводить в мае брачные костры, от них же потом зажигают похоронные факелы…»
Коль скоро было понятно, что у нее в запасе еще немало столь же жизнерадостных сентенций, мадемуазель де Комбер суховато заметила ей, что все идет только к обручению, а свадьба состоится лишь в конце июня. Но Годивеллу было трудно сбить с избранной тропки. Она уверяла, что это одно и то же, так как обручальное кольцо будет освящено в церкви и поэтому в будущем уже невозможно расторгнуть союз, который скрепляется священником.
Гортензия знала об этом и с каждым часом теряла надежду. Прошло лишь две недели после ее стычки с маркизом, а больная нога все еще не позволяла ей покидать дом. Удавалось лишь доплестись, прихрамывая, до сада, притом с обеих сторон ее поддерживали Дофина и Клеманс. Между тем Франсуа постоянно копался в саду: обрезал фруктовые деревья, сажал рассаду капусты, салата, порея и семена овощей. Однако, несмотря на страстное желание что-либо узнать, Гортензия не могла ни сказать, ни услышать иных слов, кроме банальных замечаний о погоде и видах на урожай от сада и огорода. О чем еще можно было говорить под бдительным оком двух стражей? Оставался язык взглядов: когда она видела, что дамы смотрят в другую сторону, ее глаза умоляли, заклинали работника сообщить что-нибудь о Жане. Увы, на ее немые мольбы Франсуа лишь виновато пожимал плечами.
Где Жан? Что он делает? Почему не подает признаков жизни? Получив его краткое послание, Гортензия понадеялась, что держит в руках оружие, способное по крайней мере заставить маркиза отложить бракосочетание, быть может, даже на неопределенный срок. Но, по всей видимости, он примирился с необходимостью открыть часовню Святого Христофора. Там уже велись какие-то работы – об этом сообщил Пьерроне, дважды являвшийся с письмом от своего хозяина к мадемуазель де Комбер. Удалось ли помириться с аббатом Кейролем? Во время своего второго визита племянник Годивеллы поведал, что в Шод-Эг направляется господин Гарлан, видимо наделенный полномочиями чрезвычайного посла, и что он намерен по поручению своего повелителя встретиться со старым священником. Услышав это, девушка тотчас перебила его:
– Почему же дядя не отправился сам?
Бедный Пьерроне ничего не мог ответить на ее вопрос. Вместо него за это взялась мадемуазель де Комбер:
– Мой кузен не надеется сладить со своим порывистым нравом, похожим, впрочем, на характер старого аббата… тоже, надо заметить, не слишком сговорчивой персоны. Кроме того, во времена, когда старый священник жил в Лозарге, он, будучи человеком глубокомысленным и исполненным ученой премудрости, поддерживал прекрасные отношения с наставником Этьена, чьи познания весьма ценил. Их обоих роднила любовь к истории и старым камням. Хотя при всем том их цели были весьма различны: аббат в основном интересовался остатками древнехристианской культуры.
– А господин Гарлан – прошлым рода Лозаргов?
– Не только этим. Он, конечно, не слишком вдается в объяснения, но я давно подозреваю, что он занят поисками легендарного клада, зарытого его однофамильцем, предводителем бандитов Бернаром де Гарлааном…
– Если бы в Лозарге было сокровище, уверена, что дядя сумел бы его отыскать!
– Таково и мое мнение. Прибавьте сюда, что Бернар де Гарлаан захватывал и другие крепости. Но готова поставить доброе ручательство против горсти орехов, что наш Гарлан несокрушимо и свято верит: клад спрятан здесь! Что бы там ни было, мой кузен выказывает немалую ловкость и обходительность, высылая вперед своего ученого гонца. Тот прощупает почву, подготовит старика, и, если сумеет склонить к согласию – маркиз собственной персоной объявится в Шод-Эге…
– Понимаю. Но, может быть, вы объясните мне, любезная кузина, коль скоро от вас тут ничто не скрыто, почему же повздорили дядя и капеллан после смерти моей матери? Что послужило причиной их ссоры и отчего маркиз до сих пор не остыл от своей давней ярости?
Однако Дофина лишь встряхнула бантами и кружевами чепца.
– Увы, узнать это мне так и не пришлось. Несмотря на близкие… гм… отношения, существующие между нами, ваш дядя не склонен делиться со мной тайнами своей души. Он вообще не любитель исповедоваться перед кем бы то ни было…
Никакие иные новости до них не доходили. Кроме той, что венчальное кольцо взялся освятить каноник, отец де Комбер, один из немногих оставшихся в живых родственников Дофины; его визита ожидали со дня на день. Гортензия не могла отказать в этой маленькой услуге Дофине и собору в Сен-Флуре, к капитулу которого принадлежал святой отец. Но ее сердце съедала тревога: ведь как только кольцо окажется у нее на пальце, она будет считаться почти супругой. А она убедилась, что из Комбера убежать еще труднее, чем из Лозарга. Ибо здесь с нее, по сути, ни на минуту не спускали глаз.
Даже если бы растянутая нога снова обрела былую подвижность, – а позови ее Жан, и она заставила бы себя идти, невзирая ни на какую боль, – у нее не было ни малейшей возможности выбраться на волю: ее никогда не оставляли одну. И ночью бегство представлялось столь же немыслимым: ее спальня примыкала к покоям Дофины, и, чтобы ее покинуть, приходилось пересечь туалетную комнату хозяйки дома.
– Моя матушка считала, что за девицей надобен строгий надзор, – объяснила та. – И по сему случаю велела наглухо забить дверь в коридор. Признаюсь вам, я просто не подумала о том, что можно открыть ее заново.
Действительно, такая дверь имелась, но со стороны коридора ее заслонял огромный бельевой шкаф. Это не оставляло шансов для ночного побега тем более, что путь через окно был вовсе недоступен: окно выходило на угол дома, под которым отвесно обрывалась вниз скала, и пары простынь не хватило бы на веревку, достаточную, чтобы спуститься на дно обрыва…
Но накануне решающего дня – о, чудо! – Гортензия, встав с постели, обнаружила, что нога больше не болит и на нее можно ступать без малейшего неудобства. Она почувствовала такую радость, что чуть не бросилась поделиться доброй новостью с мадемуазель де Комбер. Однако она вовремя сообразила, что вовсе не так уж необходимо, чтобы кто-либо знал о ее выздоровлении; мало того, ей весьма на пользу, если еще какое-то время все будут полагать, будто она не может ходить.
Между тем дом уже начал сотрясаться сверху донизу в суете, свойственной приготовлениям к большому приему. Из шкафов вынимали белье для комнаты каноника и посаженной матери Гортензии, старой графини де Сент-Круа, которая под вечер, как ожидали, должна была прибыть из Лагиоля. Прочие приглашенные – барон д'Антремон с супругой и наместник епископа отец д'Эйди – обитали в своих родовых поместьях невдалеке отсюда и собирались к ночи вернуться домой, равно как ее жених и маркиз. Раскрывались сундуки для ревизии посуды большого обеденного сервиза из марсельского фаянса, украшенного букетами розочек, старинных хрустальных бокалов и столового серебра, которое надлежало хорошенько протереть испанским мелом, притом не жалея рук, после чего оно должно было обрести зеркальный блеск. Наконец, вскоре должна была прикатить Годивелла в сопровождении Пьерроне – их в своей «бароте» обязался привезти Шапиу. Ее прибытие, а также всеобщая суматоха неминуемо должны ослабить надзор за Гортензией, ведь на кухне уже начался танец кастрюль; теперь у Клеманс должно хватить забот и помимо сопровождения постоялицы, медленно прогуливающейся по саду…
После чая на кухне вспыхнула настоящая перепалка между Клеманс и Годивеллой по поводу того, сколько меда и миндаля следует положить в некий пирог. Крики двух почтенных дам проникли сквозь стены и долетели до салона, тотчас оторвав мадемуазель де Комбер от ее вышивания… Преисполненная надежд, Гортензия подождала несколько минут и, слыша, что шум голосов усиливается, наконец решилась: взяла для виду тросточку, которую ей дали, чтобы она могла передвигаться по дому, открыла балконную дверь и вышла в сад. Она достаточно знала Годивеллу, чтобы рассчитывать на продолжительное выяснение отношений, особенно если кто-либо неосторожно подверг сомнению ее верховенство в вопросах кулинарии…
Около балконной двери была посыпана щебенкой небольшая площадка, далее под легким уклоном вниз шла тропа к большой купе деревьев, скрывавшей реку. Сад показался Гортензии красивее, чем когда-либо, ведь ей впервые удалось проникнуть сюда без сопровождения. Повсюду сверкающими желтыми ракетами раскрывались цветки дрока, а живые изгороди утопали в кипении цветущего боярышника. Сирень уже отцвела, но настала пора левкоев, их аромат разносился в воздухе и перебивал запах дыма из труб замка. Но вся эта красота меркла в глазах Гортензии перед тусклым блеском воды, просвечивавшей внизу сквозь ветки деревьев. Эта река текла мимо дома Жана. Она может привести к нему.
Она не думала ни о чем, кроме одного: ей надо бежать к тому, кого она любит, укрыться вместе с ним в какой-нибудь горной расщелине, сделать так, чтобы между ней и церемонией обручения встало непреодолимое препятствие. Ибо она знала, что такое возможно. Ее мать в день, когда дочери исполнилось шестнадцать, по настоянию отца, обеспокоенного слишком пышным расцветом девушки, предостерегла ее против неких опасных порывов чувства… безрассудных увлечений… Но никакое влечение не могло быть сильнее того, что вело ее к Жану. Ей уже казалось: она видит меж обросших лишайником еловых стволов его мощную фигуру; вот он широким шагом продирается сквозь кусты, гордо подняв голову… Увидеть его вновь! Обрести возлюбленного! А потом – забыть обо всем!
Иллюзия была такой полной, что она позвала:
– Жан!.. Жан!.. Подожди меня!
Мужчина повернулся к ней и стал приближаться. Гортензия не смогла сдержать стона разочарования, это был всего только Франсуа!.. Но он уже подбегал к ней, преграждая дорогу.
– Мадемуазель! Что вы здесь делаете? Почему вы одна? Я думал…
– Что я еще не могу ходить? Уже могу, как вы убедились, Франсуа! Но там, наверху, ничего пока об этом не знают! Я воспользовалась кухонной ссорой и сбежала!
– Но куда вы хотите податься? Я слышал, вы звали Жана…
– Завидев вас, я подумала, что это он! О Франсуа, отведите меня к нему! Ведь завтра обручение! А я не хочу! Не могу!..