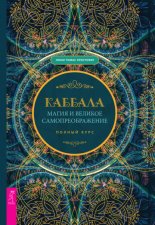Сварить медведя Ниеми Микаель

Я то и дело перечитываю одну книгу. Имя главного героя – Карл. Человек, живущий в грехе, пьяница и вор. Мать рыдает и пытается наставить его на путь истинный, брат дает ему деньги взаймы, он все пропивает и проигрывает в карты, а про то, чтобы отдать долг, и речь не заходит. Карл уже занес ногу над бездной, остался последний шаг. И вот происходит неизбежное. Его жестоко избивают за карточные долги, отбирают всю одежду и оставляют лежать голым и израненным в канаве. Он не может встать и чувствует, как его сковывает холод, как жизнь неотвратимо просачивается сквозь раны.
И вдруг слышит голос. Он поднимает глаза и видит девочку-нищенку. Все, что у нее есть, – холщовый мешок с сеном. Она заботливо укрывает замерзающего Карла, становится на колени и молится за него, умоляет Господа залечить раны погибающего. И – о, чудо! – кровотечение прекращается. Подошедший полицейский помогает нищенке поднять несчастного, и они отвозят беднягу в странноприимный дом, где его укладывают в постель и начинают лечить.
Он постепенно выздоравливает и начинает всех расспрашивать – кто же была эта девочка, спасшая ему жизнь? Но никто ничего не знает. Мало того – никто ее не видел. Тогда он идет в город, чтобы попробовать ее найти. Спрашивает каждого встречного-поперечного, описывает, как она выглядит. Ее нигде нет, и он понимает, что ему никогда не удастся поблагодарить эту девочку, поделившуюся с ним последним, девочку, спасшую ему жизнь. В отчаянии падает он на землю, и тогда с ним происходит чудесное превращение: он наконец находит путь к спасению и всю свою долгую жизнь посвящает помощи нищим и обездоленным.
В книге подробно описаны все замечательные поступки Карла: как он стал честно трудиться, как заработал много денег, как открыл приют для брошенных детей, как благодаря его красноречию воспрянули духом и спаслись тысячи и тысячи, как сам президент приехал, чтобы пожать ему руку. А в конце утверждается, что все описанное в книге – чистейшая правда и что развернулись эти события в совершенно определенном месте, это место легко найти на карте: американский город Филадельфия.
Мне очень нравится эта книга. Некоторые отрывки я даже выучил наизусть. Я вижу происходящее так, будто все происходит у меня на глазах. Я вижу, как Карл лежит на своем смертном ложе, как его перед кончиной успевает простить брат, как светит в окно неяркое солнце… И последнее, что он успевает почувствовать в земной жизни, – запах еловой хвои и молока. Мне кажется, я тоже чувствую этот запах. Я сижу, закрыв глаза, потом открываю книгу на первой странице, где Карл ударил лопатой работника за то, что тот попытался помешать ему совершить кражу.
И самое главное: хотя Карлу так и не удалось найти спасшую его девочку-нищенку, он не переставал искать ее всю оставшуюся жизнь. Забыть ее он не смог.
Но самое удивительное в этой книге – ее можно читать наоборот, с конца. Тогда Карл вначале богобоязненный и справедливый, а потом – драчливый, вороватый, бессовестный. Зверь, одним словом. А можно перескакивать: в конец – в начало, в конец – в начало. Тогда Карл постоянно меняется. То хороший, то плохой. Вся жизнь между кожаными крышками переплета, а в жизни, мне кажется, так оно и есть. То хороший, то плохой, хотя… нет, в жизни не так. В жизни время идет в одном направлении, а в книге со временем можно делать все что хочешь. Даже жутковато.
На полке у проста книги стоят корешок к корешку, стоят и загадочно поблескивают старой позолотой, а между корешками полно самых разных времен. Время, которое пошло, чтобы книгу написать, время, которое в ней описано, время, которое тебе понадобилось, чтобы ее прочитать. А если полка длинная, книги вмещают куда больше времени, чем длится жизнь. И времени, и мыслей – думай хоть с утра до ночи, столько не надумаешь. А если сидеть всю жизнь и читать, читать… за едой читать, ночью читать, ничего больше не делать, только читать, – и все равно не хватит времени, чтобы узнать и понять все мысли. Это только на одной полке. А если набить книгами целый дом! Представить такое – голова кружится.
– Есть такие дома, – сказал прост. – Они называются библиотеками.
– Не может быть, – не поверил я.
– Я сам был в таком.
– Где? Нет… не может быть.
– В Хернёсанде. В Упсале. Во многих городах.
– Это, должно быть, ужасно…
Прост недоуменно посмотрел на меня – он, кажется, не находил в библиотеках ничего ужасного.
– Так много… такого разного времени… – заикаясь, я попытался объяснить, – никто и никогда не сможет прочитать все эти книги!
– Думаю, не сможет.
– Только… только Бог.
– Бог, конечно. Само собой. Может, в этом и смысл библиотек – они помогают понять величие Бога.
– Но… если есть библиотеки… зачем тогда церкви?
Прост не ответил и отвернулся к окну. Я испугался, что он рассердился, но когда учитель вновь на меня посмотрел, гнева в его взгляде не было. Что-то другое… растерянность, слабость… Может быть, страх.
На следующий день прост пригласил к себе секретаря полицейской управы Михельссона и попросил, чтобы тот приехал один, без исправника Браге. Я хотел было уйти, но учитель попросил меня присутствовать при разговоре.
Мы прошли в рабочий кабинет. Михельссон, едва переступив порог, вежливо снял форменную фуражку и пригладил редкие волосы.
– Садитесь, садитесь. – Прост был само радушие. Показал нам на стулья и занял место за столом. – Погода, слава Господу, немного наладилась. – Тут я подумал, что про любую погоду по сравнению с той, что была накануне, можно сказать «наладилась». – Как урожай?
– Закрома у родителей полны. Неплохой год.
– А ваши родители живут…
– В Пелло. Старшие братья остались на хуторе, а я вот… по служебной линии.
– Значит, господин Михельссон младший?
– Самый младший. Нас десятеро.
– И вы ведь пока не женаты?
– У меня есть… есть невеста в Пелло. Мать нашла. Очень скромная, из хорошей семьи.
– Это же замечательно!
– И она, и я учились у Юхани Рааттамаа. Это Юхани научил нас читать и писать.
– Смотрите-ка… вот ведь как бывает.
– Очень добрый и умный человек. Юхани, я имею в виду.
– Рад слышать, – улыбнулся прост. – А вы, господин Михельссон, уездный секретарь… это же куча работы! Писать, писать и писать…
– На моей обязанности все протоколы.
– Я слышал, в уезде очень ценят ваш необычайно красивый почерк.
– Да? Ну не знаю…
– Что вы! Все только и говорят – какой замечательный почерк у секретаря Михельссона! Это, знаете, не каждый… – Прост протянул ему лист бумаги: – Сделайте одолжение, порадуйте нас своим искусством.
Секретарь заметно смутился.
– Ну что вы… не могу же я…
– Сам-то я пишу как курица лапой, – поспешил пожаловаться прост. – Юсси то и дело ворчит – трудно, мол, читать ваши закорюки. Правда, Юсси? Нет, господин секретарь, всего несколько слов… я потом срисую.
Я, по-моему, ни разу не только не ворчал – даже не пожаловался, но на всякий случай промолчал.
Михельссон, помявшись, подвинулся к столу, пошарил по карманам, извлек карандаш и склонился над бумагой.
– Секундочку… позвольте очинить ваш карандаш. Это будет для меня большой честью – готовить карандаши для знаменитого каллиграфа.
Не дожидаясь ответа, он выхватил у Михельссона и без того острый карандаш и быстро очинил его карманным ножом. Стружки падали прямо на стол, он небрежно отодвинул их в сторону.
Михельссон получил назад свое орудие производства и написал несколько слов. Сразу было понятно – для него это привычное дело. Но изящные и в то же время экономные движения пишущего секретаря проста интересовали мало. Его интересовало то же, что и меня.
И он, и я убедились: Михельссон пишет правой рукой.
Прост взял лист и прочитал:
– «Отец наш небесный, да святится имя Твое». Вынужден согласиться: я никогда не видел такого ясного и в то же время поразительно элегантного почерка. Но у вас и карандаш превосходный! – Прост чмокнул сложенные пальцы и тут же их растопырил. – Поделитесь, господин Михельссон, где вы берете карандаши такого отменного качества? Мои то и дело ломаются.
Михельссона похвала заметно смутила.
– Это не я… это господин исправник.
– Ах вот как…
– Да-да… у него целая коробка таких. Мне кажется, он купил их в Хапаранде.
Прост смахнул стружки на лист бумаги и глянул на меня так, что я тут же понял: возбужден чрезвычайно, хоть и пытается скрыть.
– А наш исправник? Как он? Легко с ним работать?
– Исключительно опытный человек. Очень и очень опытный, – осторожно сказал Михельссон.
– Мне кажется, он чрезмерно дружен с бутылкой.
– Я знаю, знаю… господин прост – противник спиртного.
– Алкоголь затуманивает зрение и лишает здравомыслия. Но меня очень радует умеренность господина Михельссона. Думаю, вы могли бы стать замечательным исправником в будущем.
– О… спасибо, господин прост.
– В свое время, понятно, в свое время. Но знаете… Господь наградил меня некоторой прозорливостью. Для вашего покорного слуги нравственные качества значат куда больше, чем чины и награды. И когда я вижу такого человека, как вы…разумеется, я не стану скрывать свое мнение при встречах с влиятельными лицами, с которыми мне приходится видеться по долгу служения Господу.
Я удивился. Ни разу в жизни не слышал от него такой откровенной лести.
А на лице Михельссона были ясно написаны два чувства: смущение и гордость.
– Я очень хотел бы услышать ваше мнение по поводу трагической кончины Нильса Густафа, – продолжил прост.
– Да… ужасная история. Значит, тут вот что: дверь-то заперли изнутри, так что господин исправник считает, что…
– Вы не поняли, уважаемый господин секретарь. Мнение исправника мне известно. Я бы хотел, чтобы вы поделились со мной собственными наблюдениями.
– Да… мои наблюдения… ну, во-первых: покойный был одет по-уличному. Доказывает, что смерть наступила внезапно.
– А еще?
– Несколько сохнущих полотен. На мольберте – начатый эскиз. Очень приблизительный. На столе – бутылка коньяка и коньячный бокал.
– Сколько?
– Чего – сколько?
– Бокалов.
– Один.
– Один?
– Думаю, да… Один. Впрочем, точно не скажу.
– Там было два бокала, – напомнил прост. – Или как, Юсси?
Я посмотрел в свои записи. Для вида – потому что помнил и так.
– Два. Бокалов было два.
– А разве господин Михельссон не записывает результаты осмотра места происшествия?
– Обязательно, как же… Потом, за письменным столом, в спокойной обстановке, я фиксирую все детали. Все, что помню.
– Память может подвести. Позвольте маленький совет: записывайте все на месте, по горячим следам. Мельчайшие детали. Даже те, что на первый взгляд кажутся не стоящими внимания, могут впоследствии оказаться решающими. Читай свои записи дальше, Юсси.
– На столе лежит блокнот с квитанциями и тетрадь. На мольберте – начатый эскиз портрета.
– Это я говорил, – поспешил вставить Михельссон.
– Ну хорошо… теперь господин Михельссон знает: бокалов было два. И какие выводы он делает?
– Выводы… наверное, к нему кто-то приходил. Посетитель.
– Посетитель, в честь которого художник достает блокнот с квитанциями и делает эскиз портрета.
– И кто бы это мог быть? – с удивлением спросил секретарь.
Прост задумчиво потер подбородок.
– Давайте сменим тему. Говорят, господин исправник ездил в горы в начале лета?
– В Квикйокк, – подтвердил секретарь.
– Квикйокк… Очень красивые места. Мы с Петрусом жили там одно время у старшего брата, Карла-Эрика. А что делал исправник в Квикйокке?
– Кража оленей.
– Наверное, немало пришлось побродить в горах.
– Само собой.
Прост достал из конверта сухой стебелек.
– Господин секретарь, возможно, знает, что это за растение?.. Только не трогайте пальцами.
Михельссон отдернул руку, будто обжегшись.
– Травка, – неуверенно сказал он.
– Нет… уж точно не травка, – улыбнулся прост. – Это ползучий вереск, Cassiope tetragona. В горах – на каждом шагу.
– Я не так силен в ботанике, как господин прост…
– Что вы, что вы, никто и не требует… Но вот что странно: этот вид вереска в нашей тундре не встречается.
– Вот как… в нашей тундре много чего не встречается. Пальмы, к примеру, довольно редки, – попытался пошутить Михельссон.
– Я нашел это растение в сене. В том сарае, где преступник изнасиловал и убил Хильду Фредриксдоттер Алатало. И как вы это объясните?
– Ее же медведь задрал!
– Ну нет. Ни я, ни Юсси в это не верим. Мы не только этот вереск нашли в сарае. Кровь, выдранные волосы… Бедную девушку заманили в этот сарай. Она сражалась за свою жизнь, пока преступник ее не задушил.
– Но исправник же объявил вознаграждение за этого медведя! Охотники…
– Медведицу, – прервал прост. – Посмотрите-ка на это, – он достал еще один конверт и высыпал на стол карандашные стружки, – это мы нашли рядом с поляной, где напали на Юлину Элиасдоттер.
– Напали? Господь с вами! Что вы хотите сказать, господин прост? – Михельссон даже привстал на стуле.
Прост не сводил с него глаз.
– Сравните-ка, господин Михельссон, эти стружки с теми, что я только что снял с вашего карандаша.
Михельссон дрожащей рукой взял пару стружек.
– С карандаша, который мне дал исправник?
Наступила давящая тишина. Воздух в комнате сгустился так, что трудно шевельнуть пальцем.
– Значит, господин прост намекает… – пробормотал Михельссон.
– Исправник Браге, как вы сами рассказали, в июне побывал в местах, где растет Cassiope tetragona. Он пользуется карандашами, идентичными тому, следы которого мы нашли на месте преступления. И, как наверняка знает секретарь, его интерес к молодым женщинам…
– Никогда бы не подумал, что господин исправник Браге…
– Далее. Юбка Юлины измазана той же сапожной мазью, какой пользуется исправник. И она сказала еще вот что: напал на нее herrasmies. Кто-то из господ.
– Но она же вообще отказывалась говорить!
– Отказывалась, да. В присутствии исправника Браге она говорить отказывалась. Возможно, она его узнала, хотя он и был в маске, когда на нее набросился. И ему тоже показалось, что она его узнала. Поэтому он и решил ее задушить и замаскировать смерть девушки под самоубийство.
– Это невозможно!
– А секретарь Михельссон разве не обратил внимания, как нервничал исправник Браге? Он меня ударил… Может, он сам и купил эту веревку, на которой повесил Юлину? И еще вот что: Юлина рассказала – ей удалось отбиться только потому, что она ткнула насильника в плечо заколкой для волос. И если секретарю Михельссону подвернется случай… не знаю, в сауне или где-то… он может посмотреть на плечо исправника. Нет ли на нем следа колотой раны?
Михельссон встал. Вид у него был такой, точно он вот-вот упадет в обморок.
– Просту самому следовало бы занять должность исправника… – выдавил он.
– Поиск улик на месте преступления не так уж отличается от поиска редких растений. Обращаешь внимание на все, что не укладывается в обычные рамки. К тому же мне очень помог Юсси.
Секретарь покосился на меня и тут же отвернулся – видно, решил, что прост шутит. Прост встал и подошел к нему – пожать руку. Михельссон торопливо попрощался и вышел.
Учитель аккуратно разложил стружки по конвертам и убрал в ящик стола.
– Итак, Юсси? Что ты обо всем этом думаешь?
– Зачем вы это сделали?
– Что – это?
– Зачем вы все ему раскрыли?
– Если лис спрятался в логове, надо его оттуда выкурить.
– А когда он выскочит?
– Когда выскочит – мы его возьмем.
– Исправника? – Меня одолевали сомнения. – А это вообще-то… разве можно арестовать исправника?
Прост раскурил свою самую большую трубку, жадно, так, что щеки чуть не сошлись между собой, затянулся и выпустил густое облако дыма.
– Испугается. Если услышит о наших подозрениях, наверняка испугается. И мы, по крайней мере, избежим новых преступлений.
Он с удовольствием проделал любимый трюк: выпустил из носа два толстых, как бивни моржа, столба дыма. Ноздри его раздувались от удовольствия. Бивни закрутились в спирали, потом разошлись на почти нематериальные восьмерки и медленно бледнели, пока окончательно не растворились в воздухе.
Я давно не видел учителя в таком хорошем настроении. Он попросил меня заварить чай. Я пошел в кухню и залил кипятком высушенные цветы кипрея. Вернулся в кабинет с этим декоктом и застал странную картину: прост зачем-то нахлобучил какую-то шляпу с широкими полями и застегнул ворот плаща. Будто замерз. Сосредоточен был до такой степени, что даже не заметил, что я принес ему травяной чай.
Я поставил кипрейный чай на стол и молча вышел.
Моя возлюбленная… где она теперь? Вечером, когда я устроился на своем соломенном матрасе и закрыл глаза, увидел ее в развевающемся ярко-красном платье. Меня одолела тревога. Не случилось ли с ней что-то? Прост уже собирался лечь спать. Я выскользнул из дому, добежал до хутора, где она работала, и спрятался в зарослях. Вечерняя заря медленно-медленно утекает за горизонт – позднее лето, солнце пусть ненадолго, но все же прячется. Похоже на песочные часы учителя с их розовым, мельчайшим, почти нематериальным песком. Тонкий ручеек, незаметно извиваясь, перетекает в нижний сосуд, а верхний постепенно заполняют пустота и мрак.
Скоро не будет ни зари, ни даже солнца. Вечная ночь.
Я сижу в густой высокой траве, как дикий кот, подкарауливающий добычу, – уши навострены, хвост слегка подергивается, розовая пуговица носа. Гнус донимает невыносимо, шею жжет, хоть я и застегнул наглухо ворот. Срываю несколько цветков пижмы, натираю запястья и шею. Пижма с ее острым запахом отпугивает насекомых не хуже, чем багульник, но наиболее отчаянные все равно умудряются забраться в ушную раковину, а некоторые садятся даже на глаза и вязнут в глазной слизи.
В селе к концу дня все тихо, даже собакам надоело лаять. Я сначала услышал, а потом увидел: мышь-полевка. Прошуршала коротко и торопливо, потом опять, и опять, и наконец появилась. Крошечное существо, но все ее чувства читаются легко – легче, чем у человека. Насторожена, усы вибрируют. Жизнь – не позавидуешь. В вечном страхе перед лисьими зубами и беспощадными когтями ночных сов.
Рев порогов сюда еле доносится, но он не смолкает. Так слышишь течение собственной крови в ухе, когда кладешь щеку на оленью шкуру. Шум воды – как шум крови. Или как тысячи трущихся друг о друга жестких волосков.
Но… она вышла из дома! Легкие шаги, приподняла подол, чтобы не замочить вечерней росой.
Я должен с ней поговорить.
Перебежал лужок и помахал. Она остановилась, глаза расширились и потемнели от страха, мягкие губы напряглись в преддверии крика… Она прекраснее, чем весь сонм небесных ангелов! Эта бархатистая кожа щек, своды бровей!
Она узнала меня, и страх уступил место удивлению. Что-то в ней изменилось, она стала еще ярче и ходит по-иному, будто ноги ни с того ни с сего стали больше.
– Мария… – прошептал я.
– Уходи, – твердо сказала она.
Я протянул руку, я не мог противостоять искушению ее потрогать. Но она отшатнулась, и пальцы скользнули по грубой ткани рукава.
– Мария… ты же помнишь, как мы танцевали? Можем же мы просто погулять в лесу и поговорить? Никто нас не увидит.
Я схватил ее за запястье. Она попыталась вырваться, но я не мог отпустить. Такая мягкая, тонкая и в то же время тугая кожа…
Губы ее напряглись, и она отвернулась.
– Он умер. – Я еле расслышал ее шепот.
– Да…
Почему-то стало жечь подошвы, будто я стоял на раскаленном песке. Я сжал ее руку.
– Мария, ты прекраснее, чем весь сонм небесных ангелов.
– Ты не понимаешь, Юсси!
Она вырвала руку так резко, что я едва не упал, и, ускоряя шаг, побежала к отхожему месту.
Но не успела. Согнулась чуть не пополам, как саамская старуха, и застонала. Ее начало рвать. Из травы брызнули перепуганные кузнечики. Раз за разом ее тело сотрясали судороги рвоты, но рвать было нечем – только немного желтоватой слизи на губах.
Выпрямилась и заметила, что я все еще тут.
– Уходи!
Я не двинулся с места.
– Уходи, Юсси… Ты же видишь…
Я продолжал стоять. Она подошла к колодцу, вытащила ведро ледяной воды и ополоснула лицо. Ее руки белели в сумерках, как две только что пойманные, еще живые рыбы.
Сердце колотилось так, что было трудно дышать. Шел по ухабистой сельской дороге, а мысли толклись в голове, путаясь и не находя выхода. Прочь отсюда. Прочь, прочь. Оставить все и уйти в другой мир, исчезнуть на севере, у берегов заросшего льдами океана.
«Ты не понимаешь, Юсси».
Сзади послышались скрип, топот копыт и пьяные голоса. Я обернулся. По дороге, переваливаясь с кочки на кочку, катила телега. Отошел в кусты – не хотел, чтобы меня кто-то видел.
На меня пахнуло запахом стойла. Два парня громогласно и невразумительно спорили о каких-то деньгах, о картах, о долгах. Они были настолько пьяны, что чудом держались на козлах.
Я не шевелился. Стоял и смотрел на неизвестно откуда вылупившийся полумесяц – минуту назад его не было. Мне не хотелось ни говорить с кем-нибудь, ни даже здороваться.
И тут залаяла собака. Она, оказывается, лежала в телеге. И вскочила – должно быть, учуяла меня. Огромная, как волк, зверюга. Сорвалась с телеги и на длинных, как у волка, ногах помчалась ко мне. Я хотел было убежать, но запутался в траве; в ужасе попытался забраться на сосну, но не успел – пес вцепился мне в икру. Попробовал второй ногой сбросить его, но куда там… как рассвирепевшие, рычащие кандалы.
– Mik saatana! – крикнул один из парней.
– Olenihminen, – крикнул я изо всех сил. – Я человек!
И услышал, как они продираются сквозь заросли.
– Не двигайся, убью!
– Уберите собаку!
Пес попытался перехватить ногу половчей, и я успел ее отдернуть. Икра стала горячей от крови.
– Уберите же собаку!
Парень схватил меня за пояс и сдернул с дерева. Я повалился в мох. Пес попытался схватить меня за горло, но я успел поднять руку. Клыки впились мне в плечо.
– Фу, Сеппо!
Только теперь я его узнал. Руупе. Пес удерживал мою руку мертвой хваткой, так что Руупе пришлось поднять его за задние ноги и отшвырнуть в сторону. Грозное рычание сменилось жалобным воем. Меня трясло от страха и боли. Брюки горячо намокли кровью.
– Кто это здесь?
Руупе схватил меня за ворот. Он был настолько пьян, что изо рта текла слюна.
– Так это же шаманенок! Чем это ты тут занимаешься по ночам?
– Твой пес испортил мне одежду. Заплати… – задыхаясь, выговорил я.
– «Заплати»! – повторил он и заржал. – Радуйся, что он тебе брюхо не вспорол.
– Кто там? – крикнул приятель с телеги.
– Да этот чертов шаманенок! Лежал здесь и прятался.
– А с чего бы это он прятался?
Руупе повернулся ко мне:
– Вот именно! С чего это ты прятался, сукин сын? С чего это ты тут валялся?
– Ты не понимаешь! Это же он? – крикнул второй парень.
– Кто это – он?
– Тот, кто убил Юлину! Это точно он!
– Ах ты, свинья поганая!
– Сообрази, наконец: он лежал тут и подкарауливал одиноких девушек.
У Руупи сузились глаза.