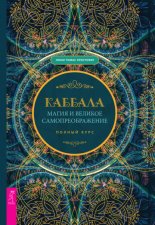Сварить медведя Ниеми Микаель

Но вот появились друзья и единомышленники и подхватили этот груз. И настроение поднялось. Как четыре дотлевающих полена – их сложили вместе, и они снова вспыхнули ярким, согревающим огнем.
Четыре апостола. Они похожи на четырех апостолов, думал я. Четыре евангелиста. Четыре рыцаря в святом бою.
– Ты сидел там, в углу, как приклеенный и слушал, – сказал прост, когда мы наутро спустились к реке.
– Я учусь. Все время учусь.
– Да, верно. Ты выучиваешь все, что я показываю. А как дела с готическим шрифтом?
– Уже читаю и готический.
– Вот видишь, Юсси, вот видишь… И все же самое трудное – научиться хорошо говорить.
– Да уж…
– Думаю, трудности связаны в первую очередь с голосом. С природой голоса. Голос идет изнутри, он возникает в глубине груди, поднимается из легких и выходит наружу через гортань, как облачко мельчайших капелек слюны.
Он тут же рукой обрисовал возникшее у его рта облачко слюны, показал его форму, показал, как оно рассеивается и исчезает.
– Мы стесняемся всего, что покидает наше тело, – объяснил прост. – Все мы должны избавляться от отходов, но делать это принято в одиночестве. Не публично. В отхожем месте мы хотим избежать посторонних глаз и ушей. Знаешь ли, в Хернёсанде сортиры даже запирали на специальный латунный крючок, будто испражнения профессуры заключали в себе некий постыдный секрет. Но говорить-то они умели и любили! Иногда я думаю, школы для того и созданы, чтобы избавить человека от ложного стыда за свою речь.
– Хуже, когда много слушателей, – вставил я.
– Вот потому-то ты и должен практиковаться в одиночестве! Вот, смотри, – река. Что бы тебе хотелось сказать реке?
Он что, шутит? Я посмотрел на широкую спокойную реку. В ней отражались бледно-голубое небо и легкие белые облака. Где-то вдали ревели пороги.
– Сказать?
– Именно сказать. Одних мыслей недостаточно. Мысли, которые ты не облек в слова, может, и порадуют тебя на секунду, но они превращаются в кашу, и уже в следующий миг ты их забываешь. Только когда ты их произнес, придал им форму, ты можешь понять их значение и их ценность.
– Но можно же записать?
– Да, но для этого требуется важное условие: чтобы тот, к кому ты обращаешь свои мысли, умел читать. Итак, река… что бы ты хотел сказать этой реке? Посмотри, она даже поморщилась от нетерпения.
И в самом деле – пролетевший ветерок взъерошил водную гладь, и отражение облаков исчезло. Прост, не добавив ни слова, повернулся и пошел к дому. Я остался один, но подождал еще немного, пока не убедился, что никто, кроме реки, не может меня слышать.
– Vyl, – сказал я тихо. И повторил погромче: – Река!
Прозвучало странно и глупо. Я еще раз огляделся по сторонам – никого.
– Знаешь ли ты, река, какой самый большой грех? Самый большой грех, который человек может совершить, – не любить своих детей.
Я прислушался к спокойному шороху текущей воды.
– Не любить своих детей! Рожать детей, чтобы их мучить. Делать им больно, не утешать, когда им плохо.
И я увидел перед собой бурую, отекшую рожу ведьмы. Ее ухмылка была такой злобной и издевательской, что мне стало страшно: скажи я еще хоть слово – получу такую взбучку, что вряд ли выживу. Вырвет с корнями все волосы.
– Что ты сделала с Анне Маарет, чертова ведьма? Если… если… то я тебя убью!
Как она? Что с ней, с моей сестричкой? Жива ли она вообще?
На следующее утро, очень рано, в усадьбу пришли. Я уже проснулся, но все еще валялся на моем набитом соломой мешке, когда услышал, как хлопнула дверь в сенях. Натянул штаны и побежал открывать. На пороге стояла женщина. Я сначала ее не узнал – мокрое лицо было настолько искажено, что напоминало выжатую половую тряпку. Но быстро сообразил: Кристина. Мать Юлины. Она машинально переступала с ноги на ногу, будто все еще была в дороге. Я сразу понял: что-то произошло.
– Господин прост должен прийти… должен прийти…
– Он еще спит. А что случилось?
– Должен прийти… – Она попыталась что-то сказать, но разразилась такими рыданиями, что я не понял ни слова.
Я побежал к просту – оказывается, шум его разбудил. Он сидел на краю кровати в своей длинной, до пят, ночной рубахе и протирал глаза. Начал одеваться, но по неуверенным движениям было ясно: еще не совсем проснулся.
Мы пошли за Кристиной. Она вцепилась в рукав проста и тащила за собой. Он мягко освободился от ее хватки, и тогда она пошла впереди, почти побежала, то и дело оглядываясь, идем мы за ней или нет. Увидела, что не успеваем, и перешла на мелкий, но очень быстрый семенящий шаг.
В воздухе еще стоял ночной холодок, на листьях и траве матово поблескивала пыльца росы. Уже понятно – лето кончается. На березах все чаще просвечивали золотые монеты пожелтевших листьев, вот-вот начнется листопад. Грустно. Скоро, очень скоро зима заставит замолчать все живые звуки мира, сучья и листья почернеют, а созревшие семена разнесет колючий ледяной ветер. Перепутанные ветки склонятся под тяжестью снега, и эти белые аркады будут держаться всю долгую зиму, до весны.
Нас встретил хозяин, Элиас, и его взрослые сыновья. Не произнося ни слова, они повели нас через весь двор, мимо сарая и отхожего места к опушке леса, подступавшего прямо к их наделу. На земле лежал старый лоскутный ковер, а на нем что-то, прикрытое серым домотканым одеялом. Я догадался сразу – слишком уж это «что-то» напоминало человеческое тело. Все молчали, стояла полная тишина, если не считать непрерывного, на одной и той же противной ноте, жужжания мух.
Прост медленно нагнулся, опустился на колени и откинул одеяло. Он, конечно, знал, что увидит, но все равно испугался – судорожно отбросил тряпку в сторону, прикрыл рот рукой и откинулся назад.
Зрелище было жуткое.
Когда-то красивое лицо Юлины было не узнать. Сине-лиловое, язык распух так, что ему уже не нашлось места во рту, свисает на сторону. Элиас уже успел положить монеты, и когда прост их приподнял, глаза оказались полуоткрытыми, налитыми кровью, будто она в последние секунды жизни увидела самого дьявола.
– Я ее отрезал, – пробормотал Элиас и показал на стоящую совсем рядом старую сосну.
Только сейчас мы увидели обрывок веревки на одном из толстых нижних сучьев. Другой конец привязан к стволу.
Прост встал, внимательно осмотрел землю под деревом.
– Был какой-то табурет? Или что-то?
– Нет… наверное, забралась на дерево и прыгнула.
– Господи, помилуй ее душу, – еле слышно пробормотал прост.
Оглядел грубый сук, через который была перекинута веревка, опустился на корточки и задумчиво подобрал несколько темно-оранжевых чешуек сосновой коры.
– Жена-то проснулась совсем рано, – продолжил Элиас тихо и монотонно, без всякого выражения. – Будто чувствовала.
Прост повернулся к Кристине.
– Да, хотела глянуть, как она там… – Кристина говорила отвернувшись. Видно, не могла заставить себя посмотреть на тело мертвой дочери. – Гляжу – пусто. Видно, улизнула, пока мы спали.
Прост взял одеяло за края, сложил и откинул в сторону. На Юлине была только длинная, серая от сотен стирок ночная рубашка.
– Она всегда спит в этом… в этой рубашке?
– Да. Всегда и спит… спала.
– А на ногах? Никакой обуви?
Элиас покачал головой. Прост еще раз огляделся и заметил, что поодаль лежит еще один кусок веревки.
– А это?..
– Я разрезал петлю. Думал, жива еще… – сдавленным голосом сказал Элиас.
Его могучее тело дернулось словно в судороге, но он сдержался и замаскировал рыдание внезапным приступом кашля.
– А что за веревка? Ваша?
Отец Юлины, по-прежнему кашляя, покачал головой:
– Первый… первый раз вижу. Наверное, попросила у кого-то.
– Voityparka, – опять заплакала Кристина. – Бедная девочка…
– Да… что тут скажешь? Бедная девочка… – пробормотал прост.
– Бедная, бедная девочка… неужели душа ее теперь попадет в ад? – внезапно спросила мать, заглядывая просту в глаза.
Прост не ответил. Как мне показалось, не смог себя заставить. Вместо ответа сложил руки и прочитал молитву – точно так, как читал, когда причащал еще живую Юлину. Элиас и Кристина присоединились к молитве, а я так и не решился. Все, что говорит прост, – слова. Всего лишь слова. Его слова не смогли ее защитить.
– Агнец Божий – и такое дело…грех ведь? – спросил отец. – Нельзя ведь?
– Нельзя.
– Даже когда совсем худо… держаться надо, вот что я вам скажу.
Похоже, Элиас уговаривал сам себя. Прост осторожно положил руку Кристине на плечо:
– Расскажите… как вы ее нашли?
– Ну… я же говорю – лежанка пустая. Покричала, конечно, в сарай заглянула. Господи, беда-то какая… потом гляжу, а на опушке-то… Я сразу поняла: она.
– И?
– Закричала, конечно. Криком закричала – Элиас, кричу, ребята… скорее, мол, скорее!..
Братья дружно закивали.
– А потом?
– Отец-то сразу веревку отрезал, – пробормотал старший.
– Ковер велел притащить, – сказал второй сын. – Веревку, значит, отрезал, петлю снял… снял и говорит: нет, говорит. Нельзя в дом такое нести.
– Почему нельзя? Можно.
– Ну, те-то… кто сам себя…
– Пока можете положить тело в сауне. Пусть исправник посмотрит.
– А мы еще и не посылали.
– Значит, пошлите сейчас. И отнесите в помещение прямо сейчас. Мухи…
Элиас нагнулся, отогнал мух, набросил одеяло и вместе с сыновьями поднял безжизненное, уже успевшее окоченеть тело. Я не мог оторвать глаз от выглядывавшей из-под одеяла мучнисто-белой руки с растопыренными пальцами. Мы пошли следом. Юлину осторожно положили на полку, после чего подошедший прост опять опустился на колени и прочитал молитву. Глаза полузакрыты, спина сгорблена, словно он где-то в другом, недоступном нам мире. Я понял, что он хочет.
Повернулся к родне и прошептал:
– Оставьте проста в покое. Сами видите. Пошлите кого-нибудь за исправником, а я побуду с учителем. И принесите, пожалуйста, свечу.
Кристина вышла, через минуту вернулась с большой сальной свечой и тут же, неловко присев, вышла. Я зажег свечу и запер дверь.
Прост тут же поднялся с колен и засучил рукава.
– Надо торопиться. Бедная девочка.
Я достал бумагу и замер с карандашом в руке.
Он аккуратно откинул одеяло и поднес свечу поближе.
– Шея… шея повреждена петлей. Но посмотри на синяки…
– Что – синяки?
Он развел пальцы и поднес к шее умершей. Багрово-синие отметины совпали так, что мне стало страшно.
– Как и у Хильды Фредриксдоттер. Этот зверь удушил ее голыми руками. Она наверняка была уже мертва, когда он тащил ее к дереву.
– То есть… вы хотите сказать… она не самоубийца?
– Ты же и раньше видел такие синяки, Юсси. Отпечатки пальцев в виде полумесяца.
Прост снова поднял с глаз монеты, слегка раздвинул веки и долго и внимательно смотрел в мертвые глаза.
– Полопавшиеся мелкие сосуды тоже говорят, что ее задушили. Запиши, Юсси.
– Откуда учитель все это знает?
– Обычное естествознание, Юсси. Мой друг в Упсале шел по врачебной линии. Запиши также: синяки на предплечьях, типичные.
– Он держал ее за руки?
– Возможно, прижал коленями. Юлина сильная девушка, но на этот раз у нее не было заколки. К сожалению… Можешь мне помочь?
Я подсунул руки под колени трупа и приподнял, как он велел. Он секунду посомневался, тряхнул головой и задрал подол ночной рубашки.
– Посмотри на ее ноги. Что можешь сказать?
– Ноги… ноги как ноги. Никаких повреждений.
– Вот именно! Ни царапин, ни ссадин. И что думает по этому поводу Юсси?
– В каком смысле?
– В том, что все, что мы видим, говорит против самоубийства. Попробуй вскарабкаться на толстый ствол сосны, потом перебраться на сук – и при этом не получить ни единой царапины! В штанах – возможно, но в ночной рубашке – исключено.
Прост попытался приподнять ногу, но трупное окоченение зашло довольно далеко, и ему пришлось изогнуться, чтобы посмотреть на подошвы.
– А вот пятки сзади расцарапаны. Обе, как видишь.
– Тело волокли по земле.
– Молодец. Убийца повалил ее на землю, задушил, взял под мышки и поволок к дереву. Тогда и появились царапины на пятках. Веревку приготовил заранее. Перекинул через сук. Надел петлю на шею, поднял тело, а второй конец привязал к дереву. Вот, посмотри, – он развернул платок, – вот они. Чешуйки коры, где веревка терлась о сук.
Прост попросил меня зарисовать все повреждения на теле, бережно закрыл глаза покойной, положил медяки и накрыл тело все тем же одеялом.
– Пошли посмотрим, что творится вокруг.
Мы вышли из бани. Он двинулся к дальнему концу дома. Здесь стоял маленький, слегка покосившийся деревянный сарайчик.
– Отхожее место. Думаю, Юлина вышла по нужде. Ночь, все спят, никто и не слышал ее шагов. А преступник уже караулил. Вполне возможно, он пришел не в первый раз. Несколько ночей ждал удобного случая.
Взгляд проста упал на несколько росших чуть поодаль осин.
Уверенно подошел и ткнул в землю:
– Вот здесь он и стоял.
Нагнулся и поднял что-то с земли:
– А это что?
Между большим и указательным пальцами он держал что-то очень маленькое.
– Карандашная стружка? – спросил я.
– Нет, Юсси. Это что-то другое.
И я сразу увидел это «что-то другое»…
На коре были следы ножа – два глубоких, длинных шрама. Вместе они представляли хорошо известную фигуру.
– Крест… – прошептал прост. – Он стоял, ждал свою жертву и вырезал на коре крест.
– Но почему? Почему именно крест?
– Вполне возможно, этот крест предназначен мне.
– В каком смысле? – не понял я.
– Помнишь, в лавке в Пайале я послал ему предупреждение? Дал понять, что мы напали на след? Не исключено, что он стоял там среди других и слушал.
– Значит, крест?..
– Прямая угроза. Ответ.
– Но кто… кто может быть таким хладнокровным?
Ответ последовал немедленно.
– Змея. Змеи хладнокровны. И на Пайалу сочится змеиный яд.
Мы быстро вымыли руки и пошли в дом. Кристина предложила поесть, и мы с благодарностью согласились – оба изрядно проголодались, мы же вышли из дому натощак и с тех пор крошки во рту не имели. Я молча жевал рыбную кашу, прост тоже ел, но при этом махал рукой у рта, словно торопился прожевать побыстрее, а как только удавалось проглотить, тут же задавал вопрос.
– А где ваша собака? Она не лаяла ночью?
– Нет… исчезла куда-то, – равнодушно сказала Кристина.
– Что значит – исчезла?
– Ну… где-то бегает. Течка у нее.
– Понятно… А когда вы видели ее в последний раз?
– Позавчера, думаю. – Элиас вопросительно поглядел на Кристину, но та не шевельнулась. Не подтвердила, но и не возразила. – Она вообще… Как с Юлиной это случилось, сама не своя. По вечерам лает, рычит под дверью…
– Охраняет?
На этот раз Кристина кивнула:
– Ей кажется, крадется кто-то, да после такого… И мне как-то тоже показалось.
– Да… несколько ночей рычала, – подтвердил Элиас. – Мы-то ее выпускаем по ночам, домой не берем – какая-никакая, а охрана. Рычала, рычала… лисы тут бродят. Вообще-то она не рычит. Мирная. Да и маленькая – кто ее испугается?
– Но вчера исчезла?
– Придет. – Кристина пожала плечами. – Всегда приходила и сейчас придет. Куда ей деваться, явится.
– Стоит все же поискать. Как ее зовут? Сири, кажется?
– Ну.
– Красивое имя… Сири.
Не успели мы утолить голод, с дороги послышалось громыхание экипажа. Во двор, переваливаясь, въехала коляска, и с нее еще на ходу спрыгнули трое. Исправник Браге с неизменным Михельссоном и уездный врач Седерин. Несмотря на ранний час, от всей компании сильно попахивало пуншем. Оттого-то, как мне показалось, они и были подчеркнуто деловиты. Исправник командовал, Кристина бегала туда-сюда с его поручениями. У уездного медикуса, крупного и толстого мужчины, судя по тому, как он, морщась, опирался на трость, болела спина. Круглые очки все время сползали на кончик малинового носа, и он неуклюже возвращал их на место, при этом каждый раз неодобрительно поглядывал на проста. Неудивительно: доктор пил часто и много. Кампания против пьянства, которую развернул прост, угрожала ему лишением единственного лекарства, помогавшего от заполярной тоски.
Исправник поспрошал, как и что, и все трое втиснулись в сауну. Просту в маленькой парной места не хватило, он остался в дверях. Исправник с отвращением посмотрел на труп Юлины, вытащил кружевной носовой платок и вытер руки.
– Все они такие синие, когда вешаются, – объявил он. – Уродство какое. А ведь хорошенькая была.
– Приглядитесь к шее, господин исправник, – негромко сказал прост.
– А…и вы здесь, господин прост. Опять лезете не в свое дело. Извините, мы должны работать.
Доктор Седерин попросил табуретку – не потому что вид повешенной произвел на него сильное впечатление, за годы работы он видывал и не такое. Но после вчерашнего возлияния с исправником он охотнее всего не сел бы, а лег на первую подвернувшуюся лежанку.
– Язык синий, опухший. Лицо – сами видите. Шейные позвонки свернуты петлей. Повесилась, ясное дело.
Седерин согласился – сама мысль о какой бы ни было дискуссии была ему мучительна. Неохотно достал блокнот и записал на латыни: суицид. Самоубийство.
– Отметины на шее не совпадают с петлей, – возразил прост.
– Я вы-то откуда знаете?
– Я знаю только, что у петли нет пальцев. А синяки на шее именно от пальцев. Петля не могла оставить такие следы.
– Конечно, от пальцев, – рявкнул исправник. – Вы что, не помните, что с ней было?
– Нет, это не те следы. Эти синяки свежие. И уж совсем свежи царапины. Наверняка от ногтей.
Исправник шагнул к просту. Схватил его за воротник, чуть не поднял на воздух и начал трясти, обдавая вчерашним спиртным духом.
Прост потом рассказывал – в эту долю секунды он вспомнил отца. Те же самые внезапные, ничем, кроме алкоголя, не вызванные приступы ярости, от которых страдала не только семья, но и все его окружение.
– Господину Браге не удастся меня запугать, – хрипло выкрикнул прост.
И тут последовал удар. Прост отлетел и ударился головой о стену. Заодно и врач получил пинок. Табурет свалился, и медикус оказался на полу. Исправник целил в зубы, но в последний момент прост успел отвернуться, и удар пришелся по скуле. Учитель, наверное, на какое-то мгновение потерял сознание. Он так и остался сидеть, прислонившись спиной к закопченной бревенчатой стене, только поднял, защищаясь, руки. Я попытался встать между ними, но исправник отбросил меня в сторону и навис над учителем – похоже было, что собирается ударить проста ногой. Но тут, к счастью, раздался вопль Михельссона:
– Сейчас свалится! – Секретарь заметил, что труп Юлины вот-вот упадет с полки, и бросился его подхватить.
Этот крик привел исправника в чувство.
– Заткнись, ты, аллилуйщик! – прошипел он просту, снял форменную фуражку, вытер усы и встряхнулся, как огромный пес.
Я помог просту встать. Глаза у него все еще плавали. Он сплюнул – с кровью, как мне показалось. Взял меня за руку, и мы вышли во двор. Там уже собрались домочадцы и соседи. По лицам было видно, как они изумились, увидев покачивающегося проста.
– Ничего, ничего, – пробормотал он, – все в порядке.
Я посадил его на крыльцо – пусть придет в себя. Он долго сидел, закрыв лицо руками, а я был в ярости, меня аж подбрасывало. Чтобы успокоиться, достал карманную Библию и открыл наугад. Попал на притчу о блудном сыне. Сын уехал в дальние страны, растратил все, что имел, и вернулся к отцу.
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду… и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся[21].
От опушки отделилась человеческая фигура. Младший сын.
– Kirkkoherra! Пастырь!
Прост, как мне показалось, не слышал. Я подергал его за рукав, и он поднял на меня затуманенные глаза.
– Пастырь! Мы нашли собаку!
Песик лежал, нелепо раскинув лапы, верхняя губа приподнята так, что видны небольшие клыки, в углах пасти застыла желто-серая сукровица. Трупик спрятали под густой разлапистой елью и присыпали хвоей. Если бы не рои мух, парню ни за что бы не пришло в голову приподнять нижние ветки.
Прост осторожно погладил густую шерсть – мне показалось, прощупывает, целы ли ребра. Уже появился запах – труп лежал под елкой не меньше двух дней. Странно, что росомаха не добралась.
– Сири… – Юноша с трудом сдерживал слезы.
Прост повернулся к Элиасу:
– Вы на лис охотитесь?
– Ну… бывает.
– Как?
– Капканы ставим.
– А отравленными приманками не пользуетесь?
– Я-то нет… соседи, может… кто их знает. Господин прост думает?..
– Я видел лис, отравленных стрихнином. Хотя признаки предсмертных судорог обычно ярче. Жалко… чудесная была собачка.
– Такой не будет больше, – со всхлипом прошептал парнишка и прижал к губам кулаки.
– Надо сжечь тогда… а то еще кто, глядишь, отравится, – забеспокоился Элиас.
– Кто к вам заходил за последние дни?
– Это как? Что господин прост имеет в виду?..
– Думаю, убийца пытался добраться до Юлины с того дня, как это случилось. И отравил собаку, чтобы не разбудила вас лаем.
– Да как это? Кто может…
– Это вполне может быть кто-то, кого вы хорошо знаете.
У Элиаса задрожали губы. Он молчал. Сжимал и разжимал кулаки.
– Давайте помолимся за вашу собаку, – предложил прост.
– Помолимся? За собаку? – Элиас от изумления замер с растопыренными пальцами – забыл в очередной раз сжать кулак.
– Молитва благодарности за радость, которую она приносила вам за всю ее безгрешную жизнь. Молитва благодарности Господу, что он создал такое ласковое и преданное существо.