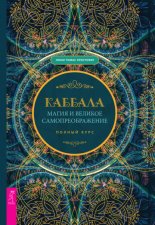Сварить медведя Ниеми Микаель

Она быстро и, я бы сказал, даже весело кивнула. Очевидно, осталась довольна моей понятливостью.
У меня по спине побежали мурашки – так живо представил я эту картину. Девочка и мальчик идут к горному ручью, там, у журчащей воды, есть небольшая глинистая отмель. Юсси берет палочку и рисует неуклюжие буквы.
«А, – говорит он. – Аааааа…»
«Ааа», – повторяет она.
«А-а-анн», – показывает он палочкой на следующую закорючку.
«А-а-анн… Это мое имя! Анне!»
– Из Юсси мог бы получиться замечательный учитель, – сказал я не столько ей, сколько самому себе. – А что делала Анне Маарет там, в горах?
– Заботилась. О маме и папе. Чтобы не померли.
– Но Юсси никогда о них не рассказывал. Я был уверен, что он сирота.
– Они все равно померли. Этим летом.
– Сожалею. Это большое горе.
– Они были… пьяницы. – Она произнесла эти слова почти неслышно, шелестящим шепотом.
Мне стало так ее жаль, что я с трудом подавил желание опять заключить ее в объятия.
Вместо этого я грустно кивнул.
– Мой отец тоже страдал этим пагубным пристрастием…
Мне всегда было трудно касаться этой темы, хотя я подробно все и описал в «Голосе кричащего». Отцовское бешенство по поводу любой мелочи, его рыкающий, горловой крик… Мать месяцами выбивалась из сил во время его долгих «деловых поездок», как он это называл, – попросту исчезал из дома. А когда возвращался – бил мать. Это было самое страшное: он бил мать, а мы с Петрусом ничем не могли помочь, прятались под столом, как испуганные щенки.
– Значит, Анне Маарет пришла рассказать брату о смерти родителей?
– Не-а. Он уже знал… – Она опустила веки, помолчала. Потом открыла глаза и посмотрела на меня очень твердо, будто толкнула в грудь. – Я пришла за ним.
– Но Юсси… Ты, может быть, не слышала? Юсси осужден за тяжелые преступления. За насилия против женщин.
– Он ни в чем не виновен.
– Я знаю, знаю, – поторопился я согласиться. – На суде я его защищал, но судьи меня не слушали. Вернее, слушали, но не слышали.
– А где мой брат сейчас?
– Юсси… Юсси отвезли в Умео на тюремной повозке. Решение суда я обжаловал, так что есть еще надежда, что его помилуют.
– Помилуют?
– А разве Анне Маарет не знает? Юсси приговорили… – Я собрался с духом. – Юсси приговорили к смертной казни через отсечение головы…
Девушка смотрела на меня так же твердо. Выражение лица не изменилось – наверное, не поняла.
– Он невиновен, – повторила она. – Он ничего плохого не делал. Это кто-то другой.
Я обреченно кивнул.
– Тот, кто на вас напал в церкви. Это он и есть.
Зрачки сузились до булавочных головок. На шее устроилась жирная коровья блоха.
– Но как до него добраться? Как добраться до секретаря полицейской управы?
– Ему и надо отрубить голову, а не моему брату.
– Я думаю, Анне Маарет неплохо было бы помыться. Я скажу служанке, чтобы затопила сауну.
И в самом деле, от нее пахло болотом, прогорклым салом, застарелым потом – запахи, которым не место в жилом доме.
– Найдется и чистая одежда. Все твое мы постираем и прокалим на камнях в сауне. В твоем платье полно вшей.
Она опять хотела схватить меня за руку, но я ее опередил и постарался объяснить:
– Вши – как наши грехи. Время от времени случается с каждым.
Этой ночью мне снилась Милла Клементсдоттер в Оселе. Она стоит у врат церкви. Зимний день, на церковном холме собралось множество народу, и все хотят попасть на службу. Я подхожу к вратам, достаю связку и вставляю ключ в замок. Но он почему-то мал. Я пробую другой – велик. Начинаю нервничать, пробую один ключ за другим – ни один не подходит. Нетерпение и недовольство в толпе растут, меня обвиняют во лжи и коварстве: ты заманил нас на службу, пастор, а храм-то никуда не годится. У меня словно пелена спадает с глаз, и я вижу – они правы. Стены подгнили, потолок вот-вот обрушится, окна разбиты. Я в ужасе отступаю – сейчас развалится и погребет под собой всех этих людей. Разойдитесь, кричу я, спасайтесь, ищите убежище! Но меня никто не слушает, толпа обступает меня все теснее, они угрожают мне кольями, поленьями, кое у кого камни в руках, кто-то уже вытащил нож. Мне конец, решаю я, и вдруг слышу небывалой силы и чистоты голос. Это Милла. Разойдитесь, кричит она, и толпа расступается. Она стоит на неизвестно как сюда попавшей церковной скамье и разговаривает с людьми. Я забираюсь на скамью, встаю рядом с ней и вдруг понимаю, что она гораздо выше ростом, чем я, к тому же растет с каждым произнесенным ею словом. Она уже настоящая великанша. Она читает проповедь так громко и яростно, что все здание церкви попадает в резонанс и начинает дрожать и раскачиваться. Речь ее полна священного гнева – я никогда в жизни не встречался ни с чем подобным. И слова ее действуют на толпу – мужчины и женщины сжимают кулаки, воют совсем по-волчьи, кто-то ухает, как филин, но они и не собираются на нее нападать, как только что на меня, – нет, они все ее ученики и апостолы. И не только она – все они тоже растут. Обычные пастухи, нищие ремесленники, служанки на глазах превращаются в настоящих гигантов. Только я не расту – остался таким же, как был, и среди этих великанов чувствую себя ничтожным карликом. И тут слышится медленно нарастающий, как при грозе, гром. Я поворачиваюсь и вижу, как церковь оседает на только что выпавший, девственно чистый снег.
На следующее утро Анне Маарет исчезла. Взяла, как мне сказали, выстиранную одежду и ушла.
– Она в доме не спала, – заметила Брита Кайса. – Матрас не смят.
Я промолчал, постарался скрыть растущую тревогу. Брита Кайса протянула мне кусок вчерашней вареной щуки. Я начал выбирать кости из белого разваливающегося мяса.
– Что нынче снилось просту? – Брита Кайса слегка улыбнулась.
– Снилось?
– Постель ходуном ходила. И разговаривал.
– Разговаривал?
– Так-то не разобрать, во сне люди по-другому говорят. То бормочут, то орут что-то… не поймешь. А ты только и повторял: «Милла, Милла».
– Да… мне снилось Пробуждение.
– Вот как?
– А может, и нет. Не Пробуждение. Но, знаешь… меня испугала толпа. Волчья стая… Как мгновенно нарастает ярость у этих несчастных людей, как она ищет немедленного выхода…
– И что случилось?
– Не помню…
– Конечно, помнишь. Ясное дело – помнишь.
Она и в самом деле видит меня насквозь. Я попытался засмеяться, не то каркнул, не то закашлялся и пробормотал:
– Церковь обрушилась…
– Как это? Совсем?
– Гнилая была, вот и обрушилась.
Обсосал пальцы, скользкие от рыбьего жира.
– Скажи-ка мне, дорогая супруга, как ты думаешь – Пробуждение в женщинах проявляется сильнее, чем в мужиках?
– Не знаю… бывает такая мысль. Наверное, да.
– Но почему? Может, женщины ближе к Богу?
– Мужчинам больше чего терять.
– А почему за нашим движением больше бедняков, чем богатых?
– И богатым больше чего терять.
– Не уверен. И мужчины, и богатые выигрывают на духовном очищении ничуть не меньше, чем остальные. Разве не все стремятся к вечной жизни?
– Так… опять пришла пора терзаний, – сказала Брита Кайса с притворной суровостью.
– Нет-нет… дело не в этом. Если, скажем, все угнетенные встанут и поднимут голос… станет ли мир лучше?
– Ты хочешь сказать, что женщинам в твоем приходе пора перестать молчать? Может, прост возьмется обучить женщину-проповедника?
– И как ты думаешь – мужчины будут ее слушать?
– Господин прост знает на своем опыте. Он же слушал Миллу в Оселе. И услышал. Это ее слова побудили проста начать Пробуждение. Ты же сам говорил!
– Да. Говорил.
– Слова женщины, если ты не забыл.
– Да-да… Человечество, похоже, подстерегают ужасные опасности. Дракон проснулся в своей пещере.
– С каких пор прост стал верить в драконов?
– Многоголовый дракон. Дракон пьянства. Дракон воровства. Дракон гордыни. Что за времена ждут наших потомков? Наших бедных внуков и правнуков?
– Что за времена? У этих времен есть название: тысяча девятисотые годы.
– Девятнадцать ноль один, девятнадцать ноль пять… девятнадцать. Странное число – девятнадцать. Союз первой и последней цифры, если не считать нуля. Союз самого низкого и самого высокого.
– Как жизнь.
– Как война.
Она не ответила, но я обратил внимание, что разговор ее взволновал. Брита Кайса уже поела, а я даже не начинал. Обглодал маленький кусочек вчерашней рыбы – и все. Но мне захотелось ее успокоить.
– Ерунда все это… Спал плохо и сон дурацкий, – начал было я, но она уже поднялась и пошла к плите – утром всегда много дел.
Я сжал кулак – как подушка с иголками. Рука онемела, плохо слушалась, а к горлу подступала изжога.
Сочащиеся влагой стены городской тюрьмы в Умео казались расплывчатыми из-за постоянной измороси. В конторе сидел начальник тюрьмы Торстенссон и разбирал корреспонденцию. Писем было много, предстояло позаботиться обо всем: мука, обувь, тюремные робы на утепленной подкладке. И письмо от некоего доцента: тот узнал, что предстоит, как он выразился, декапитация саамского юноши, и покорнейше просил передать отрубленную голову в научных целях. Она ему необходима для важнейших антропологических изысканий. К письму была приложена посылка – деревянный ящик, заполненный крупной солью, предназначенный для транспортировки искомой головы.
Вошел надсмотрщик по фамилии Хольмлунд, крестьянский парень из Сэвера. Видно было, что он боится сделать что-то не так. Стоит и переминается с ноги на ногу, прижав к груди форменную фуражку. Сапоги поскрипывают, на носу висит большая капля.
– И что? – проворчал Торстенссон.
– Она опять здесь. Сестра.
– Эта лапландка?
– Принесла передачу брату.
– Что за передача?
– Еда. Хлеб и масло.
Торстенссон посмотрел в окно, забранное, как в камерах, железной решеткой. По стеклу змейками бежали струйки дождя.
– А как ведет себя осужденный?
– Тихо. Никаких замечаний.
– Он содержится отдельно от других заключенных?
– Как и приказал господин Торстенссон.
– Пусть встретятся. Проверь передачу, чтобы там ничего такого…
– Само собой, господин директор.
– Она что, каждый день приходит?
– Каждый день. Но она… думаю, она ворует продукты в городе.
– Хольмлунд в этом уверен?
– Уж больно бедно одета, господин директор. Вся в рванье. Откуда у нищенки деньги на масло?
– Молодец, Хольмлунд. Хвалю за наблюдательность. Свободен!
Хольмлунд неуклюже отдал честь и вернулся на проходную. Лапландка так и стояла там со своим узелком. Лицо грязное, одежда почему-то пахнет горелым. Хольмлунд соорудил суровую мину, взял из узелка хлеб, выложил на досмотровый стол и разломил пополам. Потом разломил половинки на половинки – и так чуть не до крошек. Взял комок масла, осмотрел и сжал в кулаке так, что из-под пальцев потекли золотистые струйки. Бросил раскрошенный хлеб и масло в подставленную тряпку и облизал пальцы.
– Директор разрешил посещение узника.
– Спасибо, – прошептала девочка.
Он проводил ее в камеру осужденного на смерть Юсси Сиеппинена, вошел вместе с ней и закрыл за собой дверь. Лапландский мальчишка сидел на нарах, вытянув ноги. Такой же тощий, как и его сестра. И оба недоростки – на голову ниже, чем рослый Хольмлунд.
– Наручники!
Юсси вытянул исхудавшие руки и попросил:
– Только не туго. Пожалуйста, Хольмлунд, очень прошу. Больно же…
Тем временем Анне Маарет взяла в горсть хлебные крошки, кусочек масла, соорудила из всего этого аппетитный комок и протянула Хольмлунду. Тот кивнул, но сначала проверил, надежно ли ввинчен крюк в стену камеры, взял висевшую на нем цепь, прикрепил к наручникам, посмотрел на запястья Юсси в кровяных корках, покачал головой и замкнул наручники – и вправду не особенно туго. После этого взял у Анне Маарет хлебный ком и, предвкушая наслаждение, вышел из камеры, оставил брата и сестру одних. Встал у двери и всадил зубы в крестьянский хлеб со свежесбитым маслом.
Отсюда слышно было, как они переговариваются по-саамски. Что за звериный язык, ей-богу. Каждого порядочного христианина наверняка в дрожь бросает от такого языка. Загремела цепь – наверное, жрать начал. Что за прихоть? Зачем она ему жратву таскает? Все равно скоро на плаху. Хольмлунд даже покачал головой, хотя его никто не видел, так захотелось ему выразить свое недоумение.
А в камере тем временем происходило вот что: Анне Маарет щедро намазала маслом тонкие запястья брата, прошлась и по наручникам, не оставив ни единого просвета. Кожа стала жирной и скользкой.
Когда Хольмлунд открыл дверь и сообщил, что время истекло, девушка плакала, уткнув лицо в ладони. А парень сидел на своих нарах и, похоже, молился своим лапландским богам: физиономия искажена в какой-то дикой гримасе, дергается, пытается сорвать наручники, спутанные волосы грязными прядями свисают на лицо. Хольмлунд принял решение оставить наручники. Пусть успокоится. Вышел, захлопнул дверь и дважды повернул ключ. Как повелевала инструкция, подергал за ручку, проверил – заперто. И проводил плачущую девчонку до наружного выхода. Хотел было ее успокоить, но она только безутешно тряхнула головой, вякнула что-то сквозь рыдания и чуть не побежала к воротам. Он некоторое время смотрел, как ее драные кеньги шлепают по мокрому булыжнику.
Бог с ней. А масло и в самом деле отменное – настоящее вестерботтенское[32] масло, хоть и краденое.
Как-то утром в конце октября жена арендатора Элина Мукка шла по тракту из Кенгиса в Пайалу. Для телег, может, и тракт, но дорога была очень скользкой после ночных заморозков, и ее кеньги с гладкими подошвами без конца съезжали то в глубокую колею, то в одну из бесчисленных ям, где скопилась подернутая хрусткой ледяной коркой вода. Несколько раз Элина даже упала.
«Одно слово – тракт», – ворчала она про себя и решила свернуть с проезжей, но коварной дороги на одну из троп.
И если бы не эти ночные заморозки, если бы не скользкая дорога, если бы не свернула – ни за что не нашла бы мертвеца. Он лежал в густых зарослях, с дороги и не увидишь. Труп лежал на животе, одна рука откинута в сторону, будто хочет обнять давшую ему приют землю, другая на спине, бледно-синюшные пальцы растопырены, у живых таких не бывает. Но жутчее всего – голова. Голова лежала в стороне, отдельно, и перерезанная трахея в запекшейся крови была похожа на маленький ротик, произносящий букву «о». Шапка валялась поодаль, редкие волосы прилипли к черепу, а на затылке зиял кратер с острыми осколками кости по краям.
– Боже правый. – Она прижала к губам фартук.
Элина Мукка знала убитого, и ей показалось, что бледные, с неживым блеском глаза отрезанной головы смотрят именно на нее. С упреком и осуждением.
Важный человек в поселке. Секретарь полицейской управы Михельссон.
Мне об этом сообщил мальчишка, сын одного из бедных арендаторов. Несмотря на приближающуюся зиму, он прибежал босиком, быстрый и гибкий, как куница, выпалил новость и помчался дальше – разносить по хуторам.
Я торопливо натянул сапоги и пальто и чуть не побежал на место страшной находки. Тут уже собрались любопытные – те, кто жил поближе. Увидев меня, они поснимали шапки, начали кланяться, а женщины присели в неуклюжем деревенском реверансе. Я протолкнулся вперед и досадливо крякнул. Доброхоты уже успели перевернуть труп и приложили, наверное, немало усилий, чтобы сложить на груди окоченевшие пальцы. Голову, как могли, пристроили на место и прикрыли лицо фуражкой покойника.
Я приподнял фуражку. Ясно: чтобы отделить голову от туловища, потребовалось несколько ударов топором, а сзади череп проломлен. Скорее всего, тоже топором.
Удар нанесен сзади и, по-видимому, совершенно неожиданно. Прикинул, под каким углом нанесен удар, – скорее всего, преступник был ниже ростом, чем его жертва.
– Исправника Браге вызвали?
– Сейчас приедет.
Вокруг было порядком затоптано, но мне все же удалась различить кровавые следы, где тело волокли с тропы до ближайших кустов. И голову отрубили здесь же, в кустах, если судить по количеству крови. Очень скоро я обнаружил и место, где прятался убийца, поджидая жертву. Примятый мох, а на ближайшем стволе, в самом низу, след топора – очевидно, преступник ждал долго и, чтобы не держать в руке тяжелый топор, вонзил его в дерево. Следы лапландских кеньг. Нога очень небольшая… У меня в животе похолодело.
Я быстро проверил карманы Михельссона. Грязный носовой платок, несколько монет, карманные часы на латунной цепочке. Преступник, по-видимому, даже не дал себе труда обыскать убитого. Вряд ли обычный грабитель. Во внутреннем кармане нашелся карандаш и несколько листов, исписанных безукоризненно красивым почерком. Стихи… подумать только, он писал стихи. Я начал читать, и у меня волосы встали дыбом.
Он писал стихи, короткие, даже игривые, – о своих жертвах.
Я выпрямился и значительно посмотрел на собравшихся.
– Больше мы ничего не можем сделать. – Развел руками и собрался уходить.
– Но… а разве прост не помолится за душу усопшего?
– А-а-а… – Я укорил себя за упущение. – Обязательно. А как же…
Пробормотал молитву и поторопился уйти, пока не прибыл исправник Браге.
В усадьбе было тихо. В отдалении смутно рокотал порог. Огляделся – никого. Подошел к поленнице, остановился, подумал – и наконец решился. Топор на обычном месте, прислонен к колоде. Осмотрел лезвие, искусно скованное местным кузнецом. Осмотрел обух – и сразу увидел коричневатые пятна. Похоже на ржавчину. Пригляделся – нет. Не ржавчина. К обуху прилип короткий, еле заметный волос.
Мне стало трудно дышать. Я постоял, взял себя в руки, отнес топор в сауну и тер щеткой, пока не осталось ни единого следа.
Отпевание секретаря полицейской управы Михельссона состоялось в церкви в Кенгисе. Процедуру отпевания вел я. Приехала мать Михельссона из Пелло, высокая худая женщина с серым от горя лицом. Кстати, именно она настояла, чтобы я взял бразды правления в свои руки. Я пытался отказаться, ссылался на плохое самочувствие – не помогло.
– Мой сын вас так уважал, прост… часто говорил: эх, как бы я хотел стать священником.
– А его невеста тоже придет?
– Невеста? У него никогда не было никакой невесты. Он очень стеснялся женщин… такой деликатный мальчик.
Голос ее дрогнул, и она ударилась в сухие, бесслезные рыдания.
Я произнес краткую речь о Всесильном Судии, с которым каждому из нас рано или поздно придется встретиться. Мы будем стоять перед Ним, прозрачные, как стеклянные бокалы, и зачтутся нам и грехи, и подвиги духа нашего.
С этими словами я мысленно отправил секретаря полицейской управы Михельссона в ад, где он, несомненно, заслужил почетное место.
Исправник Браге произнес прочувствованную речь в память павшего героя, говорил об опасностях профессии, где так легко нажить врагов. Именно таких, скромных и верных служителей порядка, как Михельссон, мы должны благодарить – ведь при его непосредственном участии задержан опаснейший преступник, которого теперь ожидает справедливая смертная казнь.
Гроб подняли, отнесли на погост и опустили в холодную осеннюю землю. Я бросил на крышку три ковшика земли, и могильщики заработали лопатами. А зря. Надо было взять череп, выварить до белизны и послать в музей в Стокгольм.
Я пришел домой и тщательно вымыл руки – они казались липкими после обязательных рукопожатий с исправником и выряженными в траур кабатчиками.
Утром восьмого ноября тысяча восемьсот пятьдесят второго года в селение Каутокейно на севере Норвегии прибыла большая группа саамов. Все они были, мягко сказать, в возбужденном состоянии духа. Все они считали себя верными последователями начатого простом из Пайалы Лестадиусом движения Пробуждения. С вполне христианскими, но, несомненно, угрожающими выкриками отцепили от саней ездовых оленей, вооружились выдранными из ограды кольями и двинулись к хутору купца Карла Юхана Рута. Ворвались во двор, где нашли купца в обществе исправника Ларса Юхана Бухта. Предводитель бунтовщиков Аслак Хаетта подступил к исправнику:
– Пробудись!
И, не дожидаясь ответа, бросился на него с колом. Началась свирепая драка. Хаетта в какой-то момент вцепился зубами в нос исправника и почти откусил. Бухт попытался вытащить нож, но Хаетта перехватил руку и всадил нож исправнику в подмышку. На помощь Хаетте бросились еще несколько саамов, среди них и женщина по имени Эллен Скум, они начали осыпать исправника ударами. Бухт кое-как вырвался и побежал к пристройке, где жили наемные работники, но его догнали, и Аслак Хаетта ткнул ножом под лопатку.
Купец Рут попытался прийти на помощь исправнику, выхватил кол у одной из женщин, но его свалили с ног и так избили, что он потерял сознание. Но и на этом не успокоились. Особенно свирепствовали женщины – Эллен и Черстин Спейн, Берит Гауп и Марит Сара. Они продолжали молотить лежащего палками, пока не проломили череп. Томас Эйра всадил давно потерявшему сознание купцу нож в грудь, а Уле Сомби охотно помог надавить посильнее и проткнуть сердечный мешок, в котором отстукивало последние удары сердце.
В этой суете тяжело раненному, но не потерявшему сознание исправнику удалось скрыться в доме. Он из последних сил доплелся до второго этажа, заперся в гостевой и свалился на постель. Не помогло – Монс Сомбю топором взломал дверь.
– Он еще тут глазами шевелит! – крикнул он остальным.
И мужчины, и женщины ринулись колотить безжизненное тело. Аслак Хаетта вонзил нож в грудь, но лезвие застряло в грудине, и его брату Ларсу пришлось бить по рукоятке поленом, чтобы загнать нож до конца и тем самым погасить последнюю искру жизни.
Жена купца сумела ускользнуть. Она схватила самого младшего ребенка и добежала, задыхаясь, до усадьбы пастора Фредрика Вальдемара Вослефа.
– Они убивают Рута!
Пастор поспешил на помощь, но было уже поздно. Тело купца лежало посреди двора, окруженное одетыми в шкуры созданиями, больше похожими на зверей, чем на людей. Колотили труп чем попало.
– Глянь-ка, и этот пришел!
Теперь они начали бить священника. Тот еле успел снять очки, чтобы осколками стекла не порезало глаза. Женщины, мужчины и даже дети набросились на пастора: плюют в лицо, рвут в клочья рубаху. Аслак Рист стоит рядом и выкрикивает раз за разом:
– Пробудись, дьяволово отродье! Душеубийца!
Вот что они задумали: избиениями и проклятиями изгнать бесов из души Вослефа… Его пинками погнали в пасторскую усадьбу. Оказывается, обитатели успели забаррикадироваться. Но какое там! Бьют стекла, взламывают двери, связывают и выволакивают людей на двор. Осыпают проклятиями. Многие избиваемые теряют сознание. Пастор непрерывно и громко молился – ему показалось, что имя Христа хоть немного, но охлаждает пыл озверевшей толпы.
На стены усадьбы упали кровавые отблески близкого пожара – горела усадьба купца Рута.
Аслак Рист потащил священника на крыльцо.
– Смотри, как горят в аду упорствующие грешники!
Толпа ринулась назад: двор богатый, можно и прихватить кое-что, пока не сгорело; жажда наживы пересилила жажду крови. Вослеф вновь попытался успокоить толпу. Жена – теперь уже вдова – Рута стоит, как изваяние, с крошечной девочкой на руках. А ведь только что на ее глазах убили мужа.
Мародеры вернулись. И все сначала.
Только к четырем часам местным саамам удалось начать контратаку на бунтовщиков. Особенно отличились Уле Тури, Юханнес и Исак Хаетта. В ход пошли все те же колья. Короткая битва завершилась их полной победой. Зачинщики Уле Сомбю и Марит Спейн погибли, остальные избиты до потери сознания.
Так закончился мятеж в Каутокейно.
Перед судом предстали тридцать человек. Пункты обвинения: убийства, поджоги, грабеж, избиения, незаконные угрозы. Аслак Хаетта и Монс Сомбю приговорены к смертной казни. Им отрубят головы. Другие получили долгие тюремные сроки.
Все громче звучат обвинения – а ведь есть и главный виновник кровавого мятежа. Его тоже надо судить – того, кто затеял все это так называемое Пробуждение, подвигшее неразвитых людей на преступление. Прост из Кенгиса.
Движение Пробуждения дышало на ладан. Не успевшие толком открыться глаза вновь начали слипаться.
Ранним утром в тюрьме в Умео надзиратель разбудил осужденного на смерть насильника и убийцу Юсси Сиеппинена и, как того требовал заведенный порядок, предложил последний в жизни завтрак: чашка кофе и ломоть хлеба. Подавленный и взволнованный осужденный от завтрака отказался. Тюремный парикмахер остриг длинные волосы – надо обеспечить палачу свободный доступ к шее. Преступника вывели во двор тюрьмы в цепях, в сопровождении двух конвоиров.
В творожистом утреннем свете невозможно было прочитать на лицах немногих собравшихся хоть какое-то чувство – словно специально изготовленные для такого случая маски. Застывшие маски с искусно приданным выражением суровости и высокой печали. Печаль, разумеется, продиктована необходимостью лишить жизни созданное Господом человеческое существо.
Начальник тюрьмы Торстенссон достал из перламутрового футляра очки в металлической оправе. Нацепил на нос и скрипучим голосом зачитал постановление суда, а также отклоненную Его Величеством королем Швеции просьбу о помиловании.
Тюремный пастор сделал шаг вперед, прочитал без выражения «Отче наш» и произнес короткую проповедь. Подчеркнул величие Господа и напомнил, что даже самые страшные грехи могут быть прощены, на все воля Божья. Спастись могут даже самые заклятые преступники, если смирятся и осознают свои прегрешения.
Так что преступнику предоставляется последняя возможность облегчить душу и предстать перед Создателем. Грешником, разумеется, но раскаявшимся грешником. И возможно, осужденный Юсси Сиеппинен хочет что-то сказать перед казнью?
Лапландец глянул на пастора исподлобья.
– Я – женщина, – сказал он на ломаном шведском.
Начальник тюрьмы посмотрел на пастора с немым вопросом – как следует реагировать на такое заявление?
А осужденному удалось, преодолевая сопротивление наручников, спустить тюремные штаны.
Несчастный сказал правду. Пенис и в самом деле отсутствовал.
Торстенссон некоторое время выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. Потом взял себя в руки и приказал тюремному врачу обследовать осужденного. В напряженном молчании врач присел на корточки, пощупал лобок, даже залез между ног пальцем – не прячет ли хитрец свои достоинства именно там? Но, словно обжегшись, выдернул руку и растерянно сообщил, что да, какие бы то ни было мужские половые признаки отсутствуют. И поправился: полностью отсутствуют. А женские присутствуют. Потом он отодвинул воротник, заглянул и обнаружил под неизвестно откуда взявшейся тугой повязкой небольшие, но несомненно женские груди.
– Какого дьявола! – воскликнул ошеломленный Торстенссон, забыв, что упоминание имени нечистого в такой важный момент может привести к беде.
Все заговорили разом. Торжественное настроение, всегда сопровождающее казнь, как рукой сняло. Палач выглянул из ниши в стене, где по давно разработанным правилам скрывался до решающего момента. Он не мог взять в толк, что происходит. Торстенссон преодолел растерянность, продумал вопрос и обратился к осужденному:
– Ты кто такой?
Наверняка многие подумали, что лучше было бы спросить «Ты кто такая?».
– Другое, – последовал исчерпывающий ответ.
– То есть ты не Юсси Сиеппинен?
– Уже нет.
– Как это – «уже»?
– Я себе переменил. Я сделал себя другим. Другой.
– Это невозможно!
– Для noaidi?[33] Для noaidi возможно все.
Один из надзирателей, крестьянский сын из Сэвера Хольмлунд, мало что понимая в происходящем, приступил к предписанным ему с утра действиям. Вынул из кармана повязку и завязал загадочному существу глаза. Палач решил, что знак подан, и торжественно вышел из убежища. На вытянутых руках он нес тяжелый, искусно заточенный топор с широченным лезвием и узким перешейком у обуха.
Осужденного заставили положить голову на плаху. Торстенссон энергично замахал руками – погодите, мол, вопрос еще не решен. Подозвал священника, врача и двоих обязательных свидетелей в черных пальто и шляпах. Может, приволокли не того? Но надзиратели клянутся – как это не того? Самого того. Это как раз он содержался в камере для смертников. Кто же еще? Никого больше к смертной казни пока не приговаривали.
Чиновники смотрели на низкорослого, щуплого пленника и никак не могли поверить своим глазам. Длинные волосы, только на шее сострижены. Бороды, конечно, нет, но у саамов бороды растут плохо, это всем известно. Что мужчины, что женщины – все на одно лицо. А что, если вся эта история станет известной? Ничего хорошего. Для тюремного начальства – уж точно. Ладно бы, если просто засмеют, а может и совсем уж скверно кончиться. Особенно теперь, после дикого бунта в Каутокейно, – как это будет выглядеть? Кровожадный убийца-лапландец обвел вокруг пальца правосудие? А может, просто… просто дать знак палачу и покончить со всей этой историей?
Начальник задумался.
И вдруг наступившую тишину прорезал низкий утробный звук. Жуткий, вибрирующий, пробирающий до спинного мозга. Он шел словно из-под земли. У присутствующих волосы встали дыбом. Все ощутили себя ничтожными букашками перед этим звериным проклятием, проклятием самой природы, перед этим длинным и грозным, ничего хорошего не сулящим заклинанием.
– Но-о-о… а-ан-о-о-о…но-о-о…
Священник начал было громко читать молитву, пытался заглушить еретические завывания, палач занес свой наводящий ужас топор. Торстенссон повернулся к доктору, доктор косился на пастора.
Что делать? Ведь если сделать вид, что ничего не случилось, если его… если ее… Махнуть палачу – и концы в воду? Ну нет… какие концы? Все равно же просочится, и тогда уж точно беды не миновать… Надо же – вместо убийцы и насильника казнили какую-то полусумасшедшую деваху, к тому же дикарку…
Господи, что нам делать с этими лапландцами?