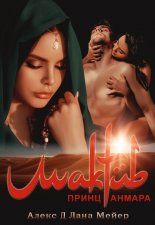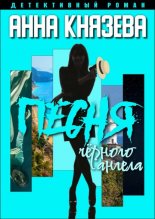Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии Марш Генри

– Поразительно, сколько неприятностей может навлечь один-единственный телефонный звонок, – заметил я, с несчастным видом наблюдая за ней, и она одарила меня беглой улыбкой.
– Для начала мне следует объяснить, – очень мягко сказал королевский адвокат, – из чего мы исходим. Думаю, защищаться будет сложно…
– Полностью с вами согласен, – перебил я его.
Встреча длилась всего пару часов. Стало до боли очевидно – как я и предполагал – что выиграть дело нам не удастся.
По окончании встречи адвокат попросил моего коллегу выйти.
– Вы, мистер Марш, можете остаться, – добавил он.
Я вспомнил, как пятьдесят лет назад, терзаемый опасениями, стоял у двери в кабинет школьного директора, который должен был наказать меня за проступок. Я знал, что адвокат будет вести себя профессионально и говорить только по делу, но все равно не мог справиться со стыдом и страхом, переполнявшими меня.
После того как мой коллега вышел, адвокат повернулся ко мне.
– Боюсь, вам нечего будет сказать в свое оправдание, – произнес он с виноватой улыбкой.
– Знаю. Я с самого начала чувствовал, что эту ошибку нельзя будет оправдать.
– Боюсь, дело может затянуться еще на какое-то время, – добавил кто-то из юристов-консультантов тоном, который напомнил мне мои собственные интонации в те моменты, когда я сообщаю пациентам плохие новости.
– Ничего страшного. – Я старался, чтобы мой голос звучал мужественно и понимающе. – С этим я уже смирился. Такова нейрохирургия. Я сожалею лишь о том, что сделал несчастную женщину инвалидом, из-за чего вам придется теперь заплатить миллионы фунтов стерлингов.
– Ради этого мы здесь и собрались, – заметила юрист-консультант.
Все трое смотрели на меня доброжелательно, хотя и чуть вопросительно. Возможно, они ожидали, что я расплачусь. Мне было непривычно чувствовать себя объектом чьей-то жалости.
– Что ж, тогда оставляю вас обсуждать ужасные финансовые последствия моей ошибки. – Я взял ранец и складной велосипед.
– Давайте я провожу вас до двери, – сказал адвокат. Настойчиво демонстрируя свою профессиональную обходительность, он проводил меня до лифта. Мне казалось, что я этого не заслуживаю.
Мы пожали друг другу руки, и он вернулся в кабинет, чтобы обсудить цену мирного урегулирования вопроса.
Коллега ждал меня в фойе.
– Больше всего меня мучает стыд за собственную некомпетентность, – сказал я. Пока мы шли по Флит-стрит, я катил велосипед рядом с собой. – Суетное чувство, если подумать. Я нейрохирург и должен привыкнуть к тому, что, так или иначе, приходится рушить чужие жизни и совершать ошибки. И все равно каждый раз чувствую себя ужасно. К тому же больнице это дорого обходится.
Утром дождя не обещали, и мы оба оказались одеты не по погоде. К тому времени как мы пересекли мост Ватерлоо, наши костюмы в тонкую полоску вымокли до нитки. Вода струилась по моему лицу, щеки заледенели.
– Я понимаю, что нужно смириться с такими вещами, – неуклюже продолжил я. – Но никому, никому, кроме нейрохирурга, не суждено понять, каково это – каждый день (порой на протяжении нескольких месяцев) заставлять себя снова и снова приходить в палату, чтобы увидеть человека, которого ты сделал инвалидом, чтобы столкнуться лицом к лицу с его семьей, которая когда-то верила в тебя.
– Некоторые хирурги в таких случаях попросту не решаются заходить в палату.
– Я сказал родным пациентки, чтобы они подали на меня в суд. Я сказал, что совершил ужасную, непростительную ошибку. Довольно нетипично, правда. В итоге у нас с ними – как бы дико это ни прозвучало – сохранились вполне дружеские отношения. По крайней мере я так думаю. Но не могу же я ожидать, что у них сложилось обо мне хорошее мнение, ведь так?
– Если работаешь нейрохирургом, то долго почивать на лаврах не получится, – ответил мой коллега. – За углом всегда поджидает очередная катастрофа.
Мы добрались до вокзала Ватерлоо, где уже толпились люди, собиравшиеся провести выходные на юге, пожали друг другу руки и разошлись каждый в свою сторону.
Тогда я так и не посмел спросить, во сколько может обойтись мирное урегулирование этого дела. Лишь спустя два года я узнал, что окончательная сумма составила шесть миллионов фунтов.
Вернувшись тем вечером в больницу, я зашел в отделение интенсивной терапии, чтобы повидать молодого человека с рецидивом опухоли, которого оперировал утром, – мне казалось, с тех пор миновала целая вечность. Операция прошла довольно неплохо, однако мы оба прекрасно понимали, что я не вылечил его и что рано или поздно опухоль вновь напомнит о себе. Пациент сидел в кровати, его голова была перевязана.
– С больным все в порядке, – заметила присматривавшая за ним медсестра, которая как раз стояла рядом, заполняя лист наблюдения.
– И снова, мистер Марш, – сказал пациент, напряженно глядя мне в глаза, – моя жизнь оказалась в ваших руках. Я бесконечно вам благодарен.
Он хотел добавить что-то еще, но я поднес палец к губам.
– Тс-с-с, – произнес я, направляясь к выходу. – Я приду к вам завтра.
18. Карцинома
злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток эпителиальной ткани
В субботу я навестил свою мать, лежавшую в больнице. Онкологическое отделение, в которое ее положили, располагалось на одиннадцатом этаже, а ее кровать стояла напротив большого панорамного окна, откуда открывался вид на здание парламента и Вестминстерский мост, который с такой высоты казался на удивление близким. Стоял исключительно ясный весенний день. Протекавшая под нами Темза, словно отполированная сталь, отражала солнечный свет, который резал мне глаза. Город, раскинувшийся внизу, почти угнетал своими четкими безжалостными очертаниями – мне подумалось, что эти несоразмерно большие здания – не самое подходящее зрелище для умирающего человека.
Мама сказала, что персонал очень дружелюбен, но безнадежно загружен работой, из-за чего всюду царит непривычная неорганизованность: ей было с чем сравнить, ведь много лет назад она лежала здесь же. Говоря это, мама указала на постельное белье, которое не меняли двое суток. Она ненавидела жаловаться, но созналась, что вот уже два дня ее морят голодом, так как должны сделать эхограмму, в которой – я был в этом уверен – совершенно не было необходимости. Уже появились симптомы желтухи, а это, очевидно, свидетельствовало о том, что карцинома в груди, от которой маму лечили двадцатью годами ранее, дала метастазы в печень.
По словам мамы, ситуацию отчасти скрашивала возможность ходить на больничный горшок, глядя сверху вниз на вершителей наших судеб, заседающих в здании на другом берегу реки. Она выросла в фашистской Германии (откуда бежала в 1939 году) и скептически относилась к любой власти, несмотря на то что неизменно оставалась абсолютно законопослушным гражданином.
По ее собственным словам, она высыхала. Кости на лице выступали все сильнее, а в ее тощей фигуре я стал все больше узнавать себя – люди всегда говорили, что из четырех ее детей я больше всех похож на маму. Оставалось только надеяться, что у нее в запасе есть хотя бы еще несколько месяцев относительно полноценной жизни.
Мы поговорили о том, как она хочет провести оставшееся время, но так ничего и не решили. Моя мама была одним из самых храбрых людей, которых я когда-либо знал, и на жизнь она смотрела на редкость философски, но никто из нас не осмеливался говорить о смерти прямо.
В те выходные я был дежурным врачом и мне без конца названивал новый, совершенно неопытный ординатор по поводу многочисленных непростых проблем. Эти проблемы не носили клинического характера – они были связаны с тем, что в больнице постоянно не хватало коек.
Уже в понедельник от недовольных пациентов посыпались жалобы на то, что я пытаюсь как можно скорее выписать их. Одним из них был словоохотливый старик, который не желал возвращаться домой с постоянным мочевым катетером после простейшей операции на позвоночнике. Я уже объяснял ему, что он сделает огромное одолжение другому пациенту, если отправится домой сразу после операции, так как у нас не было свободных мест для больных, которым предстояла операция на следующий день. Три дня спустя он все еще оставался в палате, а старшая медсестра осудила меня за тон, которым я с ним разговаривал (хотя мне казалось, что я был максимально вежлив и тщательно подбирал слова).
Из-за того что он отказался выписываться, мне пришлось отменить операцию у женщины с сильнейшей невралгией тройничного нерва. И тем не менее старшая медсестра сказала, что я должен извиниться: мол, нельзя заставлять пациента выписываться до того, как он сам сочтет это нужным. Итак, скрипя зубами, я пошел выразить ему свои извинения. Он охотно их принял.
– Да, я понимаю, доктор. Раньше я занимался кухонным оборудованием и иногда не успевал закончить работу в срок. Я тоже ненавидел разочаровывать людей.
Я что-то пробормотал насчет того, что операции на мозге и установка кухонных шкафчиков не совсем одно и то же, и вышел из его палаты – палаты с балконом и с окнами, выходящими в сад; на горизонте виднелись очертания Эпсома. Тогда я еще работал в старой больнице, которую закрыли три года спустя. Возможно, если бы пациент лежал в более типичном для современных клиник отделении, а не в отдельной палате с видом на сад, в котором росло множество нарциссов, посаженных мною, то не настаивал бы на том, чтобы задержаться здесь подольше.
Через два дня, когда я посещал медицинское собрание в Глазго, у мамы наконец официально диагностировали неизлечимый рак, после чего ее отправили домой умирать. В ее возрасте, а тем более при столь запущенной форме рака о химиотерапии не могло быть и речи, да мама в любом случае на нее не согласилась бы, с чем отцу оказалось очень непросто смириться.
Вернувшись из Глазго, я навестил родителей. Они сидели на кухне. С нашей последней встречи мамина кожа еще сильнее пожелтела из-за печеночной недостаточности. Мама выглядела измученной и истощенной, но не утратила присутствия духа.
– Я не хочу вас всех оставлять, – печально сказала она. – Но не думаю, что смерть – это конец.
Отец – ему стукнуло восемьдесят шесть (он уже начал страдать деменцией, от которой и умер спустя восемь лет) – окинул нас отстраненным, немного потерянным взглядом, словно не мог понять, что происходит. Словно не мог взять в толк, что его пятидесятилетний сын плачет из-за его жены, которой вскоре суждено было умереть.
В течение нескольких дней мамино состояние резко ухудшилось, и уже через две недели ее не стало – «после непродолжительной болезни», как говорилось в некрологе, хотя нам показалось, что она длилась вечность. До последнего вздоха мама сохранила рассудок и оставалась собой: чувство юмора, немного ироничное и сдержанное, ей никогда не изменяло.
Она постепенно слабела и под конец целые дни проводила в кровати, стоявшей в музыкальной комнате на первом этаже. Каждый вечер я на руках заносил ее на второй этаж родительского дома – к тому времени она стала практически невесомой. Но даже это вскоре сделалось для нее слишком серьезной нагрузкой, и после разговора со мной и одной из моих сестер (она работала медсестрой) было решено оставить маму в спальне, которую она делила с отцом на протяжении последних сорока лет. Мама решила, что хочет умереть здесь – и нигде больше. Эта уютная комната в георгианском стиле, выдержанная в идеальных пропорциях, была обшита деревянными панелями, покрытыми неяркой, чуть выцветшей зеленой краской; здесь стоял открытый камин, полка над которым была уставлена маминой коллекцией глиняных птичек и яиц. Высокие окна выходили в сторону парка, особенно красивого в это время года. Слева виднелась местная церковь, которую мама посещала по воскресеньям и в которой после ее смерти должна была проходить похоронная служба.
Каждый день, утром и вечером, мы с сестрой приезжали в родительский дом, чтобы позаботиться о маме. Поначалу я помогал ей дойти до туалета и ванной, где сестра ее умывала. Но вскоре мама уже не могла преодолеть даже это небольшое расстояние, так что я усаживал ее на специальный переносной унитаз, позаимствованный из местной больницы. Сестра оказалась потрясающей сиделкой: нежно и ласково она обсуждала с мамой каждое действие. Но в конце концов, на глазах у нас обоих умерло немало людей, я и сам некогда работал медбратом в гериатрическом отделении. Думаю, несмотря на переполнявшие нас бурные эмоции, уход за мамой давался нам относительно легко и казался совершенно естественным. Не то чтобы мы не переживали – нет, мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что мама умирает. Полагаю, то, что мы чувствовали, нельзя назвать ничем иным, кроме как сильной любовью – любовью, лишенной скрытых мотивов, тщеславия и эгоизма, которые, увы, столь часто сопровождают любовь.
– Даже непривычно ощущать на себе столько любви сразу, – сказала мама за два дня до своей смерти. – Не устаю благодарить судьбу.
И у нее были на то полные основания. Сомневаюсь, что кому-нибудь из нас посчастливится – если так можно выразиться – умереть такой же идеальной смертью, когда придет наше время. Умереть в собственном доме, оставив позади длинную жизнь. Умереть довольно быстро и совершенно безболезненно, под присмотром собственных детей, в кругу любящей семьи. За пару дней до маминой смерти почти случайно вся семья: дети, внуки и даже правнуки, – собралась в доме. Кроме того, приехали две ее самые давние подруги. К огромному удовольствию мамы, вечер постепенно перерос в импровизированные предсмертные поминки. Пока она лежала в спальне на втором этаже, мы, собравшись у обеденного стола, вспоминали ее жизнь, выпивали в память о ней, хотя она еще была жива, и наслаждались ужином, приготовленным моей будущей женой Кейт. С Кейт я познакомился (на радость маме, которая переживала из-за моего драматичного разрыва с первой женой) всего за несколько месяцев до этого. И она немного удивилась, когда ей пришлось готовить ужин на семнадцать человек, хотя ранее в тот день я робко попросил ее что-нибудь состряпать на пятерых.
Любой день мог быть последним, и каждое утро, когда я приезжал в родительский дом, мама неизменно встречала меня словами:
– Я все еще здесь.
Однажды, после того как я пожелал маме спокойной ночи и сказал, что увижу ее завтра утром, она ответила с улыбкой:
– Живой или мертвой.
Полагаю, подобные сцены редко можно увидеть в современном мире, где люди умирают в обезличенных больницах или хосписах. Да, там за умирающими ухаживают заботливые врачи, но стоит им только отвернуться – и заботливое выражение исчезает с лица подобно улыбкам гостиничных портье (как и у меня на работе).
Умирать всегда нелегко, как бы мы к этому ни относились. Наши тела ни за что не отпустят нас просто так, без мучений. Нельзя просто сказать несколько многозначительных слов заплаканным родным, а затем испустить последний вздох. Если смерть не наступает моментально, как бывает, например, при удушье или во время комы, то вы начинаете постепенно чахнуть: плоть усыхает, кожа и глаза становятся темно-желтыми, если отказывает печень, голос слабеет, а перед самым концом сил не остается даже на то, чтобы поднять веки, – вы неподвижно лежите на смертном одре, и только ваше судорожное дыхание напоминает о том, что вы еще здесь. Постепенно вас становится не узнать – во всяком случае, лицо утрачивает черты, которые были присущи только ему и которые отличали его от других. Все, что остается, – это кожа, очерчивающая очертания черепа. Теперь вы выглядите так же, как и остальные пожилые люди с вытянутыми, иссушенными лицами, неотличимые друг от друга в своих больничных пижамах. Я повидал много таких стариков, когда работал интерном: тогда меня часто вызывали в палату ранним утром, чтобы констатировать их смерть, что я и делал, преодолев длинные пустынные больничные коридоры.
К моменту смерти маму было не узнать. Последний раз я видел ее утром в день смерти, перед тем как отправиться на работу. Я провел ночь в доме родителей на полу отцовского кабинета, смежного с их спальней. Через открытую дверь я отчетливо слышал скрипучее мамино дыхание. Когда я зашел к ней в четыре утра и предложил дать воды или морфина, она покачала головой. По ее виду можно было бы запросто подумать, что она мертва, если бы не тяжелое, прерывистое дыхание. Прежде чем окончательно уйти, я сказал маме (ее предсмертной маске), держа ее за руку: «Ты еще здесь». Она медленно, почти незаметно кивнула. Я не помню, как взглянул на маму в последний раз тем утром, да это и не имело значения. Я уже успел с ней многократно попрощаться.
Вскоре после полудня (я сидел на очередном занудном собрании) мне позвонила сестра: несколькими минутами ранее мамы не стало. Сестра рассказала, что мамино дыхание становилось все более поверхностным, пока наконец родные, собравшиеся вокруг ее кровати, не осознали, к своему легкому удивлению, что она умерла.
Я не чувствовал необходимости прощаться с ее телом: теперь оно, насколько я мог судить, превратилось в бессмысленную оболочку. Я говорю «тело», однако с тем же успехом мог бы говорить и о мозге. Сидя у маминой кровати, я частенько об этом размышлял: о том, как миллионы и миллионы нервных клеток с бесчисленными соединениями между собой, из которых состоял мамин мозг, ее «Я», растворяются и уходят в небытие. Я вспоминаю, как она выглядела тем утром: с ввалившимися щеками, с изможденным выражением лица, неспособная двигаться и говорить, не в состоянии даже открыть глаза – и тем не менее она качнула головой, когда я предложил ей попить. Внутри умирающего, разрушенного тела, захваченного раковыми клетками, все еще оставалась личность. Она была еще здесь, хотя и отказывалась даже от воды, явно не желая больше оттягивать смерть. А теперь все эти нервные клетки мертвы, и моей мамы – которая в каком-то смысле представляла собой сложную и запутанную систему, состоявшую из миллионов взаимодействующих нейронов, – не стало. Тот удивительный факт, что грубая материя может порождать сознание и способность к восприятию, в неврологии называется загадкой перцептивного связывания, к объяснению которой никто пока и близко не подступился. Когда мама лежала при смерти, я с необычайной силой ощущал, что ее настоящая личность по-прежнему скрывается где-то глубоко под предсмертной маской.
Какой должна быть хорошая смерть? Безболезненной, само собой, но смерть включает много аспектов, только одним из которых является физическая боль. Полагаю, как и большинство врачей, я видел смерть во всех ее многочисленных проявлениях и могу с уверенностью сказать: моей маме действительно повезло. Размышляя о собственной смерти (чего стараюсь всячески избегать, и это естественно), я надеюсь на быстрый и безболезненный конец, например, от сердечного приступа или инсульта, причем желательно во сне. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что мне вовсе не обязательно так повезет. Мне точно так же может не посчастливиться – и какое-то время придется прожить без малейшей надежды на будущее, когда останется лишь оглядываться на прожитые дни. Мама верила в некую жизнь после смерти, однако я придерживаюсь иных взглядов. Если я не умру мгновенно, то для меня единственным утешением станет моя последняя оценка собственной жизни. И хочется верить, что перед смертью у меня, как и у мамы, не останется никаких сожалений. Когда мама была при смерти, она то и дело теряла сознание, но, приходя в себя, говорила – иногда на своем родном немецком языке:
– Я прожила потрясающую жизнь. Мы уже сказали все, что только можно было сказать.
19. Акинетический мутизм
синдром, для которого характерны утрата речевых и произвольных двигательных функций, отсутствие эмоциональных реакций
С точки зрения неврологии существование души крайне маловероятно, поскольку все, что мы думаем и чувствуем, – не больше и не меньше, чем обмен электрохимическими импульсами между нервными клетками. Наше самоощущение, наши чувства и мысли, наша любовь к другим людям, наши надежды и амбиции, наши страхи и наша ненависть – все это умирает вместе с мозгом. Многих людей глубоко возмущает подобная позиция, ведь она не только лишает нас надежды на жизнь после смерти, но и сводит человеческие мысли к электрохимическим взаимодействиям, а человеку оставляет роль бездушной машины. Но эти люди глубоко заблуждаются: на самом деле данная точка зрения возвышает материю до уровня, на котором она превращается в нечто совершенно таинственное – такое, что мы не в силах постичь. В мозгу каждого человека порядка ста миллиардов нервных клеток. Несет ли каждая из них в себе частичку сознания? Сколько нужно клеток, чтобы осознавать себя и происходящее вокруг, а сколько – чтобы чувствовать боль? Или же сознание и мысли сосредоточены в электрохимических импульсах, при помощи которых все клетки образуют единое целое? Есть ли у улитки хотя бы зачатки сознания? Испытывает ли она боль, когда на нее кто-нибудь наступает, раздавливая панцирь вдребезги? Никому не известно.
Один выдающийся и весьма эксцентричный невролог, который за годы нашего знакомства направил ко мне многих пациентов, как-то раз попросил меня осмотреть женщину, которая пребывала в хроническом вегетативном состоянии. Я оперировал ее годом ранее, причем случай был неотложный: у женщины произошел разрыв артериовенозной мальформации, из-за чего развилось угрожавшее жизни кровоизлияние в мозг. Операция выдалась непростая, и, хотя я сохранил пациентке жизнь, мне было не под силу исправить повреждения, причиненные мозгу в результате кровоизлияния. Она впала в кому до операции и не очнулась даже много недель спустя. Через несколько недель после операции женщину перевели в больницу по месту жительства, где ее наблюдал невролог, который теперь хотел, чтобы я осмотрел ее в лечебнице для престарелых пациентов, в которой она в конечном итоге очутилась. Перед тем как ее туда поместили, я установил шунт для борьбы с гидроцефалией мозга, которая стала запоздалым следствием первоначального кровотечения.
Несмотря на то что для установки шунта требуется минимальное хирургическое вмешательство – подобные операции я обычно доверяю младшим врачам, – эту операцию я запомнил очень хорошо, так как работал в чужой больнице, а не в родном нейрохирургическом отделении. Я практически никогда не оперирую за пределами своей операционной, за исключением, разумеется, заграничных операций. Я отправился в больницу, в которой лежала пациентка, прихватив с собой набор инструментов и одного из ординаторов. Я тщеславно представлял, что визит старшего нейрохирурга в больницу, где операции на мозге обычно не проводятся, станет важным событием, которое заинтересует персонал. Но кроме отчаявшейся семьи, никто вроде бы и не заметил моего приезда. Невролог, который в тот день отсутствовал, убедил родственников, что после операции пациентка может прийти в сознание. Я был настроен куда менее оптимистично, о чем и сообщил им. Однако терять было нечего, и после этого разговора я спустился в операционную, где, как мне сказали, персонал уже все подготовил к проведению операции.
Медсестры и анестезиологи встретили меня с полным безразличием, что изрядно сбивало с толку. Мне пришлось прождать два часа, прежде чем доставили пациентку, а когда она наконец оказалась в операционной, хирургическая бригада вяло принялась за работу в угрюмой тишине. Обстановка разительно отличалась от той, в которой я привык работать: в моей операционной все были приветливыми и энергичными. Я никак не мог понять, было ли их поведение связано с тем, что они считали операцию пустой тратой времени, или же они всегда ведут себя подобным образом. Так или иначе, я завершил операцию, отчитался перед семьей пациентки и вернулся в Лондон.
Прошли месяцы, и стало очевидно, что шунт не повлиял на состояние пациентки. Невролог захотел, чтобы я осмотрел ее и определил, нормально ли функционирует шунт и не закупорился ли он. Мне показалось несколько жестоким и нецелесообразным везти женщину на машине «Скорой помощи» через все разделявшее нас расстояние только ради того, чтобы узнать мое мнение, и я согласился – с некоторой неохотой, так как понимал, что ничем не смогу помочь, – приехать в лечебницу для престарелых, где пациентка теперь лежала.
Пациенты в хроническом вегетативном состоянии выглядят бодрствующими, так как их глаза открыты, однако они не реагируют на происходящее вокруг. Кто-то скажет, что они в сознании, но никаких проявлений этого сознания не наблюдается. Они превращаются в пустую оболочку – тело, в котором никого нет дома. Тем не менее последние исследования с применением функциональной томографии мозга показали, что так бывает не всегда. Оказалось, в мозгу у некоторых из этих пациентов, несмотря на отсутствие каких бы то ни было реакций, отмечается определенная активность и они в какой-то степени осознают то, что происходит во внешнем мире. Вместе с тем толком непонятно, что это может значить. Пребывают ли они в состоянии своего рода бесконечного сна. В раю они или в аду? Или они лишь смутно представляют существование окружающего мира, сохранив только небольшой фрагмент сознания, о котором и сами вряд ли догадываются?
За последние годы в суде рассматривалось несколько резонансных дел, посвященных вопросу о том, целесообразно ли поддерживать жизнь в таких пациентах (самостоятельно есть и пить они, очевидно, не могли) и не лучше ли позволить им спокойно умереть. В некоторых случаях судья решал, что будет разумнее прекратить уход за больным. Смерть, однако, не наступала быстро: наш абсурдный закон требует, чтобы пациенты медленно умирали от голода и обезвоживания, на что уходит, как правило, несколько дней.
В восемь вечера я завершил дела в амбулаторном отделении и покинул Лондон – на улице сгущались осенние сумерки. Было уже довольно поздно, когда я добрался до дома невролога; лечебница – приятная усадьба, окруженная древними высокими деревьями, – располагалась в нескольких милях оттуда, и мы поехали на его машине. Когда он припарковался, стемнело окончательно. Сквозь ветви деревьев я разглядел огни в окнах, приветливо освещавшие дорогу, пока мы шли мимо безлюдного теннисного корта, усыпанного сухой листвой. Лечебницей заведовали католические монахини, а предназначалась она для пациентов с серьезными повреждениями мозга. Внутри царили чистота и порядок, а персонал оказался очень заботливым и дружелюбным. Разница с той больницей, в которой я проводил операцию по установке шунта годом ранее, была невообразимой. Набожные католические монахини не соглашались с учеными-неврологами, утверждавшими, что вся сущность человека полностью зависит от физической целостности головного мозга. Наоборот, многовековая вера в существование бесплотной человеческой души позволила им создать для пациентов в вегетативном состоянии и их семей добрый, гостеприимный дом.
Вместе с сестрой мы поднялись по огромной лестнице. Я гадал, кому изначально принадлежала усадьба – возможно, какому-нибудь капиталисту времен Эдуарда VII или же аристократу с целой армией слуг. Мне стало любопытно, как бы он отнесся к переменам, которые претерпело его солидное имение. Мы прошли по широкому коридору второго этажа, застланному ковровой дорожкой. По обе его стороны размещались палаты: все двери были открыты, и я видел неподвижно лежавших пациентов. Возле каждой двери была прикреплена эмалированная табличка с именем пациента: каждый из них проводил в лечебнице многие годы, оставаясь здесь вплоть до самой смерти, и поэтому заслуживал собственной таблички, а не бумажного листка, которые распространены в рядовых больницах. К своему ужасу, я узнал как минимум пять из прочитанных фамилий – они принадлежали моим бывшим пациентам.
Один из старших нейрохирургов, под чьим началом я стажировался, – человек, перед которым я преклоняюсь, – как-то поведал мне историю об известном хирурге, возведенном в рыцарское звание, у которого он, в свою очередь, был в подмастерьях:
– Для удаления опухолей слухового нерва он использовал распатор – инструмент, с помощью которого обычно вскрывают череп. Операция, на которую у большинства хирургов ушло бы много часов, занимала у него всего тридцать – сорок минут. Время от времени такая методика неизбежно приводила к несчастью. Помню женщину с большой опухолью слухового нерва – он распатором перерезал ей позвоночную артерию, что спровоцировало обширное кровоизлияние. Было очевидно, что женщине конец. Я зашил разрез – ничего не поделаешь. Каждый вечер я должен был звонить ему ровно в семь, чтобы рассказать, как обстоят дела со всеми его пациентами. Итак, я позвонил и прошелся по списку пациентов, которых мы лечили на тот момент. В конце я упомянул женщину с опухолью слухового нерва. Миссис Б. ее звали – я до сих пор помню ее имя. Я сказал, что мы теряем миссис Б., ну или что-то в этом роде. «Миссис Б? – ответил он. – Кто это?» Он уже о ней позабыл. Хотелось бы мне, чтобы и у меня была такая же избирательная память, – произнес задумчиво мой наставник и добавил: – У великих хирургов частенько проблемы с памятью.
Надеюсь, я хороший хирург. Но до великого мне определенно далеко. Я запоминаю не свои успехи, а свои неудачи – во всяком случае, мне нравится так думать. Но вот здесь, в этой лечебнице, лежат несколько моих бывших пациентов, о которых я уже позабыл. Некоторым из них я попросту был не в состоянии помочь, но по меньшей мере одного человека, как говорят мои стажеры в своей простодушной, но бестактной манере, я угробил.
Много лет назад я, полный юношеского энтузиазма, провел не до конца продуманную операцию по удалению крупной опухоли. Операция длилась восемнадцать часов. В два часа ночи я неосторожным движением разорвал базилярную артерию пациента (она обеспечивает кровью ствол головного мозга), и он так никогда и не очнулся. Сейчас я увидел его серое скрюченное тело, лежавшее в кровати. Я бы ни за что на свете не узнал его, если бы не эмалированная табличка с именем возле двери.
Пациентка, которую я собирался осмотреть, лежала безмолвно и неподвижно, ее конечности застыли, а глаза на ничего не выражавшем лице оставались открытыми. Она работала журналисткой в местной газете, была полна жизни и энергии, до тех пор пока не перенесла обширное кровоизлияние, нанесшее мозгу повреждения, которые я не в состоянии был исправить. На стенах висели фотографии, сделанные до того ужасного события: на них женщина счастливо улыбалась. Периодически пациентка издавала протяжные, мяукающие звуки. На проверку шунта мне понадобилось всего несколько минут: через кожу головы я поместил в него иголку и установил, что он работает нормально. Я ничем не мог ей помочь.
Оказалось, пациентка может шевелить одним пальцем и даже общаться с помощью специального устройства, используя азбуку Морзе. Рядом с ней сидела медсестра – сосредоточенно нахмурившись, она слушала пикающие звуки и переводила их для меня. Медсестра сказала, что пациентка поинтересовалась шунтом, после чего поблагодарила меня и пожелала спокойной ночи.
Здесь же была ее мать, которая, выйдя вместе со мной, завела тоскливый разговор. Она рассказала о письмах, которые с помощью азбуки Морзе посылает ее дочь, – их переводила одна из медсестер. Но действительно ли ее дочь имела в виду то, что сказала медсестра?
Узнать это наверняка, разумеется, невозможно. Мать пациентки очутилась в кошмаре, заблудившись в лабиринте неопределенности и безнадежной любви, ведь ее дочь одновременно и жива, и мертва. Действительно ли за неподвижной, лишенной эмоций маской скрывается живой разум? Действительно ли пациентка в той или иной степени осознает, что происходит вокруг ее парализованного тела? Сочиняют ли медсестры – преднамеренно или нет – все ее письма? Может быть, их вводит в заблуждение собственная вера? Узнаем ли мы когда-нибудь ответы на эти вопросы?
20. Гибрис
высокомерие или самонадеянность; (в древнегреческой культуре) чрезмерная гордыня или вызов богам, влекущие за собой их гнев
Утром перед работой я заехал в Уимблдон, чтобы купить в магазине «Маркс и Спенсер» гору фруктов и шоколадных конфет для персонала операционной. Я перебрал свою музыкальную коллекцию и выбрал достаточно дисков для того, чтобы хватило как минимум на весь день и хотя бы на часть ночи: операция предстояла продолжительная. Старшим врачом я стал всего четыре года назад, но уже приобрел довольно большой клинический опыт – больше, чем у любого другого известного мне нейрохирурга. Пациентом был школьный учитель хорошо за пятьдесят – человек высокий, слегка сутулый, ходивший с тростью и носивший очки. Его осмотрел невролог, затем назначивший проведение томографии, после чего пациента направили ко мне. Тогда мы еще работали в старой больнице, и я принимал его в кабинете, из окон которого виднелась березовая рощица. Иной раз я ловил на себе задумчивый взгляд одной из местных лисиц, пробегавших мимо по своим делам. Пациент пришел вместе с женой и сыном. Я усадил всех троих возле письменного стола, взял снимки, которые мужчина принес с собой, и поместил в негатоскоп, висевший на стене. До эры компьютеров оставалось еще далеко.
Я заранее знал, что увижу на снимках, тем не менее размер опухоли, растущей от основания черепа, поразил меня. Весь мозговой ствол и все черепные нервы – нервы, отвечающие за слух и движение, за чувствительность в области лица, за глотательный рефлекс и речь, – оказались растянуты зловещей горбообразной массой. Это была исключительно крупная петрокливальная менингиома. Раньше я видел опухоли такого размера только на картинках в учебниках. Впоследствии я столкнулся со множеством подобных случаев на Украине, когда со всей страны ко мне приезжали пациенты с ужасающими опухолями, чтобы услышать мое мнение. Пока же я разрывался между нетерпением и тревогой.
Я сел за стол и спросил:
– Что вам уже рассказали?
– Невролог сказал, что опухоль доброкачественная и что вам решать, нужно ее удалять или нет.
– Что ж, она определенно доброкачественная, но вместе с тем очень большая. Впрочем, такие опухоли растут крайне медленно, и можно с уверенностью сказать, что у вас она появилась много лет назад. Что заставило вас сделать томограмму?
Как выяснилось, он начал замечать, что в последние годы походка сделалась неустойчивой, а кроме того, возникли проблемы со слухом в левом ухе.
– Но что произойдет, если ее оставить? – спросил сын пациента.
Я ответил, тщательно подбирая слова, что она продолжит постепенно расти, а состояние больного будет медленно, но верно ухудшаться.
– Я уже решил, что выйду на пенсию досрочно по состоянию здоровья, – поделился пациент своими планами.
Я сказал, что операция сопряжена с определенным риском.
– Какого рода? – встревоженно спросил сын.
Я объяснил, что риск весьма серьезный. Вблизи от опухоли располагалось столько всевозможных мозговых структур, что потенциальные неблагоприятные последствия операции варьировались от глухоты и паралича лицевых мышц до обширного инсульта и смерти. Я описал, что представляет собой операция.
Какое-то время все трое сохраняли гробовое молчание.
– Я связывался с профессором Б. из Штатов, – наконец сообщил сын пациента. – Он сказал, что оперировать нужно и что он может взяться за это.
Я не знал, что ответить. Я только начинал карьеру старшего врача и прекрасно понимал, что есть немало других, гораздо более опытных коллег. В те годы я испытывал благоговейный трепет перед именитыми нейрохирургами международного уровня, которые читают основные доклады на конференциях, представляя опухоли вроде той, что развилась у сидевшего передо мной мужчины, и демонстрируя, каких потрясающих результатов – намного превосходивших все, чего успел добиться я, – им удалось достичь.
– Но придется заплатить сто тысяч долларов, – добавила жена пациента. – Мы не можем позволить себе такую сумму.
Сын посмотрел на меня с некоторым смущением:
– Нам сказали, что профессор М. – лучший нейрохирург в стране. И мы попробуем узнать его мнение на этот счет.
Я почувствовал себя униженным, хотя и знал наверняка, что эта операция будет невероятно сложной для любого хирурга.
– Хорошая мысль, – сказал я. – Мне бы очень хотелось узнать, что он скажет по этому поводу.
Они вышли из кабинета, а я продолжил прием амбулаторных больных.
– На линии профессор М., – сказала две недели спустя Гейл, заглянув в мой кабинет.
Я поднял трубку, из которой до меня донесся звучный, уверенный голос. Я несколько раз встречался с профессором М. в годы ординатуры: он определенно был отменным хирургом, по чьим стопам мечтали пойти многие стажеры. Уверенность в себе, казалось, никогда его не подводила. Я слышал, что вскоре он собирается выйти на пенсию.
– А, Генри! – сказал он. – Этот мужик с петрокливальной. Нужно резать. У него начались проблемы с глотанием, так что аспирационная пневмония – лишь вопрос времени, а она будет означать для него конец. Это операция для молодого бойца. Я им объяснил, что оперировать следует тебе.
– Большое спасибо, профессор, – ответил я, несколько удивленный, но довольный, ведь я получил то, что тогда было для меня сравнимо с благословением папы римского.
Итак, я все организовал для проведения операции, которая обещала быть очень долгой. Эта история произошла много лет назад, когда больницы были совершенно другими, и все, что мне пришлось сделать, – это попросить персонал операционной и анестезиологов задержаться дольше обычного. И не требовалось ни у кого спрашивать разрешение на это. Операция – серьезная операция на мозге, или «Большая сенсация», как окрестил ее ординатор-американец, – началась чуть ли не в праздничной атмосфере.
Вскрывая череп пациента, мы обсуждали именитых американских нейрохирургов.
– Профессор Б. действительно потрясающий хирург, удивительный знаток своего дела, – сказал мой ординатор. – Но вы знаете, как называли его стажеры раньше, когда он еще не перешел на нынешнюю работу? Его звали мясником, потому что, совершенствуя навыки на таких вот сложных случаях, он угробил очень многих пациентов. И у него по-прежнему бывают чудовищные осложнения. Но судя по всему, он не особо переживает из-за этого.
И действительно, горькая правда нейрохирургии заключается в том, что научиться хорошо справляться со сложными операциями можно только благодаря большой практике, а это означает множество ошибок поначалу, после которых пациенты остаются искалеченными. Думаю, надо быть отчасти психопатом, чтобы настойчиво продолжать этим заниматься, – ну или по крайней мере очень толстокожим. Врач, добрый по натуре, скорее всего в какой-то момент сдастся, перестанет идти наперекор природе и ограничится лишь простыми случаями. Как говорил мой бывший начальник, который был невероятно добрым человеком – тот самый, что когда-то оперировал моего сына: «Если пациенту суждено быть изувеченным, то пусть лучше это сделает Бог, чем я сам».
– В Штатах, – продолжил ординатор, – мы действуем чуть решительнее, но у нас коммерческая система здравоохранения, и никто не может позволить себе признавать свои ошибки.
Сперва операция шла безупречно. Мы медленно, кусочек за кусочком, удаляли опухоль, и к полуночи, после пятнадцати часов в операционной, от нее почти ничего не осталось, причем все черепные нервы по-прежнему были нетронуты. Я постепенно почувствовал, что вливаюсь в ряды по-настоящему великих нейрохирургов. Каждый час или два я прерывался, выходил в служебное помещение и присоединялся к медсестрам, чтобы перекусить чем-нибудь из купленных мною продуктов, а затем непременно выкуривал сигарету – курить я бросил лишь несколько лет спустя. Атмосфера была оживленной. В операционной постоянно играла музыка: утром я принес с собой всевозможные аудиодиски, начиная от Баха и «АББА» и заканчивая африканскими напевами. В старой больнице я практически всегда слушал музыку во время операций, и, хотя коллеги находили странными некоторые из моих музыкальных предпочтений, в общем, им это вроде бы нравилось, особенно «завершающая музыка», как мы ее называли: зашивая голову пациента, мы ставили Чака Берри, Би Би Кинга или другой быстрый рок или блюз.
Стоило остановиться в тот момент и оставить нетронутой последнюю часть опухоли, но мне хотелось с гордостью заявить, что я вырезал опухоль полностью. На послеоперационных снимках, которые демонстрируют звезды нейрохирургии, выступая с докладами на конференциях, никогда не бывает остаточных опухолей. Именно этого – казалось мне тогда – я и должен был добиться, пусть даже это и связано с определенным риском.
Принявшись за удаление последнего кусочка опухоли, я оторвал от базилярной артерии крошечную прободающую ветвь толщиной с булавку. Вверх взмыла тонкая струйка ярко-красной артериальной крови. Я сразу понял, что это катастрофа. Кровотечение оказалось незначительным, и остановить его не составило труда, однако повреждение мозгового ствола было серьезнейшим. Базилярная артерия поддерживает жизнь в мозговом стволе, который, в свою очередь, поддерживает остальной мозг в сознании. В результате пациент так и не очнулся после операции. Из-за этого спустя семь лет я и увидел его в лечебнице для престарелых больных.
Не буду рассказывать, насколько больно было каждый день видеть пациента, лежавшего без сознания в отделении реанимации, на протяжении многих недель после операции. Если честно, сейчас я уже плохо помню описываемые события: на смену тем воспоминаниям пришли другие – о более поздних трагедиях с моим непосредственным участием. Но все же я не забыл многочисленные мучительные разговоры с его родственниками, вместе с которыми мы продолжали надеяться, что случиться чудо и в один прекрасный день больной очнется.
Такое возможно только в нейрохирургии, и у каждого нейрохирурга есть аналогичный опыт. Если речь идет об общей хирургии, то больной либо выживает, либо умирает, но никогда не задерживается в отделении на месяцы. Мы не любим обсуждать такие случаи между собой, разве что вздыхаем и понимающе киваем, услышав о чем-то подобном. Но по крайней мере осознаешь, что кому-то знакомы твои чувства. Кое-кому вроде бы удается от них отделаться, но их меньшинство. Возможно, именно им и суждено стать великими нейрохирургами.
В конечном счете несчастного мужчину перевели в больницу по месту жительства; он по-прежнему был в коме, но уже не нуждался в искусственной вентиляции легких. А позднее его положили в ту самую лечебницу, где он с тех пор и оставался. Именно этого пациента я с трудом узнал во время визита к женщине с акинетическим мутизмом.
Следующие несколько лет каждый раз, когда мне попадался похожий случай – что бывало, к счастью, крайне редко, – я признавал опухоль неоперабельной, и пациент либо отправлялся в другую больницу, либо подвергался лучевой терапии, которая не очень-то помогает против таких крупных опухолей. В те годы распался мой брак, а старую больницу закрыли. Не знаю, отдавал ли я тогда себе в этом отчет, но именно в то время я стал чуточку печальнее и, как мне хотелось бы думать, гораздо мудрее.
Впрочем, постепенно ко мне вернулась былая отвага, я извлек урок из трагических последствий собственной гордыни, благодаря чему начал добиваться куда лучшего результата в работе с подобными опухолями. Теперь, если возникала такая необходимость, я оперировал в несколько этапов – на протяжении нескольких недель. Я проводил операцию вместе с кем-нибудь из коллег, и мы сменяли друг друга через каждый час, как водители в военном конвое. Я не стремился удалить всю опухоль до последнего кусочка, если эта задача выглядела особенно сложной с технической точки зрения. И я редко допускал, чтобы операция затягивалась больше чем на семь-восемь часов.
Проблема, однако, в том, что такие опухоли чрезвычайно редки. В Великобритании, где на непрофессионализм смотрят сквозь пальцы и где нейрохирурги очень неохотно отдают сложные случаи более опытным коллегам, ни один хирург не сможет набраться такого опыта, как некоторые наши американские коллеги. В Америке пациентов гораздо больше, а значит, и больше пациентов с подобными опухолями. Кроме того, пациенты здесь относятся к врачам с меньшим доверием и почтением, чем в Великобритании. Они ведут себя скорее как потребители, чем как просители, так что намного чаще требуют, чтобы ими занимался опытный хирург.
После двадцатипятилетней практики я, как хотелось бы думать, стал в этом деле своего рода экспертом, но пришлось преодолеть длинный и нелегкий путь, на котором мне встретилось множество проблем, хотя ни одна из них не привела к столь же ужасным последствиям, как первый опыт. Несколько лет назад я оперировал сестру известного рок-музыканта с похожей опухолью, и через несколько недель после операции (пусть и очень непростых) она полностью поправилась. Ее брат выделил мне огромную сумму из собственного благотворительного фонда, которые пошли на финансирование моей деятельности на Украине и в других местах. Таким образом, сейчас я, пожалуй, могу утверждать, что та злосчастная операция, выполненная много лет назад, все же принесла людям пользу.
В тот день я усвоил и два других урока. Первый: не нужно проводить операцию, от которой отказался более опытный хирург. Второй: нужно со здоровым скептицизмом относиться к докладам на конференциях. И с тех пор я больше не выношу, когда во время операции играет музыка.
21. Фотопсия
вспышки света в глазах, вызванные механическим воздействием на глазную сетчатку
Болеют только пациенты. Этот важный урок быстро усваиваешь, когда становишься студентом-медиком. Ты внезапно оказываешься в новом пугающем мире болезней и смерти, ты узнаешь, что многие ужасные заболевания начинаются с самых безобидных симптомов: кровь на зубной щетке может означать лейкемию, маленькая шишка на шее может быть признаком прогрессирующего рака, а ранее остававшаяся незамеченной родинка может оказаться злокачественной меланомой. В жизни большинства студентов-медиков есть короткий период, когда они обнаруживают у себя всевозможные воображаемые болезни (я и сам как-то четыре дня болел лейкемией), пока в целях самосохранения наконец не поймут, что болезни настигают пациентов, но никак не врачей. Эта обязательная отстраненность лишь усиливается, когда начинаешь проходить стажировку и делать с пациентами всякие малоприятные и страшные вещи. Все начинается с простого взятия крови на анализ и постановки внутривенных капельниц, но со временем перерастает – если учишься на хирурга – в более радикальные процедуры, разрезание человеческих тел и манипуляции с внутренностями. Было бы невозможно выполнять эту работу, если бы врач воспринимал страх и мучения пациента как свои собственные. Кроме того, ответственность, возрастающая по мере продвижения по карьерной лестнице, влечет за собой все большую и большую боязнь совершить ошибку, которая может привести к страданиям больного. Так пациенты становятся объектами не только эмпатии, но еще и страха. Гораздо проще сочувствовать людям, если не несешь ответственности за то, что с ними случится.
Вот и получается, что когда врачи сами заболевают, то частенько упускают из виду первые симптомы: им сложно избавиться от привычной роли и превратиться в пациентов. Считается, что медики диагностируют собственные болячки с серьезным запозданием. Я не обращал особого внимания на вспышки света в глазу. Они начались в сентябре, когда я вышел на работу после отпуска. Я заметил, что каждый раз, когда прохожу по ярко освещенным коридорам больницы, похожим на заводские, в левом глазу моментально появляется крошечная вспышка. Она была еле уловимой и уже через две недели полностью исчезла. Но спустя еще несколько недель я обратил внимание, что в левом глазу чуть ниже линии зрения порой возникает светящаяся дуга, которая появляется и пропадает без какой-либо очевидной причины. Меня это слегка встревожило, но, поскольку симптомы были на грани восприятия, я не стал воспринимать их всерьез, хотя и не мог отделаться от мыслей о пациентах, чьи опухоли мозга порой давали о себе знать такими вот незначительными нарушениями зрения. В конце концов я списал все на стресс из-за назначенной главврачом встречи, на которой, судя по всему, меня должны были в очередной раз отчитать за доставленные неприятности.
Однажды вечером я вел машину, как вдруг в левом глазу начался фейерверк из световых вспышек, быстрых, словно метеор. Приехав домой, я обнаружил, что глаз выглядит так, будто в него залили тушь, разводы от которой теперь медленно кружились внутри. Это уже был довольно серьезный симптом, хотя и совершенно безболезненный. Будучи студентом, я не заострял внимания на офтальмологии, поэтому плохо понимал, что происходит, но, потратив несколько минут на поиски в Интернете, обнаружил, что у меня, оказывается, отслойка стекловидного тела. Иными словами, стекловидное тело – прозрачная студенистая масса, заполняющая глаз сразу за хрусталиком, – отошло от стенки глазного яблока. Из-за моей сильной близорукости, как я узнал, существовала вероятность того, что отслойка стекловидного тела спровоцирует отслойку сетчатки, которая, в свою очередь, может привести к полной слепоте в этом глазу.
Огромное преимущество моей профессии заключается в том, что можно практически мгновенно получить медицинскую помощь от друзей, избежав всех тех мучений, через которые проходят обычные пациенты: не нужно выстаивать длинную очередь в местном отделении экстренной медицинской помощи, дожидаться приема у терапевта или, что еще хуже, отчаянно дозваниваться до своего семейного врача в его свободное время. Я позвонил коллеге-офтальмологу, и мы договорились, что он примет меня рано утром на следующий день, в воскресенье. Итак, назавтра я отправился в больницу, где мы оба работали. Я ехал на машине по пустым улицам, а тем временем зрение мое то и дело затуманивалось из-за облака черной крови в левом глазу. Офтальмолог осмотрел его и заключил, что у меня началась отслойка сетчатки. В те дни у меня еще имелась обширная частная практика и я мог себе позволить частную медицинскую страховку, так что на понедельник мне назначили обследование у специалиста по витреоретинальной хирургии в одной из частных больниц в центре Лондона.
К тому моменту я узнал, что отслойка сетчатки может произойти внезапно: сетчатка попросту отходит от глазного яблока, как старые обои – от влажной стены. Ночью я лежал в темной спальне рядом со своей женой Кейт (она переживала наравне со мной), открывая и закрывая проблемный глаз, проверяя, видит ли он что-нибудь, гадая, могу я ослепнуть или нет, наблюдая за тем, как матовое облако крови исполняет неторопливый танец на фоне ночного неба, видневшегося через окно. Облако извивалось и кружилось медленно, но довольно изящно, чем-то напоминая экранную заставку на компьютере. К собственному удивлению, мне все-таки удалось уснуть, и утром мое зрение оказалось достаточно хорошим для того, чтобы пойти на работу (прием у витреоретинального хирурга был назначен на вторую половину дня).
Хирург подвержен болезням точно так же, как и любой другой человек, но бывает сложно оценить, не поставит ли его состояние под угрозу проводимую операцию. Нельзя в последний момент отменить операцию только из-за того, что тебе стало нехорошо, а с другой стороны, мало кому захотелось бы, чтобы его оперировал хирург, которому нездоровится. Я давно понял, что усталость нисколько не мешает мне оперировать, так как во время операции меня подстегивает сильное возбуждение. Исследования, направленные на изучение последствий бессонницы, установили, что в случае умеренной нехватки сна люди начинают совершать ошибки только при выполнении скучных, монотонных задач. Хирургия – каким бы рядовым ни был случай – никогда не бывает скучной или монотонной. В тот день я спокойно работал (любопытно, что операция проводилась под местной анестезией, а проблема была связана со зрительным центром головного мозга), совершенно позабыв о собственных переживаниях, пока не начал возвращать на место костный лоскут черепа и внезапно не вспомнил, что мне и самому предстоит вскоре примерить на себя роль пациента.
Охваченный страхом, я спешно покинул больницу и на такси добрался до клиники, расположенной на Харли-стрит в центральной части Лондона.
Хирург оказался немного моложе меня, но в его манере поведения я тут же узнал себя: он говорил приветливо и деловито, с тем сдержанным сочувствием, которое неизбежно развивается у любого врача, искренне стремящегося помочь, но не желающего, чтобы пациенты «давили» на его эмоции. Я понимал, что ему не понравится идея оперировать другого хирурга: если кто-то из коллег просит, чтобы ты его лечил, это воспринимается одновременно и как комплимент, и как проклятие. Все хирурги переживают, когда пациентом становится кто-нибудь из коллег. Это чувство иррационально, ведь по сравнению с остальными пациентами коллеги с гораздо меньшей вероятностью станут предъявлять претензии, если что-то пойдет не так, поскольку хирургам слишком хорошо известно, что врачи – обычные люди, которым свойственно ошибаться, и что исход операции зависит далеко не только от них. Хирург, оперирующий своего коллегу, испытывает этот иррациональный страх по той причине, что о привычной отстраненности не может быть и речи, – он ощущает себя совершенно беззащитным. Он знает, что пациент не считает его всемогущим.
Офтальмолог снова обследовал мою сетчатку. На этот раз свет был особенно ярким, и я даже вздрогнул.
– Под сетчаткой начинает скапливаться жидкость, – сказал он. – Я прооперирую вас завтра утром.
Через двадцать минут я вышел из здания, испытывая сильнейшую тревогу. Вместо того чтобы сесть на метро или поймать такси, я преодолел шесть миль до своего дома пешком, перебирая в голове все ужасы, которые могут со мной произойти, начиная от вынужденного завершения карьеры (я знал двух хирургов, которым пришлось так поступить из-за отслойки сетчатки) и заканчивая полной слепотой – сценарий довольно вероятный, поскольку и в правом глазу обнаружились ранние предвестники отслойки сетчатки. Не помню в точности ход своих мыслей, но к тому времени, как я добрался домой, мне удивительным образом удалось примириться с проблемой. Я подготовился к любому исходу, хотя и надеялся на лучшее. Я забыл, что в клинике выключил мобильный, и, к собственному стыду, увидел дома охваченную паникой Кейт, которая уже ожидала самого худшего, так как не могла до меня дозвониться.
Утром в больнице меня встретил остроумный администратор. С бумагами покончили быстро, и меня отвели в палату. Санитары и обслуживающий персонал носили черные жилеты, словно посыльные в гостинице, на полу в коридорах и палатах лежали ковры, а освещение везде было спокойным, приглушенным. Контраст с крупной государственной больницей, в которой работал я, был невообразимый. Хирург еще раз осмотрел мой левый глаз и сказал, что мне предстоит так называемая витрэктомия с заменой стекловидного тела газом. Во время операции в глазное яблоко вставляют несколько толстых игл, через которые полностью удаляют стекловидное тело, а затем с помощью охлажденного криозонда сетчатку прикрепляют на место. После этого глазное яблоко наполняют оксидом азота, который будет удерживать сетчатку на месте в течение нескольких недель, следующих за операцией.
– Операцию можно провести как под местной, так и под общей анестезией, – сказал хирург с едва заметным колебанием. Было очевидно, что ему не очень-то хочется оперировать меня под местной анестезией, да и мне, если честно, эта идея тоже не нравилась, хотя я и почувствовал себя трусом, вспомнив многочисленных пациентов, в чьей голове ковырялся сам, несмотря на то что они оставались в сознании.
– Общую анестезию, пожалуйста, – попросил я, к его явному облегчению, после чего анестезиолог, который, должно быть, ждал снаружи, приложив ухо к двери, влетел в комнату, словно чертик из табакерки, и быстро проверил, подходит ли мне выбранный анестетик.
Полчаса спустя, одетый в одну из абсурдных больничных пижам – по какой-то совершенно непонятной причине они всегда застегиваются сзади, а не спереди, из-за чего ягодицы зачастую оказываются открытыми, – в одноразовое нижнее белье, в белые противоэмболические чулки и в сильно разношенные тапочки, я в сопровождении медсестры вошел в операционную. В тот миг я еле удержался от смеха. Я заходил в операционные, должно быть, тысячи раз – такой весь из себя важный хирург, правящий своим маленьким королевством, и вот я очутился здесь в качестве пациента – в больничной пижаме и одноразовых трусах.
Я всегда страшился мысли о том, что могу стать пациентом, однако, когда в пятьдесят шесть все-таки стал им, перенес это на удивление легко. А дело в том, что я понял, насколько мне повезло по сравнению с моими собственными пациентами: что может быть хуже опухоли мозга? Какое у меня право жаловаться, если другим приходится выносить куда более чудовищные страдания? Наверное, определенную роль сыграло и то, что я воспользовался частной медицинской страховкой, благодаря чему избежал нарушения персональных границ и потери своего достоинства, с которыми сталкивается большинство пациентов в государственных больницах. У меня была отдельная палата – практически гостиничный номер – с ковром и туалетом. Эти факторы невероятно важны для любого пациента, но, очевидно, не имеют никакого значения для Национальной службы здравоохранения, для ее чиновников, администраторов и создателей. К тому же – боюсь признаться – многие врачи начинают задумываться о подобных нюансах, только когда сами становятся пациентами и осознают, что пациенты в государственных больницах редко могут рассчитывать на тишину и покой, а о нормальном ночном сне вынуждены и вовсе позабыть.
Мне сделали общую анестезию, и спустя пару часов я очнулся в палате с повязкой на глазах, вообще не чувствуя боли. Весь вечер я то погружался в сон, то просыпался, наблюдая фантастическое световое шоу, которое разыгрывалось в ослепленном левом глазу, – впечатление от него лишь усиливалось под действием морфина. Я словно летел в кромешной тьме над ночной пустыней, а вдали передо мной горели искрящиеся огни. Я вспомнил пожары, которые давным-давно наблюдал в Западной Африке, где работал учителем, – горевшую прямо на горизонте под звездным небом длинную стену пламени, которую гнал по саванне гарматан, ветер, дующий со стороны Сахары.
Хирург зашел ко мне ни свет ни заря по пути в государственную больницу, в которой он также работал. Он отвел меня в процедурный кабинет и снял с моего левого глаза повязку. Все, что мне удалось разглядеть, – это расплывчатая темная клякса, словно я находился под водой.
– Наклонитесь вперед и поднесите часы вплотную к левому глазу, – сказал он. – Видите что-нибудь?
Циферблат моих часов, многократно увеличенный, всплыл перед глазом подобно луне, поднимающейся над морской гладью.
– Да, – ответил я.
– Хорошо, – обрадовался он. – Вы все еще видите.
Следующие несколько недель я был практически слепым на левый глаз. Наполнявший его газовый пузырь поначалу напоминал горизонт огромной планеты, над которым я различал только слабый намек на внешний мир. Но он постепенно сужался, и зрение медленно возвращалось в норму; внутренняя поверхность глаза была похожа на один из безвкусных гелевых светильников: пузырь медленно перемещался внутри каждый раз, когда я поворачивал голову. В течение месяца я не мог оперировать, но уже через неделю после операции начал, пускай и с некоторой неохотой, принимать амбулаторных пациентов. Эта работа нагоняла на меня скуку. Я носил черную повязку через глаз, которая делала меня похожим на пирата, хотя я чувствовал легкую неловкость, ведь пациенты видели, что у меня самого проблемы со здоровьем. Когда через несколько дней после операции я пришел на прием к хирургу-офтальмологу, надев черную повязку, он встретил меня неопределенным взглядом.
– Позер, – прокомментировал он мой вид, но остался доволен состоянием моего глазного яблока.
Я полностью восстановился за считаные недели, но одно из неизбежных последствий витрэктомии заключалось в том, что хрусталик глаза продолжил постепенно разрушаться, и нужно было заменить его. Я перенес эту простую, незначительную операцию, чаще всего проводимую при катаракте, три месяца спустя. В выходные, последовавшие за этим, я дежурил в приемном покое.
Если бы в воскресенье после обеда не пошел дождь, то я, возможно, не упал бы с лестницы и не сломал бы ногу. Возможно, мое зрение было еще недостаточно ясным. В противоположность напряженной субботней ночи воскресное утро было спокойным. В полночь мне пришлось прооперировать мужчину средних лет с инсультом, потому что дежурный ординатор работал у нас совсем недавно и ему понадобилась помощь. Эта относительно простая операция прошла без происшествий. Утром, чувствуя некоторую усталость, я возился в своем небольшом, запущенном саду на заднем дворе.
Затем я поехал на городскую свалку, захватив с собой пластиковый мешок с садовым мусором, и присоединился к тем, кто сидел в легковых автомобилях и внедорожниках, ожидая, когда наступит их черед поучаствовать в воскресном утреннем ритуале. Люди выбрасывали в огромные контейнеры всевозможный хлам – следы нашей цивилизации, которые когда-нибудь обнаружат археологи будущего: сломанные кресла, диваны, посудомоечные машины, старые магнитофоны и колонки, картонные коробки, кровати и матрасы, отжившие свой век газонокосилки, детские коляски, компьютеры, телевизоры, ночные лампы, журналы, куски гипсокартона и обломки кирпичной кладки. Вид у людей в таких местах всегда какой-то виноватый: они избегают смотреть друг другу в глаза (как и мужчины в общественных туалетах) и торопятся поскорее вернуться в свои комфортабельные отполированные машины, чтобы умчаться прочь. Я неизменно покидаю свалку с чувством колоссального облегчения и в тот день в качестве награды решил по дороге домой посетить садовый рынок. Пока я радостно разгуливал вдоль стройных рядов цветов и кустарников, присматривая что-нибудь для своего сада, как раз и начался дождь. Низкая косматая грозовая туча, словно чернильное пятно, расплывающееся в прозрачной воде, в мгновение ока выросла над головой и принялась поливать землю дождем, загнав незадачливых покупателей под крышу и вмиг превратив оживленный рынок в пустынное место. Я один остался стоять посреди саженцев. Зазвонил мобильный телефон. Это был Роб, дежурный ординатор из больницы.
– Прошу прощения за беспокойство, – сказал он (каждый раз, когда стажеры мне звонят, они начинают с этих ненужных этикетных фраз), – но нельзя ли обсудить с вами одного пациента?
– Да-да, конечно, – ответил я, торопясь укрыться от дождя в помещении склада, заставленном глиняными горшками.
– Это мужчина тридцати четырех лет, который упал с моста…
– Сам прыгнул?
– Да. Судя по всему, он страдал от сильной депрессии.
Я спросил, приземлился ли он на ноги или на голову. Ударившись ногами, люди ломают ступни и позвоночник, после чего обычно остаются парализованными на всю жизнь, если же удар приходится на голову, то они, как правило, умирают.
– Он упал на ноги, но головой тоже ударился. Мы имеем дело с политравмой: у него перелом таза, обеих больших берцовых костей, а также ушиб и серьезная травма головы.
– Что на снимках?
– Обширное кровоизлияние в левой височной доле, базальные цистерны разрушены. Левый зрачок раздулся и не реагирует вот уже пятый час.
– А что насчет моторных реакций?
– Отсутствуют, если верить словам врача из «Скорой».
– И что ты собираешься делать?
Роб медлил, боясь сболтнуть не то.
– Ну, думаю, мы можем следить за внутричерепным давлением.
– Как думаешь, какой прогноз?
– Не очень хороший.
Я сказал, что лучше позволить пациенту спокойно умереть. Он почти наверняка умрет, что бы мы ни предприняли, но даже если каким-то чудом и выживет, то на всю жизнь останется полным инвалидом. Я спросил, виделся ли Роб с родственниками пациента.
– Нет, но они скоро приедут.
– Что ж, разъясни им ситуацию.
Пока мы разговаривали, дождь прекратился и из-за туч показалось солнце. Капли на растениях сверкали отраженным светом. Покупатели высыпали из магазинов, и рынок вновь обрел прежний пасторальный вид – радостные садоводы прогуливались между торговых рядов, останавливаясь, чтобы хорошенько рассмотреть приглянувшееся растение, и раздумывая, что бы все-таки прибрести. Себе я купил калину метельчатую с маленькими белыми цветками в форме звездочек и поехал домой, поставив горшок на пассажирское сиденье.
Конечно, я мог прооперировать этого беднягу и, возможно, спасти ему жизнь, но какой ценой? Приблизительно над этим я размышлял, когда копал яму в саду, чтобы посадить калину. В конце концов я все же не выдержал и отправился в больницу, чтобы взглянуть на снимки и увидеть пациента: как я ни старался, мне не удалось заставить себя вынести смертный приговор, пусть даже самоубийце, основываясь только на телефонном разговоре.
Из-за ливня мои ботинки промокли, и, перед тем как ехать в больницу, я надел другие, с недавно поставленными подметками.
Роб нашелся в темной комнате для просмотра снимков. Он вывел на экран томограмму мозга нового пациента.
– Что ж, – сказал я, вглядываясь в снимок. – Он явно себя угробил.
Я испытал облегчение, когда увидел, что снимок выглядит еще хуже, чем описывал Роб по телефону. Левая часть мозга оказалась непоправимо раздавлена, из-за отека весь мозг был темным, но с белыми пятнами – именно таков цвет крови на компьютерных томограммах. Отек был чрезвычайно сильным, и не оставалось абсолютно никакой надежды на то, что после операции мужчина выживет.
– В карьере врача есть два больших плюса, – сказал я Робу. – Один из них заключается в том, что у тебя накапливается бессчетное множество историй, иногда забавных, но в основном ужасных.
Я рассказал ему о другом самоубийце, которого лечил много лет назад. Это была симпатичная девушка двадцати с небольшим лет, бросившаяся под поезд метро.
– Ей пришлось сделать одностороннюю гемипельвэктомию – полностью удалить одну ногу на уровне бедра: полагаю, поезд переехал ногу и бедро вдоль. У нее также был сложный вдавленный перелом черепа, из-за чего, собственно, ее и доставили к нам после ампутации. Мы привели голову в порядок, и за несколько дней девушка постепенно пришла в себя. Помню, как сообщил ей, что она потеряла ногу, и она ответила: «Черт. Звучит не очень хорошо». Но поначалу она выглядела почти радостной – очевидно, она не помнила о несчастьях, которые заставили ее броситься под поезд. Но когда она оправилась от травмы головы, когда ей, скажем так, стало лучше, воспоминания начали возвращаться и она опять погрузилась в пучину депрессии и отчаяния. Когда же ее родители все-таки соизволили появиться в больнице, то по их поведению стало понятно, почему она пыталась покончить с собой. Печальное было зрелище.
– Что с ней стало?
– Понятия не имею. Ее отправили в другую больницу, и больше я о ней не слышал.
– А в чем второй плюс медицинской карьеры? – вежливо поинтересовался Роб.
– Да просто в том, что если сам вдруг заболеешь, то всегда будешь знать, как получить наилучшее лечение. – Я махнул рукой в сторону снимка. – Пойду поговорю с родителями.
Я направился в отделение интенсивной терапии по унылым, слишком ярко освещенным коридорам. Я никак не мог привыкнуть к новой больнице. Она напоминала тюрьму усиленного режима: двери открывались только с помощью магнитной карты, а если оставались открытыми дольше чем на минуту, то срабатывала сигнализация. К счастью, с тех пор большинство динамиков, издающих этот ужасный пронзительный звук, сломались либо сами, либо с нашей помощью, однако первые несколько месяцев в новом здании мы провели под бесконечный вой сигнализации – как можно догадаться, не лучший вариант для переполненной больницы. Я вошел в отделение реанимации: вдоль стен стояли койки с бессознательными пациентами, подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких и окруженными различным оборудованием; около каждого больного сидела медсестра.
Когда я поинтересовался недавно поступившим пациентом, медсестры, находившиеся за стойкой в центре помещения, указали на одну из коек, и я направился к ней. Несчастный самоубийца был невероятно толстым, и это меня потрясло. Почему-то я и вообразить не мог, что он окажется толстым, толстым настолько, что от изножья кровати нельзя было разглядеть голову – был виден лишь обнаженный холм его живота, частично прикрытый чистой простыней, а далее, у изголовья, – мониторы и шприцевые наносы с мигающими красными светодиодами и цифровыми индикаторами. На стуле у кровати сидел пожилой мужчина. Заметив меня, он встал. Я представился, и мы обменялись рукопожатием.
– Вы его отец? – спросил я.
– Да, – спокойно ответил он.
– Очень сожалею, но мы ничем не можем помочь.
Я объяснил, что его сын умрет в течение ближайших двадцати четырех часов. Старик ничего не говорил и лишь молча кивал. Его лицо почти ничего не выражало – то ли он был слишком отстранен, то ли слишком потрясен, я не знаю. Я так и не увидел лица его сына, и мне неизвестно, какую трагедию скрывала в себе жалкая, умирающая груда плоти, лежавшая перед нами.
Вернувшись домой, я поднялся в мансарду, построенную в прошлом году, где на диване лежала Кейт, приходившая в себя после особенно острого рецидива болезни Крона. Лестницу я собственноручно сделал из дуба, а ступеньки отшлифовал и отполировал до блеска. Мы решили, что лестнице не помешали бы дополнительные перила, так как за пару дней до этого Кейт поскользнулась и сильно ударилась. Мы с ней всегда несколько пренебрегали техникой безопасности, которая играет все более важную роль в современном мире, стремящемся максимально оградить себя от любого риска, но сошлись во мнении, что перила не будут лишними. Я начал спускаться по лестнице – по самодельной дубовой лестнице, каждую ступеньку которой я аккуратно смастерил своими руками, – чтобы наконец посадить калину. Ботинки с новыми подметками заскользили по отполированному дереву, я потерял равновесие, услышал ужасный треск ломающейся кости и упал вниз.
Перелом ноги – довольно болезненная травма, но терпеть боль оказалось на удивление легко; в конце концов, хорошо известно, что солдаты в бою редко испытывают сильную боль сразу после серьезного ранения – она приходит потом. Ты слишком занят тем, чтобы спасти свою шкуру, и тебе некогда думать о боли.
– Твою мать. Я сломал ногу! – закричал я.
Сперва Кейт подумала, что я шучу, пока не увидела меня лежащим у подножия лестницы с вывернутой под немыслимым углом ступней. Я постарался вернуть ступню в нормальное положение, но от боли едва не потерял сознание, так что Кейт позвала соседей, которые усадили меня на заднее сиденье машины и отвезли в отделение «Скорой помощи» той самой больницы, где я работал. Мне нашли инвалидное кресло, и вскоре я присоединился к небольшой очереди перед стойкой регистратуры: за его стеклом, похожим на пуленепробиваемое, сидели две свирепые на вид женщины. Я терпеливо ждал свой очереди, стиснув зубы от боли. Наконец я оказался напротив одной из регистраторов.
– Имя-фамилия? – спросила она.
– Генри Марш.
– Дата рождения?