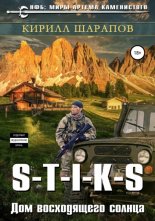Империя вампиров Кристофф Джей

– Я – брат Серорук, угодник-среброносец Сан-Мишона.
Он указал на меня:
– Я приехал за этим мальчиком.
IV. Агнец на заклание
Ветер завывал голодным волком, снег лип к моей окровавленной коже. Я обернулся на отца Луи: тот помрачнел.
– Мсье, – сказал священник, – этот мальчишка – чернокнижник, творит богомерзкие кровавые обряды. Он – зло. Он проклят!
В толпе забормотали, но человек, назвавшийся Сероруком, лишь вынул из-за пазухи пергаментный свиток, скрепленный императорской печатью: единорог и пять скрещенных мечей в застывшей капле яблочно-красного воска.
– По велению Александра Третьего, императора Элидэна и защитника Святой церкви Господней, которому не смеет возразить ни один человек под этим небом, я наделен полномочиями рекрутировать по собственному усмотрению любого и всякого гражданина для нашего праведного дела. И я выбираю его.
– Рекрутировать? – взорвался олдермен. – Это чудовище? Для чего?
Человек достал из ножен меч, и у меня перехватило дыхание. Побитый и в крови, я все же оставался сыном кузнеца: клинок был подлинным предметом вожделения. Полотно стали, точно светлые волокна в темной древесине, пронизывали серебряные прожилки. Навершием служила звезда – семиконечная, по числу мучеников, – окруженная ободом Спасителева колеса. Меч словно светился в тусклом свете фонарей.
– Мы – Ордо Аржен [7], – ответил Серорук. – Серебряный орден Святой Мишон, и чудовища – именно те рекруты, которые нам требуются, мсье. Ибо враги, с которыми мы сражаемся, еще чудовищней, и если падем мы, падет могущественная Божья церковь, и Его царствие на земле, и весь мир человеческий.
– Кто же эти враги? – строго спросил отец Луи.
Серорук взглянул на священника красными глазами, в которых отражался свет фонарей. Отпустив сокола, он развернулся к мешку на спине скакуна, ослабил державшие груз цепи и спихнул его в грязь. Ударившись о землю, сидевший в мешке фыркнул; сперва мы думали, будто это человек, но то, что выбралось наружу, им не было.
Облаченная в лохмотья, мертвенно худая, тварь походила на обтянутый кожей скелет. Глаза – белые, губы – иссохшие, зубы – длинные и острые, как у волка. Поднявшись, создание издало звук, похожий на шипение кипящего воска. Селяне закричали от ужаса.
Внезапно я снова стал тринадцатилетним мальчишкой, стоящим посреди грязной улицы в тот день, когда Амели с Жюльет вернулись домой. Я, несомненно, испугался, но вместе со страхом пришла и память о сестре. Я ощутил знакомую ненависть, опаляющую грудь изнутри и заставляющую стискивать зубы. Ненависть придает силы, и только гнев выпестует особый род отваги. Я не закричал и не попятился, как прочие мужи вокруг, но встал, широко расставив ноги. Вдохнул и поднял, сука, кулаки.
– Впечатляет, – пробормотал Жан-Франсуа.
– Я не впечатлить хотел, – прорычал Габриэль. – Зная то, что я знаю теперь, я от души жалею, что тогда не побежал. Лучше бы Господь заставил меня обмочиться и взвыть.
Габриэль со вздохом убрал со лба прядь.
– Называй это как угодно: инстинкт, глупость… Такими уж мы рождаемся, и этого не отменить, как не изменить воли ветра или цвета глаз Господа.
Той твари, разумеется, срать было на мои кулаки, но серебряная цепь, которой она была прикована к седлу Серорука, остановила ее: упырь тщетно тянул ко мне руки. Угодник же слез с коня и, клянусь всеми семью мучениками, при звуке, с которым его сапоги коснулись раскисшей земли, тощее и голодное чудовище обернулось и завыло. Серорук вскинул клинок, в темноте блеснула сталь… Боже милостивый, ударил он так быстро, что я почти не заметил.
Серебряное навершие врезалось чудовищу в челюсть. Брызнула темная кровь, полетели зубы. Работал мечом Серорук ужасающе, и я вздрагивал, когда он снова и снова бил чудовище, пока то, скуля, не рухнуло и не сжалось. А когда Серорук втоптал его лицом в грязь и посмотрел на отца Луи, то в его глазах я заметил ту же ненависть, что кипела в моем сердце.
– Кто наш враг, добрый отче?
Он обвел взглядом красных глаз селян и задержал его на мне.
– Нежить.
Сидя в холодной камере, Габриэль де Леон молча огладил щетинистый подбородок. Голос Серорука в его голове звучал так отчетливо, будто наставник был в узилище вместе с ним. Габриэль чуть не поддался искушению обернуться: ну как старая сволочь стоит за спиной?
– Какая театральность, – зевнул Жан-Франсуа крови Честейн.
Габриэль пожал плечами.
– Сероруку она не была чужда.
Когда он посмотрел на меня своим красными глазами, я понял, что он меня оценивает. Наконец угодник расшнуровал воротник, и я увидел его лицо: кожа – мертвенно-бледная, черты – каменные. После таких, как он, на кровати остаются мозоли.
– Ты уже видел таких прежде, – сказал Серорук, кивнув на чудовище.
Я долго думал, что ему ответить.
– Моя… моя сестра.
Он посмотрел на мою мама, потом снова на меня.
– Тебя зовут Габриэль де Леон.
– Oui, угодник.
Он улыбнулся, будто мое имя показалось ему смешным.
– Отныне ты принадлежишь нам, Львенок.
Тогда я обернулся к мама и, видя, что она не возражает, наконец понял: эти люди прибыли по ее зову. Серорук и стал той помощью, о которой я просил, – помощью, оказать которую сама она не могла. В глазах у мама стояли слезы: то была мука львицы, готовой на все, лишь бы спасти детеныша, и не видящей иного выхода.
– Нет! – выкрикнула Селин. – Вы моего братика не заберете!
– Тише, Селин, – шепнула мама.
– Я его не отдам! – заплакала сестренка. – Спрячься за мной, Габи!
Она зло вскинула кулачки, а я заслонил ее собой от всадников и крепко обнял. Я знал: дай ей хоть шанс, и она выцарапает Сероруку его холодные глаза, заглянув в которые я кое-что понял.
– Это Божьи люди, сестра, – сказал я Селин. – И на это Его воля.
– Тебе нельзя уезжать! – отрезала Селин. – Так нечестно!
– Может быть, но кто я такой, чтобы перечить Вседержителю?
Не стану лгать, я испугался. Желания покидать ma famille, мой маленький мирок, не было, но нас по-прежнему окружали селяне, глядевшие со страхом и яростью. Зубы у меня снова стали прежними, но во рту все еще стоял привкус крови Ильзы. И на мгновение мне показалось, будто время застыло на кончике ножа. Душой такие моменты всегда чувствуешь. Эти люди предлагали мне спасение. Путь в жизнь, о которой я и не мечтал. Но я понимал, что заплатить за нее придется ужасную цену. Знала это и мама.
Разве у меня был выбор? Остаться не выйдет, только не после случившегося. Я не знал, во что превращаюсь, но вдруг ответ найдется у этих людей? Да и не мог я, как уже сказал сестренке, перечить воле небес. Бросать вызов своему Творцу. И вот я, тяжело вздохнув, пожал угоднику руку.
Габриэль возвел очи к потолку и вздохнул.
– Так агнец отправился на закланье.
– Они забрали тебя в тот же миг? – спросил Жан-Франсуа.
– Дали проститься с ma famille. Папа сказать было почти нечего, но, видя меч у него в руке, я понял: ради меня он сделал бы все, что было в его небольших силах. Я боялся за Селин, которая останется теперь без моего присмотра, но поделать ничего не мог. Но пап я предупредил. Я его, сука, предупредил: «Не забывай о дочери. Больше у тебя детей не осталось».
Мама плакала, когда я целовал ее на прощание. Я и сам плакал, обнимая Селин. Мама велела мне остерегаться зверя. Зверя и всех проявлений его голода. Мой мир трещал по швам, но что мне оставалось? Меня уносила река, однако уже тогда мне хватало опыта понять: есть те, кто плывет с потопом, и те, кто тонет, пытаясь с ним бороться. Просто одни обладают мудростью, другие – нет.
– Не уезжай, Габи, – взмолилась Селин. – Не оставляй меня.
– Я вернусь, – пообещал я, целуя ее в лоб. – Присматривай тут за мама, Чертовка.
Парень, что ехал следом за Сероруком, отнял меня от Селин и без утешений толкнул к своему пони. Затем он снова обмотал хнычущее чудовище джутом и серебряной цепью и водрузил на спину второго скакуна. Угодник же посмотрел на собрание бледными, налитыми кровью глазами.
– Это чудовище мы изловили в трех днях пути к западу отсюда. Их станет еще больше: грядут темные дни и еще более темные ночи. Зажигайте свечи в окнах. Не пускайте в дом чужаков. Не гасите огни в очагах и любовь Бога в сердцах. Мы победим. Ибо мы носим серебро.
– Мы носим серебро, – отозвался его молодой спутник.
Кроха Селин ревела, и я на прощание вскинул руку. Крикнул мама, что люблю ее, но она смотрела в небо, и на ее щеках замерзали слезы. Я еще никогда не чувствовал себя таким одиноким, как когда покидал Лорсон. Я смотрел на ma famille, пока они не скрылись вдали, поглощенные мраком.
– Пятнадцатилетний мальчишка, – вздохнул Жан-Франсуа, оглаживая воротник из перьев.
– Oui, – кивнул Габриэль.
– И ты еще нас зовешь чудовищами.
Габриэль посмотрел в глаза вампиру и звенящим, как сталь, голосом ответил:
– Oui.
V. Огонь в ночи
Жан-Франсуа едва заметно улыбнулся:
– Итак, из Лорсона в Сан-Мишон?
Габриэль кивнул.
– Путь занял несколько недель. Мы ехали по Падубовому тракту. Стоял мороз, а плащ, который мне дали, от холода не спасал. Голова так и шла кругом от воспоминаний о том, как я поступил с Ильзой, о темном блаженстве, подаренном ее кровью, о виде чудовища, которое Серорук извлек из мешка, а сейчас вез на спине пони. Я не знал, что и думать.
– Брат Серорук не говорил, что уготовил тебе?
– Рассказал чуть менее, чем нихера. Да я поначалу и побаивался его расспрашивать. В Сероруке ощущался огонь, грозивший спалить, если подойти слишком близко. Кожа да кости, острые скулы и подбородок, волосы – грязная солома. Еду угодник пережевывал как будто с ненавистью, каждую минуту свободного времени проводил в молитве, прерываясь лишь время от времени, чтобы ударить себя ремнем по спине, а заговоришь с ним – будет смотреть, пока не заткнешься.
Если к кому он и проявлял теплые чувства, так это к соколу. Сраную птицу он назвал Лучником и сдувал с нее пылинки, точно отец с сына. Но самое странное я увидел в то утро, когда угодник впервые омылся при мне.
Серорук сбросил блузу, собираясь плеснуть на себя водой из ведра, и я увидел татуировки, сплошь покрывавшие его торс и руки. Чернильные рисунки я видел и прежде: спиральные узоры фей на оссийцах, – но ничего подобного меткам угодника не встречал.
Габриэль провел пальцами по собственным расписанным рукам.
– Чернила были вроде этих. Темные, с металлическим, благодаря примешанному серебру, отливом. У Серорука во всю спину красовался лик Девы-Матери. Вдоль рук тянулись спирали свято-роз, мечей и ангелов, а на груди он носил семь волков – в честь семерых святых. У молодого ученика, что ехал с ним, татуировок было меньше, но по груди у него все же вились гирлянды роз и сплетенные змеи. На левом предплечье красовался Наэль, ангел благости, на бицепсе – Сари, ангел казней, раскинувшая прекрасные крылья, как у мотылька. И еще у обоих, ученика и наставника, на левой ладони было выведено по семиконечной звезде.
Габриэль показал вампиру раскрытую ладонь. На ней, вписанная в идеальный круг, среди мозолей и рубцов поблескивала семиконечная звезда.
– Любопытно, – вслух подумал Жан-Франсуа, – ради чего твой Орден так осквернял свои тела?
– Угодники-среброносцы называли это эгидой. Когда сражаешься с чудовищами, которые способны кулаками пробить нагрудник, доспехи носить смысла нет. Броня замедляет. Шумит. Но если крепко веришь во Вседержителя, то эгида делает тебя неприкасаемым. Неважно, кого ты выслеживаешь – закатного плясуна, фею, холоднокровку, – ни один из них не вынесет прикосновения серебра. А твой вид, вампир, Бог ненавидит особенно: вы бежите от одного только вида священных икон, съеживаетесь перед семиконечной звездой, колесом, Девой-Матерью и мучениками.
Жан-Франсуа махнул рукой в сторону ладони Габриэля.
– Так что же я не съеживаюсь, де Леон?
– Потому что меня Бог ненавидит еще сильнее.
Жан-Франсуа улыбнулся.
– Думаю, у тебя есть и другие рисунки.
– Много.
– Можно взглянуть?
Габриэль встретился с ним взглядом. Повисла тишина, продлившаяся три вдоха и выдоха. Вампир облизнул ярко-красные блестящие губы.
– Как угодно. – Угодник-среброносец пожал плечами.
Он встал со скрипнувшего кресла. Не спеша сбросил пальто, расшнуровал блузу и стянул ее с себя через голову, обнажил торс. С губ вампира слетел тихий и нежный, как шепоток, вздох.
Тело Габриэля сплошь состояло из мышц и сухожилий, резко очерченных в свете лампы. Кожу украшали оставшиеся от клинков, когтей и Спаситель знает чего еще шрамы. Но главное – Габриель де Леон был покрыт татуировками: от шеи до пупа и костяшек пальцев. Если бы летописец дышал, то от вида рисунков у него перехватило бы дух. Вдоль правой руки угодника спускалась Элоиз, ангел воздаяния, с мечом и щитом наготове. На левой была Кьяра, слепой ангел милосердия, и Эйрена, ангел надежды. На груди щерил пасть лев, с семиконечными звездами вместо глаз; а на поджаром животе выстроился круг из мечей. Руки и тело украшали голуби и солнечные лучи, Спаситель и Дева-Матерь. Габриэль ощутил плотный темный ток в воздухе.
– Прекрасно, – прошептал Жан-Франсуа.
– Художник попался уникальный, – ответил Габриэль.
Угодник-среброносец снова надел блузу и сел.
– Merci, де Леон. – Жан-Франсуа продолжил набрасывать его портрет по памяти. – Ты рассказывал про Серорука. Что он поведал тебе по дороге?
– Я же говорю, он больше отмалчивался.
Мне оставалось только гадать: сильно ли я навредил Ильзе? Почему вдруг я сумел раскидать взрослых мужиков, точно кукол? Кинжал олдермена вроде бы рассек мне спину до кости, но рана оказалась не такой уж и глубокой. Как все это, во имя Вседержителя, было возможно? Ответов я не находил. – Габриэль снова пожал плечами. – Предела мы достигли, когда наша маленькая разношерстная компания остановилась на ночевку в нордлундской глуши, в тени умирающих сосен, неподалеку от Падубового тракта. В пути мы были уже девять дней.
Юный всадник, сопровождавший Серорука, был инициатом по имени Аарон де Косте. Или, иначе, учеником. Выглядел он по-королевски: густые белокурые волосы, ярко-синие глаза и лицо, при виде которого девки падают в обморок. Он был старше меня, лет восемнадцати. Имя Косте носили бароны в западной части Нордлунда, и мне подумалось, что он связан с ними родственными узами, но сам он о себе ничего не рассказывал. Когда он заговаривал со мной, то лишь отдавал распоряжения. К Сероруку обращался «наставник», а меня звал «пейзаном» – с таким видом, будто кусок дерьма сплевывал.
Если нам случалось устраивать привал на открытом месте, то Серорук вешал на ветку ближайшего дерева порченого. Тогда я задавался вопросом, почему он его просто не убьет? Де осте велел мне собрать хвороста и разводил костер – да поярче. Хозяин и ученик спали по очереди, а тот, кто бдел, курил трубку, набитую странным красным порошком. Когда они затягивались, глаза у них меняли оттенок: белки так наливались кровью, что становились красными. Как-то я попросил де Косте дать мне попробовать, и он в ответ фыркнул:
– Еще накуришься, пейзан.
В общем, тем вечером де Косте точил клинок. Прекрасный был у него меч. Серебро и сталь с летящим ангелом смерти Манэ на крестовине. Лучник сидел на ветке дерева, поблескивая в темноте глазами. Плененный Сероруком труп несколько часов провисел на ветке неподвижно, но вот одно поленце в костре стрельнуло, рука де Косте дрогнула, и он сильно порезал палец. Тварь в мешке тут же застонала, забилась пойманной рыбой.
Серорук в это время как обычно молился, и его спина краснела от ударов ремнем. Тогда он открыл глаза и зарычал: «Молчать, пиявка», – но труп задергался сильнее.
– Е-е-е-е-е-е-еда-а-а, – молил он. – Е-е-е-е-е-еда-а-а.
Я взглянул на кровь, что капала из пореза на пальце де Косте, и от одного только запаха в животе у меня свело, а кожа покрылась легкими мурашками. Серорук бросил такое грязное ругательство, которое мне в мои молодые годы еще не доводилось слышать, поднялся с колен и достал из ножен прекрасный посеребренный меч.
Он сердито обошел костер, приспустил мешок и осыпал тварь таким градом ударов, какого я еще, наверное, никогда не видел. Чудовище визжало, когда Серорук бил его навершием меча: серебро шипело, касаясь иссохшей кожи. Угодник не остановился, даже когда крики чудовища перешли в стоны; он колотил его, кроша кости и превращая плоть в месиво, пока – Господь свидетель – оно не заревело, как ребенок.
– Стойте! – вскричал я.
Серорук обратил на меня пылающий взгляд. Считай меня каким угодно – охеренно храбрым или охеренно глупым, – но мне казалось, даже чудовище не заслуживало такой пытки. Глядя, как оно всхлипывает, вися на суку, я произнес: «С него хватит, брат, во имя всего святого!»
Габриэль вздохнул, уперев локти в колени.
– Господь Всемогущий, а ведь я думал, что видел гнев в моем папа. Однако злость на лице Серорука в тот момент затмила все.
– Святого? – сплюнул он.
Угодник медленно подошел ко мне, глядя так же, как папа, когда тот готовился пустить в ход кулаки. Я попытался оттолкнуть его, но – во имя Господа! – он был силен. Рывком поднял меня на ноги и врезал по лицу наотмашь. Губа лопнула, в глазах полыхнули черные звезды. Затем Серорук за шиворот подтащил меня к твари на суку. Нытье стихло, точно залитый водой костер, и она снова ожила. В глазах трупа загорелось безумие. Невиданный голод. Я в ужасе взревел, но Серорук подвинул меня еще ближе к чудовищу, а оно протянуло к моей кровоточащей губе руки.
– Тебе жаль эту мерзость?
– Прошу, брат, перестаньте!
Он вновь ударил меня – да так крепко, как даже отцу не удавалось, и я распластался на земле. Лежа в мерзлой грязи, я посмотрел на де Косте, ища заступничества, но тот и пальцем не пошевелил. Серорук возвышался надо мной, а его глаза полыхали яростью.
– Избавь свое сердце от жалости, малец. Зажги в груди огонь, и пусть он спалит ее с корнями! Наш враг не знает любви, не ведает пощады, уз товарищества! Ему известен лишь голод! – Он указал на тварь, которая все еще алкала моей крови. – Доберись эта мерзость до тебя – вскрыла бы от просака до горла и сожрала потроха из твоего брюха, точно свинья – из кормушки. И к завтрашней ночи, а может, и к следующей, ты бы восстал, такой же бездушный, как растерзавшая тебя тварь! Ищущий лишь возможности утолить жажду кровью глупцов, взывающих к жалости!
Его крик звенел, пробиваясь сквозь треск костра, сквозь грохот моего сердца. И глядя в глаза живому трупу, который тянул руки к моей кровоточащей губе, я исполнился той же ненависти, того же отвращения, что и в день, когда вернулась домой моя сестра.
– Что они такое? – невольно прошептал я.
Взгляд Серорука горел костром.
– Мы называем их порчеными, Львенок.
– Но что они такое?
Угодник пристально посмотрел на меня, и я не смог отвести взгляда. Тут он угомонился, и жесткие черты его лица смягчило сожаление. Он подал мне руку, а я, не зная, как еще поступить, принял ее. Угодник отвел меня к костру, усадил у огня и стал смотреть в потрескивающее пламя. Де Косте же продолжал молча бдеть.
– Что тебе известно о холоднокровках, малец? – спросил наконец Серорук.
– Они питаются живой кровью. Не стареют. У них нет души.
– Oui. А как они появляются?
– Из тех, кого убили подобные им.
Тут Серорук посмотрел на меня.
– Слава Господу и Спасителю, это не так, малец. Иначе нам бы уже пришел конец.
Наступившую тишину нарушало только потрескивание хвороста. В воздухе ощущалось бремя. Кровь кипела. Это были первые ответы, которые Серорук дал мне за девять дней пути, и теперь, когда он наконец заговорил, хотелось, чтобы он не умолкал.
– Прошу, брат, скажите: что они такое?
Серорук смотрел в огонь, поглаживая острый подбородок. Выглядел он лет на сорок, но морщины тревог в уголках глаз и рта старили его намного сильнее. Я все еще побаивался угодника, страшился его кулаков не меньше, чем когда-то – кулаков папа, но при этом гадал, что сделало его таким. Был ли он когда-то живым и юным, как я.
– А теперь слушай, – велел он, – и слушай внимательно. Холоднокровки и правда передают свое проклятие жертвам, но не всегда. Они не выбирают, кому передастся их недуг, и в том, кто из жертв обратится, а кто просто останется мертв, кажется, нет ни порядка, ни смысла. Бывает так, что убитый восстает всего через несколько мгновений после смерти. Но чаще проходит несколько дней или даже недель. Все это время жертва остается просто трупом и поднимается именно в том виде, в каком ее застало обращение: нетронутая тленом и прекрасная или уже иная. – Он глянул на подвешенное чудовище. – В былые времена, если обращение занимало несколько дней, солнце быстро убивало жертву. Мозг, видишь ли, тоже гниет, и безголовые холоднокровки, ничего не зная, погибали с первым же рассветом. Зато сейчас…
– Мертводень, – прошептал я.
– Oui. Солнце им больше не страшно. Вот они и живут дальше. Блуждают. Убивают. И размножаются – все эти семь лет с тех пор, как дневная звезда оставила нас.
– Сколько их теперь? – пробормотал я, облизывая разбитую губу.
– На западе Тальгоста, за хребтом Годсенд? Тысячи.
– Семеро мучеников…
– Ты даже не представляешь, насколько все плохо, Львенок. Старейшие и самые опасные, прекрасные, те, что зовут себя высококровными, прежде жили втайне. Но четыре месяца назад один владыка старшей крови привел к стенам Веллена армию порченых. Он бродил улицами города, словно ангел смерти, – бледный и утонченный, неуязвимый для оружия. Он убил кузена его императорского величества и забрал себе крепость. Он и сейчас посягает на земли Тальгоста, и с каждой резней, учиненной его темным племенем, армия мертвых растет. Некоторые восстают высококровными, вечно молодыми и бессмертными, но большинство становится порчеными, жуткими и гнилыми. И все, кто был убит, покорны его воле. Ходят слухи, будто он – древнейший холоднокровка на земле. Его имя Фабьен Восс, но сам он себя объявил Вечным Королем.
От этой мысли меня замутило. Я попытался вообразить несметные легионы холоднокровок, осаждающие города. Древние, точно само время, эти создания теперь бродили по земле невозбранно, как люди.
– И при чем…
Я покачал головой. В горле пересохло. Я вспомнил, как на язык текла ручьем медово-сладкая кровь Ильзы, вспомнил блаженство, наступившее, когда мои зубы пронзили гладкую кожу ее бедра. Мои клыки уже не были такими длинными, но все же я их чувствовал, и еще – жажду, что таилась во мне. Я гадал, восстанет ли она снова, а точнее – когда это произойдет.
– И при чем же тут я?
Серорук искоса взглянул на меня. В костре щелкнуло поленце, и в темноте брызнул фонтан искр.
– Что тебе известно об отце, Львенок?
– Он был солдатом. Разведчиком в армии Фили…
– Я не о том, кто тебя вырастил, малец. Я о родном отце.
И тогда я все осознал. Озарение обрушилось на меня снежной лавиной: я понял, отчего папа колотил лишь меня, не трогая сестер, и что он имел в виду, говоря, будто вырастил под своим кровом приблудка. Губы у меня словно онемели и распухли. Слова застряли в горле.
– Моим отцом…
– Был вампир.
Это произнес Аарон де Косте, смотревший на меня поверх пламени костра.
– Нет, – выдохнул я. – Нет… нет, моя мама ни за что бы…
– Она надеялась, что ты – не от него. Они оба надеялись. – Серорук похлопал меня по колену, и его взгляд смягчился; в нем теперь читалось нечто вроде жалости. – Не вини ее, Львенок. Для взора, что не видит истины, высококровные прекрасны. Они могущественны. Их разуму под силу сломить даже крепчайшую волю, а их уста источают сладчайший мед.
Мне вспомнилась Ильза, беззащитная перед обуявшей ее страстью, когда я чуть не выпил ее досуха. Тогда я взглянул на труп, подвешенный на суку, а после, с крайним отвращением, на собственные руки.
– Так я… как они?
– Нет, пейзан, – ответил де Косте. – Ты – как мы.
– Ты помесь, парень, – сказал угодник. – Из тех, кого мы называем бледнокровками.
Я посмотрел на этих двоих: у обоих кожа была призрачно-бледная, как и моя.
– Изменения проступают в нас ближе к возмужанию, – сказал Серорук. – И со временем все становится только хуже. От отца мы наследуем кое-какие дары: силу, скорость… прочие блага, смотря к какому клану он принадлежал. Но также нам передается жажда. Жажда крови, которая толкает их к убийству, а нас – к безумию. Мы – плоды греха, малец, и, не обольщайся, мы прокляты Богом. Единственный способ для нас заслужить Его вечную милость и место на небесах для наших окаянных душ – это сражаться и погибнуть за Его Святую церковь.
– А этот… Серебряный орден, о котором вы говорили?..
– Ордо Аржен. – Серорук кивнул. – Мы – серебряное пламя, отделяющее этот мир от конца всего сущего. Охотимся на чудовищ, которые иначе пожрали бы людской род, и убиваем их. Феи и падшие, закатные плясуны и чародеи, восставшие и порченые. И, oui, даже высококровные. Некогда вампиры жили в тени, но теперь не страшатся солнца, а темный легион Вечного Короля растет с каждой ночью. Вот мы, сыны их грехов, и платим немалую цену. Либо мы выстоим, либо все падут.
– Так нам… положено сражаться с Вечным Королем и его армией?
– Армии бьются с армиями, но императрица Изабелла убедила императора Александра, что, помимо молота, ему нужна и бритва. Ордо Аржен – ее лезвие. Традиция нашего братства свята, но никогда еще прежде королевский двор нам не покровительствовал. Генералы императора осаждают крепости и руководят войсками, но голову змее отсечем мы. Перебьем пастырей и посмотрим, как разбегутся овцы.
– Ассасины, – пробормотал я.
– Нет, парень, мы охотники. Охотники с божественными полномочиями. Гоняемся за опаснейшей дичью. – Серорук посмотрел в костер, и в его глазах вновь полыхнуло пламя. – Мы надежда тех, кто отчаялся. Огонь во тьме. Мы станем ходить в ночи подобно им, а они узнают наши имена и устрашатся. Покуда горят они – мы суть пламень. Покуда истекают кровью – мы суть клинки. Покуда грешат они – мы суть угодники Божьи.
А потом Серорук и де Косте в один голос произнесли:
– И мы носим серебро.
Брат Серорук заглянул в мои удивленные глаза, и сердце мне словно стиснули в кулаке. Затем он встал и тихо, будто не было никакой беседы, вернулся к молитве.
Однако он говорил со мной, и теперь его слова занимали мой разум. Я испугался как никогда в жизни. Ужаснулся того, кто я такой. А еще узнал, что вся моя жизнь это, сука, ложь: отец мне вовсе не отец, и я – плод греховной связи с чудовищем, и суть его теперь росла во мне, словно опухоль. Впрочем, и Аарона с Сероруком породила та же тьма, но они с честью стояли на защите императора, церкви, Самого Вседержителя.
Братья Серебряного ордена Святой Мишон.
Мать всегда говорила, будто в жилах у меня кровь льва, но тогда я впервые ощутил, что он не дремлет. От рук холоднокровок погибла моя сестра, и, пусть мне не удалось уберечь ее, теперь я мог за нее отомстить и, возможно, даже спасти свою проклятую душу. Я был рожден в темнейшем грехе, но впереди забрезжило искупление. И, глядя в пламя костра, я поклялся себе: если мне суждено примкнуть к этим людям, я стану лучшим из них. Самым свирепым и преданным делу. Забуду нерешительность, не подведу их и не познаю покоя, пока не отправлю всех чудовищ до последнего назад в преисподнюю, что породила их, – с приветом сестренке.
Габриэль со вздохом покачал головой.
– Я, сука, понятия не имел, во что ввязался.
VI. Обитель в небе
– В Сан-Мишон, окутанный снежно-серым туманом, мы прибыли в последний findi [8] месяца. Брат Серорук ехал впереди, Аарон де Косте – следом; я сидел в седле у него за спиной. Оказавшись в тени монастыря, я растерялся, запутавшись в чувствах. Я испытывал страх из-за собственной греховной природы; тоску по всему, что осталось в Лорсоне; но главное – восторг при виде утесов-столпов. Особенный восторг, с которым взираешь на что-нибудь, раскрыв рот.
Место было сказочное. Сан-Мишон возвели в долине реки Мер, угнездив его на черных скалах: вверх, точно копья великанов из Легендарной эпохи, поднимались семь столпов из замшелого камня. Между гранитных колонн темно-сапфировой змеей текла точившая их река. И вот на этом исполинском пьедестале ждал меня монастырь Сан-Мишон.
Серорук кивнул Аарону, и тот снял с пояса окованный серебром рог, подул в него, и над долиной зазвучала протяжная нота. Сверху ответили колокола, и пока мы ехали по заросшему грибами сланцу к срединному столпу, внутри у меня все трепетало. В основании утеса я увидел полость, вход в нее был забран кованой решеткой с изображением семиконечной звезды. Учуяв запах лошадей, я сообразил, что внутри конюшня.
Рядом с воротами опустилась широкая деревянная платформа на толстых железных цепях. Передав пони двум юным конюхам, мастер Серорук закинул пленного порченого на плечо и пошел к подъемнику; мы с Аароном – следом. Платформа угрожающе раскачивалась: мы поднялись на сто футов, на двести, и с этой высоты я разглядел на северо-западе Годсенд – величественный хребет из покрытого снежными шапками гранита, отделявший Нордлунд от Тальгоста.
Над нами кружил Лучник, а я вцепился в перила до того крепко, что побелели костяшки пальцев. Так высоко я еще никогда не поднимался и, стараясь не смотреть вниз, поднял взгляд – туда, где, прямо как в сказке, ждал монастырь в небесах.
– Высоты боишься, пейзан? – усмехнулся Аарон.
Я взглянул на блондинчика и крепче стиснул перила.
– Отвали, де Косте.
– Ты вцепился в эти перила, как в мамкину сиську.
– Вообще-то я представлял сиськи твоей мамаши. Хотя мне говорили, что ты предпочитаешь грудь сестры.
Серорук заворчал, веля нам обоим остыть, и остаток подъема де Косте держал язык за зубами, бросая на меня злобные взгляды. Однако мне было плевать. Всю неделю он обращался со мной, словно с приставшей к сапогу грязью, и компания этого засранца-барчука казалась мне столь же привлекательной, как мешок лобковой гниды.
Платформа со скрипом остановилась. В будке слева была лебедка, которую крутил сварливый тип, затянутый в черную кожу, с сальными патлами. А вот серебра на руках у него я не заметил.
– Светлой зари, привратник Логан, – кивнул ему Серорук.
Худой поклонился и с сильным акцентом оссийского деревенщины ответил:
– С Божьим утречком, брат Серорук.
Я прикинул, что долина лежит под нами примерно в пяти сотнях футов, но под сердитым взглядом мастера Серорука отпустил наконец перила, за которые так цеплялся.
– Не бойся, Львенок.
– Главное вниз не смотреть. – Я выдавил улыбку.
– Смотри перед собой, малец.
Я убрал с лица волосы, что бросал мне в глаза ветер, и вздохнул.
– Вот это вид…
Перед нами вздымался кафедральный собор. Прежде я соборов не видел, а крохотная часовенка в Лорсоне мне, юнцу, всегда казалась внушительной. Однако сейчас я поистине увидал дом Господа: огромный круглый кулак гранита, шпили которого пронзали небо; во внутреннем дворе стоял фонтан с чашей из бледного камня, окруженный кольцом ангелов: Кьяра, слепой ангел милосердия, Рафаил, ангел мудрости, Санаил, ангел крови, и его близнец, мой тезка Гавриил, ангел огня. Кладка местами крошилась, кое-какие окна были заколочены, но все же ничего великолепнее я еще не встречал. По собору, точно облепившие бревно клещи, ползали рабочие, а с парапетов усмехались гаргульи. В восточном и западном фасаде я заметил огромные двойные двери, и над рассветными створками сверкал величественный витраж.
Выполнен он был как семиконечная звезда, каждый луч которой иллюстрировал житие одного из семи мучеников: святой Антуан, разделяющий воды Вечного моря; святой Клиланд, стерегущий врата в преисподнюю; святой Гийом, сжигающий на кострах безбожников. И, конечно же, святая Мишон в ореоле соломенных волос: она держала в руках серебряную чашу и яростным взглядом смотрела прямо мне в душу.
На верхней ступеньке восточного крыльца нас ожидал человек в пальто угодника. Он был из Зюдхейма: темная кожа – как полированное красное дерево; бледно-зеленые глаза – подведены тушью. Он был старше Серорука, а длинные черные волосы заплел в спиральные косички. Из-за жутких шрамов на щеках казалось, будто его губы навечно застыли в мрачной улыбке; на тыльной стороне его ладоней поблескивали прекрасные серебряные татуировки. Он был широк в плечах, как мой пап, но излучал ауру такой власти, которая моему отчиму с его кулаками и не снилась.
Это, решил я, главный.
Серорук и де Косте низко поклонились.
– С возвращением, братья. На мессе нам вас не хватало. – Великан обернулся ко мне и низким, как пение виолончели, голосом произнес: – Приветствую и тебя, юный бледнокровка. Меня зовут Халид, и я – верховный настоятель Ордо Аржен. Знаю, ты проделал долгий путь, и новая жизнь может не оправдать твоих ожиданий, но отныне это твоя жизнь. Ты и благословлен, и проклят, призван Господом Всемогущим на этот священный промысел. Мужайся. Будь беспощаден к себе. Иначе вслед за тобой мы все познаем слабость и отдадимся ей.
Не зная, как ответить, я просто поклонился:
– Настоятель.
– Пока ты не принял обет как полнокровный брат Ордена, наставлений ищи у своего мастера. Инициаты не могут покидать казарму после сигнала к отбою, а также входить в запретную секцию Большой библиотеки. Сегодня состоится закатная месса, и ты впервые примешь серебро. Завтра начнется твое обучение. – Халид взглянул на Серорука. – Можно тебя на пару слов, добрый брат?
– Во имя крови, настоятель. Де Косте, покажи Львенку, что тут да как.