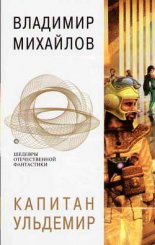Я стану Алиеной Резанова Наталья
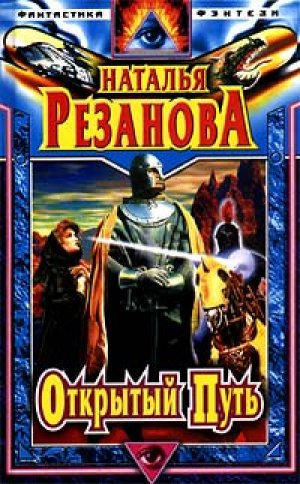
* * *
— Ты видела во сне лес? Или монастырские стены? — допытывался Найтли.
— Ничего подобного, — мрачно ответствовала я. — Разрушенный мост.
В глазах Найтли появилось выражение, которое испугало бы меня, не привыкни я к нему за все эти годы. Так смотрит скряга на найденный клад. Или вампир на горло жертвы.
— А дальше? Что было за мостом?
— Ничего. Ударил колокол. Я проснулась, умылась и пошла к тебе.
Алчный огонь в глазах Найтли угас. Он развернулся и порысил к столу. Зашуршал пергаментами, как крыса, — я тут же укорила себя за подобное сравнение.
Мои сны всегда необычайно волновали Найтли. Иногда он даже подмешивал мне в питье какие-то зелья — чего, впрочем, не скрывал, — чтобы со мной, не дай Бог, не случилось бессонницы. Хотя в присутствии Найтли Бога поминать не было принято. Найтли — алхимик, некромант, заклинатель и чернокнижник. Большая часть жителей околотка считает, что он продал душу дьяволу. Есть еще одно обстоятельство, касаемое Найтли, в котором убеждены уже все жители околотка: что Найтли — мой отец. Несмотря на то, что матушка-покойница всегда это отрицала. Она говорила — отцом моим был один солдат видама Тримейнского, и смылся он из ее поля зрения за полгода примерно до моего появления на свет. Однако ее никто не слушал. И то правда. Иначе с чего бы Найтли стал заботиться обо мне буквально с пеленок — нет, раньше, с первого мгновения моей жизни: он-то и принял меня при рождении в приюте для незамужних матерей, не доверив этого дела повитухе, — а потом учить, лечить, платить за мое жилье?
И все-таки я предпочитаю верить матушке. По времени, объективно говоря, Найтли моим отцом вполне мог оказаться. Сейчас ему под семьдесят, и он здорово сдал, но семнадцать лет назад он был, вероятно, вполне крепким мужиком, а матушка, при всех своих достоинствах, не была образцом женской стойкости. Но я придерживаюсь версии солдата из Тримейна. И не потому, что Найтли ни разу не высказался ни pro, ни contra своего отцовства. И не потому, что он совсем меня не любит. Нет, он по-своему ко мне даже привязан. Просто я ему для чего-то нужна. Это ясно как Божий день. Ах да, про Бога… Найтли никогда не запрещал мне ходить в церковь, продал он там душу или нет… Но и не поощрял тоже.
Так вот, что бы я там ни думала, своих мыслей вслух я никогда не высказываю. Не считали бы люди Найтли моим отцом — считали бы гораздо хуже. А драться в моем возрасте уже как-то неудобно. То есть в детстве я это очень умела и уважала. Поневоле привыкнешь, когда регулярно приходится давать в морду и за «шлюхино отродье», и за «колдовское», а меня обзывали и тем и другим.
Сколько покойная матушка слез проливала из-за моих драк! Однако, когда я впервые пришла в мастерскую Найтли вся в синяках, выплевывая молочные еще зубы, и, торжествуя, сообщила о полном и окончательном разгроме превосходящих сил противника, тогда же впервые увидела в его глазах тот ликующий сквалыжный блеск, как сейчас, когда он расспрашивал меня о снах.
Итак, более всего Найтли интересовали мои сны. Из тех книг, что я прочла, мне было известно, что сны имеют важное значение в ясновидении. Но я не была ясновидящей, более того, Найтли и не пытался сделать меня таковой. Я знала, что бывают женщины-алхимики. Но Найтли и алхимии меня не учил. Языкам, древним и новым, истории, логике, классической литературе — это да. Я, несомненно, была самой образованной девушкой в нашем городе. Но совершенно непонятно, где незаконнорожденная дочь служанки из трактира «Морское чудо» могла бы эти знания применить. Правда, в трактире я уже не жила. После смерти матери меня оттуда выперли, и Найтли снял мне комнату в городе. Он не хотел, чтобы я жила у него, а я и не просила. К тому времени я уже поняла, что для него я всего лишь средство, отмычка к какой-то двери. Орудие. Оружие.
У меня со временем сформировалась твердая уверенность, что Найтли не всегда занимался исключительно наукой. Роясь в его книгах, я находила такие тома, как «Книга турниров», «Тактика осадного боя» и «Трактат о мечах». Мне было стыдно за интерес к подобным сочинениям — особенно последнему — в ущерб фундаментальной науке, и читала я их тайком. Но когда Найтли все-таки застал меня за «Трактатом о мечах», он и не подумал меня наказывать. И только позднее явилась мысль: уж не сам ли он мне эти книги и подсунул?
— Должно быть, это было Междугорье, — неожиданно услышала я свой голос.
Найтли, кажется, споткнулся и ухватился за край стола, чтобы не упасть.
— Тебе плохо?
— Нет! — Он дернул плечом, не оборачиваясь ко мне. — Почему ты упомянула Междугорье?
— Ну, этот мост. Во сне. Где-нибудь в тех краях.
— С чего ты взяла?
— Должно, быть, видела миниатюру в какой-нибудь книге и запомнила. Откуда же еще? Ведь я сроду не выезжала из города.
Он повернулся и протянул руку, будто что-то собирался схватить с полки. Но я так никогда и не узнала, что именно.
Потому что в это мгновение начали ломиться в дверь. И неописуемо мерзкий голос возопил:
— Именем святой нашей матери Церкви!
У меня упало сердце. Когда-нибудь, рано или поздно, это должно было случиться. Каких бы богатых и знатных клиентов ни обхаживал Найтли, желающих донести всегда достаточно. А когда богатый и знатный покровитель отлучится на войну или охоту.. или просто сляжет в лихорадке… или в магистрате возьмет верх не та группировка…
Я совершенно растерялась. А в глазах Найтли я прочитала досаду — клянусь, именно досаду, а не что-то иное.
— Как не вовремя, — прошептал он. И чуть выше тоном: — Не бойся, Алиена. Я найду способ освободиться.
Дверь упала. Мы увидели мордатых солдат городской стражи в начищенных медных касках и монаха-доминиканца.
— Богопротивный чернокнижник, слуга дьявола по прозванию Найтли, ты подлежишь аресту и трибуналу святейшей инквизиции!
Монах взмахнул каким-то пергаментом со множеством печатей. Значит, дело серьезное, а не просто соседям надоело нюхать вонючий дым атанаров.
— Девку тоже вяжите, — деловым тоном распорядился монах. — Это его отродье, она пригодится при допросе.
Я сделала шаг вперед, и в грудь мне нацелились пики. Я была в таком состоянии, что могла бы, наверное, броситься прямо на острия, если бы Найтли не схватил меня за руку.
— Не сопротивляйся, дитя, — коротко сказал он. — И помни, что я тебе обещал.
Когда нас вытолкнули на улицу, я как-то мельком подумала: Найтли, несмотря на всю свою внешнюю невозмутимость, тоже ошалел от страха. Иначе с чего бы ему называть меня чужим именем. Не мог же он просто забыть, что зовут меня Селия.
Ах, как это худо — пятый день не умываться. Не думаю, что и в обычных тюрьмах заключенным ведрами таскают воду, но узилище Святого Трибунала водой ограничивают из тонких соображений. Чтобы колдун или ведьма не использовали воду для чародейных целей. А то нырнут, бывало, в ковшик с водой — и только их и видели. Здорово, правда? Жаль только, что я не ведьма.
Нас с Найтли разлучили не сразу. Сначала нас сунули в общую камеру, и он успел дать мне кое-какие наставления:
— Если тебя будут спрашивать, моя ли ты дочь, отвечай утвердительно. По возможности скрывай свою образованность и говори как подобает простолюдинке. Лучше всего, Алиена, вообще бы выдать тебя за слабоумную. Но ведь тот, кто донес на нас, наверняка сообщит, что ты не такова.
— Ты думаешь, это поможет?
— Это нужно, чтобы протянуть время. Постарайся сохранять самообладание. Опасность, конечно, велика, но я попытаюсь выручить нас обоих. Я тебя не оставлю. Ведь я дал тебе душу…
Все вышесказанное было настолько несвойственно Найтли, что я совершенно растерялась и не нашла ничего лучшего, как пробормотать:
— Душу дает Бог.
— Только не в твоем случае.
В этот момент нас и разогнали по разным камерам, и больше Найтли я не видела. Сказать, что я была озадачена, слишком слабо, не считая уже того, что любой человек, будь он даже храбр как тигр или туп как бревно, в тюрьме Святого Трибунала поневоле вострепещет. Значит, я ошибалась в Найтли и старик все же по-своему любит меня? Ведь только так можно было трактовать его слова. Но чего стоит в подобном случае все мое знание людей? И я не успела спросить, что значит его «Алиена». То есть я, конечно, знала, что значит это слово, но с чего он вдруг начал применять его ко мне?
Только размышления на эту тему помогали мне отвлечься от собственного страха. Потому что боялась я ужасно. Даже если Найтли и попытается вытащить меня отсюда, это еще не значит, что попытка удастся. Разумеется, он был прав — лучше всего, если бы меня сочли слабоумной. Я знала случаи, когда арестованных Святым Трибуналом и определенных как «слабоумные» не казнили. Иногда их даже не пытали. Они отделывались поркой и ссылкой. Но опять же Найтли был прав — скорее всего, найдутся доброжелатели, которые подтвердят, что я в своем уме… И пытки мне тоже, скорее всего, не миновать. Это и доводило меня до тоски, до тошноты — ожидание пытки. Я слышала, что, как ни странно, люди слабые и болезненные выдерживают пытки лучше, а я как на грех сильная и здоровая. Что, если я сломаюсь и наговорю на себя такого, что прямым путем приведет меня на костер? Предположим, били меня в жизни, и довольно сильно, но это было, во-первых, давно, а во-вторых, я тогда могла не только получать удары, но и наносить их. И вообще, как можно сравнивать пытки с тычками по шее в Приморском переулке?
Но тянулись дни, на допрос меня не вызывали, и меня начинали мучить страхи иного рода. Что, если обо мне просто забудут и оставят в этой камере до конца дней? Тут уж и палачу обрадуешься как родному…
Возможно, эти дни ожидания входили в процедуру и должны были довести узника до должной кондиции. А может, чуждые подобному коварству судьи просто были заняты. Но, в общем, когда меня поволокли на допрос, — со связанными руками, толкая спиной вперед, чтобы я не могла первой посмотреть на судей и заколдовать их, — если бы я могла! — они добились своего. Мне не нужно было притворяться тупой. Я просто отупела.
Но они допрашивали меня без особого напора.
— Начнем с самого простого. Имя матери?
— Армгарда.
— Кто такая?
— Служанка в «Морском чуде». Она уже умерла.
— Отец?
— Не знаю. Говорят, что Найтли, алхимик… — Ну, не повернулся у меня язык назвать Найтли отцом, хотя последний сам дал на это санкцию.
— Так отец он тебе или не отец?
— Не знаю, наверное, отец, почему бы не отец…
— Обучал ли Найтли тебя своему ремеслу?
— Нет, господа хорошие, ничему такому он меня не обучал.
— Так что ж ты делала у Найтли?
— Посуду мыла, пол мыла, одежду штопала…
— А Найтли что в это время делал?
— А книжки читал, толстые такие…
— Составлял ли он при тебе снадобья, найденные в его доме?
— Не знаю, я не смотрела.
— Что тебе известно о свойствах трав, цветов, корней?
— Ничего (правда), цветы-травки — это дело деревенское, а я же, господа хорошие, в жизни за городскую черту не выходила (неправда).
— Учил ли он тебя делать женщин бесплодными, убивать младенцев в материнском чреве, лишать мужчин их силы, предсказывать будущее по пламени свечи, составлять гороскопы?
— Нет. Нет. Нет. Нет.
И так далее. Причем мне даже не пришлось особенно врать. Найтли всему этому меня действительно не учил. О том же, чему он меня учил, меня не спрашивали. Я их не интересовала. Вот в чем дело. И наконец, самый главный — для меня, не для них — вопрос секретаря:
— Прикажете пытать?
— Нет, отчего же. Успеется. Проводите в камеру.
Этот, с позволения сказать, допрос, всколыхнул во мне надежду. Может быть, меня все же отпустят? Я им не нужна, им нужен Найтли… И тут же я запретила себе надеяться на это. Найтли, значит, сожгут, а меня отпустят — как можно так думать? Найтли, он беспокоился обо мне, когда нас арестовали, советовал, как себя вести, чтобы защититься… хотя для него отчасти это была самозащита. Но даже не в этом было главное. Нет, они меня не отпустят. Найтли виноват в том, что он алхимик, а я — в том, что родилась женщиной. На сотню осужденных колдуний приходится едва ли один колдун. Дай этим сволочам волю — они всех женщин изведут. Всех. А если попалась молодая, как я, — это для них сущий праздник. Они отомстят мне за собственные артрит и подагру, за трясущиеся жиры, за морщины, за скрюченные спины… Будь они все прокляты! Нет, я не должна надеяться… И будь что будет.
И я оказалась права — о, как рада была бы я оказаться неправой! Два дня меня не водили на допрос. Должно быть, проверяли показания свидетелей. Кто были эти свидетели — пекарь, зеленщик, мясник, хозяйка дома, где я жила, пономарь из церкви Святого Креста, — какая сейчас разница? Главное в том, что и тема, и тон следующего допроса сильно изменились. Спрашивали о шабашах и о моем в них участии. Когда происходили нечестивые сборища — по средам, пятницам, в страстную неделю, в ночь середины лета или зимнего солнцестояния? Где они происходили — в заброшенных церквях, на пустырях, в конюшнях или лесах? Добиралась ли я туда по воздуху, натершись колдовской мазью, или использовала какие-то орудия? И какие я при этом произносила заклинания? «Отвечай, ведьма, иначе… Подойдите поближе, господин палач, пусть она вас видит! А если это покажется недостаточным, вы препроводите ее в подвал, покажете ей орудия вашего искусства и объясните, как ими пользоваться».
Однако ж я до поры до времени продолжала строить тупую рожу, мычать в ответ нечто нечленораздельное, но явно отрицательное. Они же продолжали напирать. Приносились ли в жертву Сатане некрещеные младенцы? И что с ними потом делалось? Съедались ли младенцы целиком, либо из них вытапливался жир для употребления в помянутых колдовских мазях и выпускалась кровь, которая, как и пепел от сожженного святого причастия, идет на изготовление облаток, коими причащаются все участники шабаша? Да не было этого, не было, говорила я. Как же не было, когда было, удивлялись они. Разве я не отрекалась от Господа Бога и всех святых, раз посещала шабаши? И какое имя я получила от господина своего дьявола при новом крещении? Да нет же, говорила я, не отрекалась я от Господа Бога — хотите, перекрещусь? Сроду я не была на шабаше, и крещена я была раз в жизни именем Селия, что, между прочим, означает «небесная»: в церкви при приюте Святой Марии Магдалины — мне не верите, так в церковные книги посмотрите. Но меня никто не слушал, они слышали только себя. Причем подробности, которые они перечисляли, становились все тошнотворнее и тошнотворнее. Правда ли, что я обязалась платить дань дьяволу в виде угодных ему деяний, оскверняя, уничтожая и похищая христианские реликвии? Отдавалась ли я врагу рода человеческого в знак заключения с ним договора, и сколько раз? И верно ли, что семя у него холодное, не как у живого человека? «Кабы у меня была возможность сравнивать…» — прошипела я, но их уже несло дальше. А после совокупления с Сатаной начиналась общая оргия, верно? И каждый делил ложе с кем попало, старик — с юницей, знатная дама — с нищим, и даже — horribile dictu! (Повествуя, дрожу! (лат.)) — кровные родственники попирали естественные права, и мать ложилась с сыном, и брат с сестрой, и свальный грех, и скотоложество венчали разврат сей? И чад, порожденных в подобном блуде, резали на черном алтаре…
— Хватит! — заорала я. — Повторяетесь! Про зарезанных чад уже было. И вообще, все это сплошные повторы. Про кого ни почитаешь, про катаров, богомилов или, скажем, павликиан, везде одно и то же — свальный грех, просфоры из крови младенцев, поклонение ослиной голове и тому подобная блевота! Хоть бы придумали что-нибудь поновее, а то одно и то же и про ведьм, и про евреев, и про манихеев, а еще раньше, если память не изменяет, римские историки писали то же самое про первых христиан!
— Молчать! — велели мне.
И, глядя в их побагровевшие, полиловевшие даже, рожи, в выпученные до белков глаза, я поняла, что сорвалась, погибла бесповоротно. И теперь ничто меня не спасет.
— Прекрасно… — сказал председатель трибунала. — Секретарь успевает записывать? То, что мы сейчас слышали, равносильно полному и безоговорочному признанию вины и требует занесения в протокол. Подследственная обнаруживает знания, абсолютно несовместимые с ее полом, возрастом и сословием, а то, что при этом она изрыгает хулу на учение святой матери нашей Церкви, подтверждает, что знания эти внушены не кем иным, как врагом рода человеческого… Разумеется, на этом дело нельзя считать закрытым, необходим еще допрос с пристрастием на предмет обнаружения дьявольской метки на теле преступницы, но это мы перенесем на другой раз, а в качестве подготовки необходимо вызвать цирюльника, дабы он остриг подследственной косы, ибо, во-первых, подобные метки прячут чаще всего под волосами, а во-вторых, как известно, именно с помощью волос творят ведьмы свои черные волхвования.
И после допроса меня обкорнали, как каторжника, но этим дело не ограничилось, потому что в следующий раз меня, к тупому изумлению, повели отнюдь не в камеру пыток, а во двор, где на крыльце уже обретался Найтли. Во дворе стояла телега, а кругом бродили солдаты в куртках из буйволовой кожи и медных касках. Найтли был так же связан, как я, но казался не более испуган, чем при нашей последней встрече.
— Найтли, — сказала я. — Я не выдержала твоего совета. Я выдала себя… и… вот… — Мне было очень стыдно.
Похоже, если бы веревка позволила, он бы пожал плечами.
— А я и не предполагал, что ты сможешь притворяться до конца, Алиена.
— И что теперь?
— Теперь нас повезут в Тримейн. Закоренелый чернокнижник и молодая ведьма — пара, достойная костра в императорской столице, а не в таком захолустье, как наш Солан. Во всяком случае, я сумел их в этом убедить.
Он отнюдь не был напуган. Или от допросов двинулся умом, или понимал что-то, чего не понимала я.
Нас запихнули в телегу, и, помимо того, что мы были связаны по отдельности, нам связали ноги общей веревкой. Я ожидала, что еще колодки наденут, но обошлось.
Конвой сопровождали монах — не тот, что приходил нас арестовывать, а другой — и какой-то мелкий чин от трибунала, фискал, не то секретаришка. И два десятка солдат — я их разглядывала с тщанием: может, попадется кто из нашего квартала, но нет, ни одной знакомой рожи.
Мы выехали за ворота поутру и за ближайшим поворотом оказались в лесу. Кажется, я начала понимать, в чем кроется бесстрашие Найтли, — он надеялся сбежать по дороге. Но как? Он не произносил ни слова, сидел уронив седую голову на тощие колени и словно бы дремал. Я, напротив, привалилась спиной к борту телеги, чтобы не было видно связанных рук. Потому что… потому что еще прежде, чем осознала, что делаю… откуда-то я знала об этом, может, слышала в детстве в «Морском чуде» от воров и контрабандистов… Нужно было как можно сильнее напрячь мышцы и потом совершенно расслабить. И снова. И снова. И так много раз, при этом тяжко и скорбно дыша и глядя кругом взглядом коровы, ведомой на бойню…
Веревка по-прежнему обматывала локти и запястья, но я могла сбросить ее в любое мгновение. Если Найтли что-то заметил, то ничего не сказал.
Пала мгла. Чин из трибунала громко ругался, что не успел доехать до постоялого двора. Пришлось становиться лагерем в лесу, что никого не прельщало.
Нас вытолкали из телеги, а так как ноги у меня были связаны, я тут же шлепнулась на землю носом книзу, и платье у меня задралось выше колен. Солдаты заржали, а один из них нагнулся и принялся меня щупать. Я могла бы затылком разбить ему лицо, а потом кинуться в драку, но сдержалась и продолжала лежать. Когда нас вытолкали на обочину, солдат вернулся. Было темно, и я могла только чуять запах перегара и гнилых зубов. Он снова схватил меня.
— А ведьма-то не прочь позабавиться напоследок. Ишь как глазищами зыркает, — говорил он, задирая мне подол. — Я ведьм не боюсь, они небось самые горячие… пока не сгорят.
— Пожалей несчастного отца, — послышался голос Найтли, жалкий, дребезжащий, совсем на него непохожий. — Мы бессильны против вас… но, умоляю, не позорь мою дочь перед всеми. По крайней мере отведи ее в лес.
Я словно окаменела. Солдат нагнулся, вытащил нож и перерезал веревку, стягивающую ноги. Потом сунул нож за пояс, схватил меня за плечо и потащил в чащу. Скрыться он, ясное дело, собирался от взора отнюдь не скорбящего отца, но монаха.
Он был очень занят и совсем не рассчитывал, что руки у меня будут свободны… и не озаботился снять с себя перевязь с оружием. Спешил, видно. Не спешил бы, может, до сих пор был бы жив. И только хлюпнул, когда я его собственным ножом перерезала ему горло от уха до уха, «открыла ему второй рот», как это жизнерадостно называли в «Морском чуде», где я и нагляделась, как это делается. Потом спихнула с себя труп и машинально одернула подол. В голове у меня шумело, но не успела я опомниться, как из кустов выбрался Найтли. Он подобрался совершенно бесшумно, чего я от него совсем не ожидала, и, казалось, не был удивлен увиденным, как будто сам все это и подстроил… А ведь и подстроил же!
— Уже управилась? — сухо осведомился он. — Развяжи мне руки.
Я молча полоснула окровавленным лезвием по веревке, стягивавшей его запястья. Он быстро выхватил у меня нож и вытер его об одежду мертвеца.
— Бери меч, Алиена, бежим. Некогда ждать.
Всю ночь мы продвигались в направлении, указанном Найтли. На север. Сначала двигались по звездам, а потом, ближе к полуночи, наткнулись на ручей и пошли прямо по воде, на случай, если по нашему следу пустят собак. Когда мы убегали, я почему-то прихватила с собой веревку, которой прежде была связана, и теперь подпоясала ею одежду и подоткнула подол. Пока что я слишком устала и отупела, чтобы задавать вопросы, и просто следовала за Найтли. Но, как видно, он устал еще больше меня и, когда уже брезжил рассвет, выбрался на берег и сказал, что нам необходим отдых. Там же, на берегу, мы и свалились.
Я проспала, судя по тому, как стояло солнце, когда я открыла глаза, часа два-три. Меня мучила жестокая жажда, язык прилипал к гортани, и кишки просто ссохлись. И это при том, что вода была под самым боком. Окончательно проснувшись, я напилась из ручья, пригнувшись к воде и не выпуская меча из рук. При этом услышала шелест в осоке и мгновенно распрямилась. Но это был Найтли. Он тоже проснулся и внимательно разглядывал меня… словно счета сверял.
— Сейчас попробую наловить рыбы, — сказала я ему.
Рыбину мне удалось поймать одну, но крупную, пятнистую, с розоватыми плавниками.
— Я почищу, — сообщила я Найтли. — Только придется есть ее сырой.
— Я мог бы вызвать заклинание огня, — задумчиво произнес Найтли, — но… нет, лучше попробуем сырую.
Мы принялись за рыбу, которая и сырая оказалась недурна.
— Тримейн остался к западу от нас, — рассказывал Найтли, выплевывая мелкие косточки. — Нам нужно двигаться на север, по направлению к Эрденону. Перейдем границу по реке. Главное — оказаться под юрисдикцией герцога Эрдского. Он не подписал с Тримейном договор о выдаче преступников. Правда, я не могу поручиться, что стражники не рискнут так же беззаконно пересечь границу, но я на это надеюсь. В общем, чем дальше мы успеем уйти на север, тем лучше.
— В Междугорье.
У него даже челюсть отвисла.
— Почему туда?
— Не знаю… мне показалось, что это важно… и что мы именно туда направляемся.
Он схватился за виски и пробормотал что-то вроде: «Я должен был это предвидеть».
Тем временем я закопала остатки завтрака. Найтли поднял голову и сказал строго, как учитель на уроке:
— Пока что нам важно добраться в Эрденон. В город Эрденон. Усвоила?
И мы двинулись в путь — умудренный жизнью, уверенный в избранном пути адепт и я, — кто? — заткнувши за пеньковую опояску дешевый меч из плохой стали.
Если бы не мои мрачные мысли, в лесу было бы даже неплохо. Погода была в самый раз для ходьбы, дождя не было уже порядком, и палая листва пружинила под ногой. Если мы уйдем от погони, нужно будет подумать о пропитании. Грибы, наверное, уже есть, и потом, охота… правда, стрелять не из чего, но я могу выстругать что-нибудь вроде дротика, а глаз у меня верный. Сквозь заросли боярышника, покрытого зелеными еще ягодами, мы выбрались на небольшую поляну, и тут Найтли остановился. Дыхание со свистом вырывалось у него из груди.
— Я истощил свои силы, взяв такой разгон. — Он опустился на землю. — Погони пока что незаметно, и думаю, Алиена, мы можем позволить себе небольшую передышку.
Плюхнувшись рядом, я заметила:
— Я Селия. И всегда была Селией.
— Нет. — Он уверенно помотал головой. — Ту, что крестили в приютской церкви, действительно назвали Селией. Мое же создание именуется Алиеной.
— Что?
— Да, — торжественно произнес он. — Вот что я имел в виду, когда говорил, что дал тебе душу. Я — не твой отец, Алиена, я — больше. Я — твой создатель.
Меня прожгло от глотки до пищевода, словно я по ошибке вместо воды выпила стакан кислоты. Я привстала на одно колено.
— Ты… хочешь сказать… я — ненастоящая? Ты создал меня в одном из твоих атанаров? Я — гомункулус, или механическая кукла, вроде тех, что творил Альберт Великий?
— Нет, — поморщился он. — Твоя физическая оболочка действительно рождена в результате вульгарного плотского соития мужчины и женщины, о которых я ничего не хочу знать. Но она не имеет ничего общего с содержанием. Алиена — так зовется та, кого я поселил в этом теле…
Не знаю, что бы он сказал еще и что бы сделала я, но в это мгновение в боярышнике раздался сокрушительный треск. Я вскочила, вытягивая меч. При этом веревка, державшая его, развязалась, и я подхватила ее левой рукой.
Найтли быстро переместился на другой конец поляны.
Это были солдаты конвоя. Четверо. Очевидно, они прочесывали лес небольшими группами. Они что-то кричали, но из-за того, что я только что услышала, никакие слова до меня не доходили. С тем же успехом ко мне можно было обращаться по-китайски. И еще — очевидно, они были в ярости из-за гибели своего сотоварища и не собирались оставлять нас в живых. И они бросились на меня.
В «Морском чуде» среди бандитов и головорезов особым почтением пользовался Вальгард-душегуб, зарубивший в драке троих противников. Об этом кабацкая публика говорила как о чем-то совершенно неслыханном. А здесь было четверо. Впрочем, если бы они нападали по одному, это им было бы не в пример выгоднее. А так они присунулись ко мне все сразу, толкаясь и мешая друг другу.
Об этом я, конечно, тогда не думала. Я вообще ни о чем не думала. За меня думало — и действовало — мое тело, о котором Найтли так презрительно отозвался.
Я одновременно отбила выпад ближнего меча и хлестнула веревкой по глазам того из нападавших, что был слева. Брызнула кровь, он дико завопил, отшатнулся, тесня своих соратников, и выронил меч. Я успела его подхватить.
Держа в каждой руке по мечу, я закрутила их как мельничные крылья. Ни разу в жизни я не видела подобного фехтовального приема, но чувствовала, что действую единственно верно и правильно. Хоть это и рассеивало силы, но обеспечивало хорошую оборону. Но все-таки защититься полностью я не могла. Пока я отбивала атаки с флангов, третий нападающий бросился на меня. Я прыгнула вперед — потому что, как я уже говорила, в драке принимало участие все мое тело, целиком, — направленным ударом ноги сбила противника на землю и, двумя своими мечами удерживая два вознесенные над моей головой меча, наступила ему на горло. И босой ногой ощутила, как хрустнули шейные позвонки…
…И тут же мгновенно нырнула, опустив руки, и высвобожденные клинки клацнули друг о друга там, где только что была моя голова. Я успела развернуться и сменить позицию. Один из них, следуя за мной, споткнулся о труп, и лезвие вошло ему сверху, в основание затылка, а второму, который в это время в замахе сжимал обеими руками рукоять своего меча, — снизу, под подбородок.
И уже выпрямляясь, я просто, без всяких затей, ткнула в грудь первому, ослепленному ударом веревки, который все это время бессмысленно топтался на месте.
И все.
Мечи вдруг показались мне неподъемно тяжелыми. Они выскользнули у меня из рук и вонзились в землю. Туман застлал мои глаза, и я поняла, что сейчас заплачу.
«Ты еще скажи себе, что у каждого из них была мать и, возможно, жена и дети, — попыталась я съязвить. — Лучше подумай, дура, о том, что они бы с тобой сделали, если бы ты их не убила. Сначала изнасиловали, а потом вспороли брюхо и вытащили кишки — что, не так?»
И все равно я, вероятно, расплакалась бы, если б не Найтли.
Найтли, который на протяжении всей потасовки спокойно простоял в стороне. А ведь у него был нож, и он свободно мог сунуть его одному из солдат между лопаток. Но он предпочел переждать… как будто знал, что я смогу убить в драке четверых сильных мужчин… я, которая прежде и меча-то в руках не держала!
А сейчас он принялся прытко обыскивать убитых, выказав при этом немалое тщание и сноровку. Искал он в первую очередь деньги и еду, оружие не взял, заметив, что нет здесь меча по его руке, да и стар он уже для этого…
Я тупо прикинула: а что из оружия взять мне? Хотя оказалось, что я могу фехтовать двумя мечами, особой уверенности в данной области я не испытывала. Но я все же решилась взять два меча, а также ножи, превращаясь, таким образом, в этакий ходячий арсенал в лохмотьях. Мне следовало бы переодеться в солдатскую форму, но я не смогла преодолеть совершенно неуместное отвращение.
Вновь перепоясавшись подобранной с земли веревкой, я заметила, как Найтли сгребает к трупам хворост и палую листву. Поначалу я подумала, что он собирается просто их засыпать. Но тут я увидела, что он достает прихваченный в добыче кремень и кресало.
— Ты что задумал?
— Ну, с четырьмя ты управилась, — объяснил он мне, как нерадивому младенцу. — А что, если в следующий раз их будет десять? Или двадцать? Нет, рисковать больше нет смысла…
— Ты что, пожар тут собираешься устроить?
— А ты боишься огня? — со знакомым любопытством спросил он.
— Я боюсь не огня, а того, что мы сгорим! — Все кабацкие проклятия едва не сорвались у меня с языка. — Пожар летом в лесу — это…
— Ветер в другую сторону, — поучительно сказал он и выкресал искру.
Мы снова шли в установившемся порядке: позади — я, один меч за поясом, другой на плече, впереди, уверенной походкой, — Найтли.
Почему он не помог мне ни в первый, ни во второй раз, избрав позицию наблюдателя? Что он хотел? Чтобы я, книжно выражаясь, отточила клюв и расправила крылья? Или просто был уверен, что я не нуждаюсь в его помощи? А может быть, спятил после трибунала? Иначе его разглагольствования о душе и теле объяснению не подлежат.
Когда мы снова сделали привал, Найтли, похоже, был в превосходном настроении. Он попеременно прикладывался к фляге и к хлебу, взятым у убитых. Предлагал и мне, но я отказалась.
— Не стоит морить себя голодом, — заметил он. — Ты, конечно, можешь долго выдержать без еды, однако не стоит прибегать к этому без нужды.
— Откуда ты знаешь, что я могу и что — нет? — сквозь зубы выдавила я.
Он доел хлеб и выбрал из бороды крошки.
— Я знаю о твоих возможностях гораздо больше, чем ты сама… пока что. — Вздохнул. — Ты без того уже услышала достаточно, чтоб оказаться сбитой с толку. Я предпочел бы отложить этот разговор до тех пор, пока твоя память не восстановится окончательно, но Святой Трибунал спутал все мои планы. — Вероятно, он был слегка пьян, а может быть, ему не нужно было вино, чтобы завестись. — Как ты наверняка поняла, я не всю жизнь был человеком книги. Начал я ее человеком меча. И довольно успешно… И была ты, Алиена. Ты всегда смела идти туда, куда не решались идти другие. Нет, я не могу тебе рассказать… Ты должна вспомнить. И когда-нибудь вспомнишь… Но ты недаром видишь этот мост… В том, что тебя убили, была и моя вина, ведь я отступил, и ты пошла одна. И я захотел тебя вернуть. Нет, не воскресить — там и воскрешать-то было нечего, — вернуть. И я отбросил меч и занялся тайными науками. Это длилось долго… более двадцати лет ушло на поиски верного учения. Мои вычисления привели к выводу, что душа твоя не нашла успокоения. Она скитается в сферах, близких к земной, и нуждается в новой физической оболочке. Проще говоря, ей нужно тело, в котором она может поселиться.
— Явление, у иудеев именуемое «дибук», — пробормотала я. — Описывается в трудах каббалистов…
Он не дал мне договорить:
— Ты мне не веришь. Ты все еще не почувствовала — речь идет о твоей душе. Для тебя это пока что как история из книг… Итак, я решил дать твоей душе тело и занялся его поисками. Но для действия, задуманного мной, потребны были правильные сочетания светил и разных иных знамений. В ночь, когда все знаки совпали, одна женщина в Магдалининском приюте родила девочку, которая умерла сразу после рождения. Я взял маленькое тельце на руки, прочитал над ним заклинание, во всем мире известное только мне, и мертвая ожила. В нее вошла твоя душа, Алиена.
Конечно, я не мог быть полностью уверен в успехе. Поэтому я постоянно наблюдал за тобой. И год за годом убеждался в своей правоте. Как ты думаешь, почему ты так быстро усваивала знания, столь необычные для девицы низкого происхождения? Потому что это были знания Алиены. Ты ничему не училась. Ты только припоминала. Языки, история, свободные науки, боевые искусства — все это только спало в твоей душе и просыпалось при верном прикосновении. А твои сны, в которых ты видела места, где никогда не бывала Селия, подтверждали мою уверенность. Правда, не все мои предположения оправдались. Я полагал, к примеру, что ты должна испытывать страх перед огнем. Ты ведь умерла от множественных ожогов. У тебя панцирь прямо сплавился с телом. Есть и некоторые другие различия… незначительные. И все равно я уверен — Алиена здесь. Внешне ты не имеешь с ней ничего общего. И все же она — это ты.
Я приподнялась, прислушалась, принюхалась, с шумом втянула в себя воздух.
— Что такое? — Найтли с жадностью следил за выражением моего лица. — Ты мне по-прежнему не веришь? Либо… потрясение оказалось для тебя слишком сильным, и разум твой, не выдержав испытания…
— Помолчи уж! Ты что, не чувствуешь? Ветер переменился!
Через несколько часов пожар приблизился к нам вплотную. Кажется, мы бежали всю ночь, а может, это усталость застилала мне глаза, и казалось темно. Найтли совсем выбился из сил, и я волокла старика, закинув его руку себе на шею. Все свои силы, не только телесные, но и душевные, я бросила на то, чтобы уйти в бег, и это помогало и сносить напряжение, и отодвинуть в сторону тот бред, которого я наслушалась от Найтли, и не размышлять над коварной усмешкой судьбы — спастись от костра Святого Трибунала, чтобы погибнуть в лесном пожаре!
Огонь почти наступал на пятки. Голова кружилась от запаха дыма. Найтли не в силах был указывать направление, он только выдыхал временами что-то вроде: «Алиена… огонь…» Приходилось следовать за всяческим зверьем, которое лучше нас знало, куда бежать. Так мы и спасались — белки, лисы, зайцы, ежи и мы с Найтли. Но у нас всех были ноги, а у огня не было. Такое уж у него преимущество. И он не уставал. И догонял нас.
Ожог снова обратил меня к действительности. Еще бы! Горящую сухую ветку ветром снесло вперед. Она задела мое платье, которое не замедлило вспыхнуть. Я изо всех сил толкнула Найтли вперед и кинулась на землю, катаясь как бесноватая, чтобы сбить пламя. Спасибо Святому Трибуналу, что обкарнал меня, а то бы волосы тоже занялись. Как-то мне удалось загасить огонь, и, поднимаясь на ноги, сквозь дым и туман, застилающий глаза, я увидела…
…что Найтли, кривясь лицом, балансирует на высоком обрыве, а за его спиной, переливаясь тусклым металлом, медленно несет свои воды пограничная река Эрд, а в почти неразличимой дали светлеет песчаный северный берег.
— Почему ты не прыгаешь? — просипела я.
— Не умею плавать!
— Зато я умею! — заорала я и покатилась с обрыва, увлекая за собой Найтли.
Плавать-то, конечно, я умела — с младенчества полоскалась в бухте у пристани. Но плыть, таща одновременно Найтли и оружие, было довольно затруднительно. Один меч из двух я все же утопила. Да вдобавок нас угораздило выйти — выбежать — из леса там, где Эрд разливается наиболее широко. Так что на противоположный берег я выбралась совсем без сил. Судя по тому, что очнулась я довольно далеко от реки, мы сумели как-то проползти еще некоторое расстояние, но этого я уже не помню.
Когда я открыла глаза, было тепло и светило солнце. И одежда на мне успела подсохнуть. Правда, назвать это рваное и обгоревшее рубище одеждой было затруднительно. Хотя переход через реку возместил экономию воды в тюрьме.
— Да, в таком виде в Эрденон не сунешься, — послышался голос Найтли.
Похоже, он оправился от пережитого быстрее меня. Он сидел, привалившись спиной к стволу березы. Весь лес кругом оказался березняком, потому он и виделся издалека таким светлым. Только наши с Найтли фигуры оскорбляли его чистую прелесть.
— Нам придется позаботиться об еде и одежде. Вполоборота он покосил взглядом в южном направлении, и мне почудилось, он думает о пожаре и разрушениях на том берегу. Но, как выяснилось, совсем о другом.
— Эти дураки верят, — сказал он, — что нечистая сила не может пересечь текучую воду. Ну так пусть верят!
Он снова обернулся и встретился взглядом со мной.
— Да что с тобой?
И взаправду, что со мной? Ничего особенного. Только за последние несколько дней я побывала в тюрьме, бежала от Святого Трибунала, меня пытались изнасиловать и зарубить и я едва не сгорела заживо. Проще некуда. Да, и вдобавок мне сказали, что я была мертва и воскресла и мои душа и тело принадлежат разным людям.
— Зачем? — тускло спросила я.
— Что значит зачем?
— Это значит, что я шагу отсюда не сделаю, пока ты не ответишь на мои вопросы. Зачем ты все это сделал со мной? Я получила образование герцогской дочери впору — но где его применить? У меня множество общих знаний — но каково с ними существовать практически? В монастырь уходить? Не чувствую призвания. Ты подталкивал меня к оружию — но с кем и за что я должна сражаться? Какого черта, Найтли, затеял ты свои игры?
— А тебе недостаточно сознания того, что ты просто живешь на свете?
— Нет.
— Так вот, мне тоже этого недостаточно, Алиена.
Верхняя губа его оттопырилась, обнажая зубы вплоть до десен. Мне померещилось, что я неправильно истолковала смысл этого оскала, и я переспросила:
— Того, что ты существуешь?
— Нет, того, что ты существуешь! Почти сорок лет своей жизни я извел на то, чтобы воссоздать тебя. Я думал обождать, но время поджимает. Я состарился, а ты еще моложе, чем была в последний раз… Ты всегда подавляла меня своей уверенностью в собственном превосходстве, непогрешимостью мнений, сатанинской гордостью своей… Теперь мой черед. Было бы только справедливо воссоздать тебя заново — но из выбранного мною материала, чтобы ты знала, кто твой хозяин… знала свое место!
Вот, выходит, в чем дело. Я медленно поднялась на ноги.
— Значит, мой долг, — служить и повиноваться тебе?
— Воистину так! — Глаза его горели тусклым огнем медленного тления.
— Тогда ты выбрал неправильный подход, Найтли. И неверный тон. Если бы ты сказал: «Неблагодарная девка! Без меня бы ты сейчас таскала кружки в кабаке, как твоя мать, или стала бы шлюхой и понятия бы не имела о более высокой участи… А я дал тебе знания, и ты за это обязана ноги мне мыть и воду эту пить!» — я бы, может, так и сделала. Но раз ты заговорил по-другому, и ответ будет другой.
— Ты осмеливаешься противостоять мне?
— Осмеливаюсь.
Оскал обратился кривой усмешкой.
— Поэт сказал: «Не превзойти творению творца».
— Верно. Но ты — не мой творец.
— Нет. Я — твой творец! И создатель! Я — твой Бог, Алиена! И не хватайся за меч, ты не сможешь причинить мне вреда. Я дал тебе душу Алиены, но в моей воле и отобрать ее. Ты снова станешь Селией, а она уже семнадцать лет как мертва.
— «Человек — это душонка, обремененная трупом», — не вполне кстати процитировала я.
— Вот видишь, — сухо сказал он. — Эти слова могла произнести только Алиена. Селия не читала Эпиктета… Убедившись в моей правоте, согласна ли ты признать во мне господина и служить мне?
У меня рвалось с языка: «Лучше сдохнуть, чем служить такому, как ты», но ответила я нечто совсем иное:
— Ты твердил о моей сатанинской гордыне? И о том, что ты мой Бог, верно? Так вот — non serviam (Не буду служить (лат.).), Найтли.
— Ты сознаешь, к чему это приведет? — спросил он, осклабясь. — Нет, не осознаешь. Почувствуй, что твоя душа в моей власти… и больше я не стану ждать!
Тут мне стало так страшно, как не было ни разу в жизни, — даже в последние дни, полностью заполненные страхом. Все когда-нибудь слышали угрозу «Душу выну». Но что я почувствую, когда из меня на самом деле станут вынимать душу? И почувствую ли я хоть что-то? Будет ли мое лишенное души тело что-либо осознавать? Или на самом деле просто превратится в труп — труп, мертвый уже семнадцать лет?