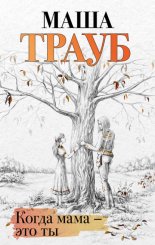Весь невидимый нам свет Дорр Энтони

Антенна
В «Пчелином доме» разместили восемь австрийских зенитчиков во главе с лейтенантом. Пока их повар на кухне греет овсянку с ветчиной, остальные семеро кувалдами крушат межкомнатные перегородки на четвертом этаже. Когда все садятся ужинать, Фолькхаймер ест медленно, то и дело поглядывая на Вернера.
Следующая передача во вторник, в двадцать три ноль-ноль.
Вернер услышал голос, и что он сделал? Солгал. Предал своих. Сколько сейчас людей в опасности из-за его поступка? И все же, вспоминая голос и мелодию, он дрожит от радости.
Половина Северной Франции в огне. Берег пожирает людей — американцев, канадцев, британцев, немцев, русских — по всей Нормандии, тяжелые бомбардировщики превращают в прах города. Однако здесь, в Сен-Мало, все так же колышется на дюнах трава, немецкие моряки проводят учебы в порту, артиллеристы загружают боеприпасы в подземелья под фортом Сите.
Австрияки из «Пчелиного дома» краном поднимают на бастион 88-миллиметровое орудие, устанавливают его на крестовине и накрывают защитным брезентом. Команда Фолькхаймера работает две ночи кряду, и память Вернера шутит с ним шутки.
Мадам Лаба сообщает, что ее дочь ждет ребенка.
Так как же мозг, живущий средь вечной тьмы, выстраивает для нас мир, полный света?
Если у француза тот же передатчик, что когда-то посылал сигнал до самого Цольферайна, антенна должна быть большой. Либо в ней сотни метров проволоки. Так или иначе, она должна быть заметной.
На третью ночь после первой передачи — в четверг — Вернер стоит в шестиугольной ванне под пчелиной царицей. Ставни открыты, за ними — мешанина черепичных крыш. Над укреплениями носятся буревестники; колокольню собора окутывают клочья тумана.
Всякий раз, как Вернер смотрит на Старый город, его изумляют печные трубы. Они огромные, по двадцать-тридцать штук над каждым кварталом. Даже в Берлине нет таких труб.
Ну конечно. Наверняка у француза антенна закреплена на трубе.
Вернер быстро спускается на улицу, идет по рю-де-Форжер, потом по рю-де-Динан. Смотрит на ставни, на водосточные трубы, ищет провода на кирпичной стене, что-нибудь, что выдало бы передатчик. Шея уже заболела. Пора возвращаться — он отсутствовал слишком долго, могут быть неприятности. И так Фолькхаймер явно что-то заподозрил. Однако ровно в двадцать три ноль-ноль меньше чем в квартале от того места, где они поставили «опель», Вернер замечает то, что искал: вдоль трубы скользит антенна. Не толще швабры. Она поднимается метров на двенадцать и, словно по волшебству, раскрывается в букву «Т».
Высокий дом на краю моря. Идеальное место для передатчика. С улицы антенна практически не видна.
Вернер слышит голос Ютты: «Я уверена, он ведет передачу из огромного дома, который больше всего нашего поселка. В доме тысяча окон и тысяча слуг». Дом высокий и узкий, на фасаде одиннадцать окон. Стены в пятнах оранжевого лишайника, замшелые снизу.
Номер четыре по улице Воборель.
Откройте глаза и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки.
Он быстро идет назад в гостиницу — голова опущена, руки в карманах.
Большой Клод
Клод Левитт — пухлый, обрюзгший, так и лоснится от сознания собственной значимости. Фон Румпель слушает парфюмера, а у самого подкашиваются ноги; слишком много сильных запахов в тесной лавке. За последние недели он посетил несколько летних резиденций в поисках картин и статуй, которые либо никогда не существовали, либо ему неинтересны. Все — чтобы оправдать свой приезд в Сен-Мало.
Да, да, говорит парфюмер, глядя на нашивки фон Румпеля, несколько лет назад он помог властям выявить приезжего, который измерял здания. Ничего особенного, просто выполнил свой гражданский долг.
— И где он жил в те месяцы, этот мсье Леблан?
Парфюмер щурится, прикидывая, какую выгоду тут извлечь. Глаза, обведенные черными кругами, трубят одно: «Я хочу! Дай!» Жалкие существа, каждое мучительно к чему-то стремится. Однако здесь фон Румпель — хищник. Ему нужно только терпение. Неутомимость. Убирать препятствия одно за другим.
Он поворачивается, как будто собрался уйти, и с парфюмера мигом слетает вся самоуверенность.
— Подождите-подождите.
Фон Румпель держится рукой за дверь:
— Где жил мсье Леблан?
— У своего дяди. Никчемный человек. С головой не в порядке.
— Где?
— Прямо здесь. — Парфюмер указывает рукой. — Дом номер четыре.
Boulangerie
Лишь через день у Вернера выпадает час, чтобы вернуться к тому дому. Деревянная дверь, перед ней решетка. Синие оконные рамы. Утренний туман такой густой, что крыши не видно. У Вернера в голове крутятся несбыточные фантазии: француз пригласит его в дом. Они выпьют кофе, обсудят старые передачи. Может быть, распутают какую-нибудь важную эмпирическую проблему, мучившую его долгие годы. Может быть, француз покажет Вернеру свой приемник.
Бред. Если позвонить в дверь, старик решит, что его пришли арестовать или убить на месте. Антенна над трубой — вполне достаточная улика.
Вернер может вломиться в дверь, вытащить старика на улицу и заслужить поощрение.
Туман светлеет. В соседнем доме кто-то открывает и снова закрывает дверь. Вернеру вспоминается, как Ютта строчила свои взволнованные письма, писала на конверте: «Проффесору во Францию» — и бросала их в почтовый ящик на площади. Воображала, что француз услышит ее голос, как она слышит его. Один из десяти миллионов.
Всю ночь Вернер мысленно упражнялся во французском: «Avant la guerre. Je vous ai entendu la radio»[41]. Винтовку он оставит за спиной, руки будет держать по бокам. Постарается выглядеть маленьким, совсем не страшным. Старик поначалу испугается, но все удастся объяснить. Однако, пока Вернер стоит в редеющем тумане на улице Воборель и репетирует свои слова, дверь дома номер четыре отворяется и оттуда выходит не седовласый ученый, а девушка. Стройная, хорошенькая девушка с золотисто-каштановыми волосами и веснушчатым лицом, в очках и сером платьице. На плече у нее рюкзак. Она идет влево, прямо на Вернера, и у того екает сердце.
Улица совсем узкая; девушка заметит, что он на нее таращится. Однако она как-то странно держит голову, лицо наклонено в одну сторону. Вернер замечает трость, черные стекла очков и понимает, что она — слепая.
Трость стучит по мостовой. Девушка уже в двадцати шагах. Никто не смотрит из окон; все занавески задернуты. Пятнадцать шагов. Чулки на ней рваные, туфли велики, шерстяное платье чем-то заляпано. Десять шагов, пять. Девушка проходит на расстоянии вытянутой руки; сейчас Вернер видит, что она выше его, хоть и ненамного. Не задумываясь, почти не понимая, что делает, он идет вслед за ней. Трость стучит по водосточной канавке, отыскивая каждую канализационную решетку. Девушка идет грациозно, словно балерина, ноги у нее такие же выразительные, как руки. Она поворачивает направо, потом налево, проходит полквартала и уверенно входит в открытую дверь магазинчика. Над дверью прямоугольная вывеска: «Boulangerie».
Вернер стоит неподвижно. Туман почти разошелся, проглянуло летнее небо. Женщина поливает цветы, старик в габардиновом костюме выгуливает пуделя. На скамейке сидит тощий немецкий фельдфебель с большим зобом и запавшими глазами. Он опускает газету, смотрит на Вернера и тут же заслоняется снова.
Отчего у Вернера дрожат руки? Отчего перехватило дыхание?
Девушка появляется из булочной, аккуратно ступает на мостовую и идет прямо на него. Пудель как раз приладился справить большую нужду, и девушка аккуратно его обходит. Она второй раз приближается к Вернеру, ее губы шевелятся. Она тихонько проговаривает — deux, trois, quatre[42]. Он может сосчитать веснушки на ее лице, чувствует запах хлеба из рюкзака. Миллион капелек тумана блестит на шерстяном платье и на волосах, слнце очерчивает их серебристым ореолом.
Он стоит как вкопанный. Ее длинная белая шея кажется ему удивительно беззащитной.
Девушка не замечает его. Кажется, что для нее вообще нет ничего, кроме свежего туманного утра. Вот, думает он, та чистота, о которой им твердили в Шульпфорте.
Вернер прижимается спиной к стене. Кончик трости ударяет о мостовую в двух сантиметрах от его ботинка. И вот девушка уже прошла: платье легонько колышется, трость движется взад-вперед, а он стоит и смотрит, пока она не пропадает в тумане.
Грот
Немецкие зенитчики сбили американский самолет. Он упал в море у Парамэ, летчик выбрался на берег и попал в плен. Этьен расстроен, а вот мадам Рюэль излучает радость.
— Красивый, как киноартист, — шепчет она, вручая Мари-Лоре батон. — Я уверена, они все такие.
Мари-Лора улыбается. Каждое утро одно и то же: американцы все ближе, немецкая армия трещит по швам. Каждый вечер Мари-Лора читает Этьену вторую часть «Двадцати тысяч лье под водой». Теперь и он, и она не знают, что там дальше. «„Наутилус“ прошел в три с половиною месяца около десяти тысяч лье, — пишет профессор Аронакс. — Куда мы держим путь? Что сулит нам будущее?»
Мари-Лора кладет батон в рюкзак, выходит из булочной и направляется к гроту Юбера Базена. Она закрывает решетку, приподнимает подол и входит в мелкую воду, думая об одном: как бы не раздавить никого из мелких существ на дне.
Идет прилив. Мари-Лора отыскивает морских желудей, шелковисто-мягкого анемона, легонько кладет палец на панцирь песчаной улитки. Та сразу замирает, втягивает в раковину голову и подошву. Потом вновь медленно выпускает рога и ползет дальше, таща на себе закрученную раковину.
Чего ты ищешь, улиточка? Живешь ли ты мгновением или, как профессор Аронакс, тревожишься о будущем?
Улитка начинает взбираться на стену, а Мари-Лора, в насквозь мокрых дядюшкиных домашних туфлях, шлепает к выходу и уже хочет запереть за собой решетку, когда мужской голос произносит:
— Доброе утро, мадемуазель.
Она оступается и чуть не падает. Трость со звоном катится по камням.
— Что в рюкзаке?
Он хорошо говорит по-французски, но сразу понятно, что это немец. Он загородил узкую улочку. С подола капает, в туфлях хлюпает вода, по обе стороны — высокие стены. Мари-Лора по-прежнему держится правой рукой за открытую решетку.
— А там что? Укрытие?
Голос звучит пугающе близко, но в таком узком месте, где эхо отдается от стен, трудно определить расстояние. Ей кажется, что батон в рюкзаке бьется как живой. В нем почти наверняка — туго скрученная полоска. Числа на бумаге — смертный приговор. Дядюшке, мадам Рюэль. Им всем.
— Моя трость, — говорит она.
— Закатилась тебе за спину, милочка.
За спиной у немца — узкий проулок, дальше занавес плюща и город. Там можно закричать, и тебя услышат.
— Вы позволите мне пройти, мсье?
— Конечно.
Однако он не двигается с места. Дверь тихонько скрипит.
— Что вам нужно, мсье?
Голос предательски дрожит; если немец еще раз спросит про рюкзак, у нее разорвется сердце.
— Что ты тут делаешь?
— Нам не разрешают ходить на пляж.
— И ты ходишь сюда?
— Собирать улиток. Мне пора идти, мсье. Позвольте мне взять мою трость.
— Но ты не собирала улиток, девочка.
— Можно мне пройти?
— Сперва ответь на вопрос о твоем отце.
— О папе? — Что-то холодное внутри ее становится еще холоднее. — Папа сейчас придет.
Немец принимается хохотать, и его смех отдается от стен.
— Сейчас, говоришь? Твой папа, который в тюрьме за пятьсот километров отсюда?
Нитки страха прошивают грудь. Надо было слушать тебя, папа. Никогда не выходить из дому.
— Брось, petite cachotire[43], — говорит немец, — нечего так пугаться.
Мари-Лора слышит, что он тянется к ней, чувствует гнилой запах из его рта, и что-то — кончик пальца? — касается ее запястья в тот самый миг, когда она отступает на шаг и с лязгом захлопывает решетку.
Немец падает и как-то очень долго встает; Мари-Лора думала, что он вскочит сразу. Она поворачивает ключ в замке, убирает его в карман и, пятясь в низкое пространство конуры, находит трость. Немец по другую сторону решетки, но его голос преследует Мари-Лору:
— Девочка, из-за тебя я выронил газету. Я всего лишь скромный фельдфебель, и мне надо задать тебе вопрос. Один простой вопрос, и я уйду.
Море рокочет, улитки шебуршат на камнях. Достаточно ли частая решетка, не пролезет ли он между прутьями? Достаточно ли крепки петли? Только бы они выдержали! Она в мощной толще укреплений. Холодная вода прибывает; каждые десять секунд в конуру заплескивает новая волна. Слышно, как немец расхаживает перед входом, припадая на одну ногу: раз — пауза — два; раз — пауза — два. Мари-Лора пытается вообразить псов, которые, по словам Юбера Базена, жили здесь столетия назад. Сторожевых псов размером с лошадь, которые вцеплялись людям в ноги и вырывали куски мяса. Она встает на колени, сжимается и говорит себе: я — Улитка. В крепком панцире. Неуязвимая.
Агорафобия
Тридцать минут. Мари-Лора должна была вернуться через двадцать одну; Этьен засекал много раз. Как-то она пришла через двадцать три минуты. Обычно приходит куда быстрее.
Тридцать одна.
До булочной четыре минуты ходу. Четыре туда, четыре обратно, и где-то по дороге набегает еще тринадцать-четырнадцать. Он знает, что Мари-Лора обычно ходит к морю; когда она возвращается, от нее пахнет водорослями, морским укропом и маленьким курчавым растением, похожим на красный мох. Этьену неизвестно, куда именно ходит его племянница, но он всегда был уверен, что с ней все будет хорошо. Что в любознательности — ее сила. Что она в тысячу раз приспособленней к жизни, чем он сам.
Тридцать две минуты. Из окна пятого этажа никого внизу не видно. Вдруг она заблудилась и теперь ведет пальцами по стене на южном краю города, уходя с каждой секундой все дальше от дому. Или попала под машину, или утонула в луже, или ее сцапал немецкий солдат с нехорошими намерениями. Или кто-нибудь узнал про хлеб, про числа, про передатчик.
Пожар в булочной.
Этьен бегом спускается на первый этаж и выглядывает в окно кухни. Перед домом спит кошка. На восточных стенах — прямоугольники солнечного света.
Это все он виноват.
Этьен задыхается. В тридцать четыре минуты по своим часам он надевает ботинки и отцовскую шляпу. Стоит в прихожей, собирая всю свою решимость. Когда двадцать четыре года назад он последние разы выходил из дому, то пытался смотреть людям в глаза, держаться так, будто все в порядке. Но приступы подкрадывались исподволь, непредсказуемо, как бандиты. Сперва весь воздух наполнялся ужасом. Потом любой свет, даже через опущенные веки, становился невыносимо ярким. Он не мог идти, потому что каждый его шаг отдавался грохотом. Крохотные глазки смотрели из мостовой, в тени у стен ворочались покойники. Когда мадам Манек приводила его домой, он забивался в дальний угол кровати и зажимал уши подушками. Вся энергия уходила на то, чтобы не слышать стук крови в ушах.
Сердце мелко стучит в далекой холодной клетке. Приближается мигрень.
Жуткая, жуткая, жуткая головная боль.
Двадцать сердцебиений. Тридцать пять минут. Он поворачивает защелку, открывает решетку. Выходит на улицу.
Ничего
Мари-Лора пытается вспомнить все, что знает про щеколду и замок на решетке, все, что ощупали ее пальцы, все, что сказал бы ей отец. Железный штырь, продетый в три ржавые скобы, врезной замок с проржавевшим «язычком». Можно ли сбить его выстрелом из пистолета? Немец водит газетой по прутьям решетки и бормочет:
— Приехал в июне, арестовали его только в январе. Что он делал все это время? Зачем измерял здания?
Она съежилась у дальней стены грота, рюкзак прижат к животу. Вода уже до колен, холодная, несмотря на то что сейчас июль. Видит ли ее немец? Мари-Лора аккуратно открывет рюкзак, разламывает батон, не вытаскивая его наружу, мнет мякиш, ища полоску бумаги. Вот. Она считает до трех и сует бумажку в рот.
— Просто скажи мне, — кричит немец, — не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не говорил ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея. Тогда я уйду и никому не расскажу про это место. Клянусь Богом!
Бумага между зубами постепенно истирается в кашицу. У ног Мари-Лоры улитки заняты своей работой: скоблят, жуют, спят. У них во рту, рассказывал Этьен, зубы в восемьдесят рядов, примерно по тридцать в каждом ряду, две с половиной тысячи зубов у каждой улитки, и все скребут, трут, шуршат. Высоко над укреплениями кричат чайки. Клянусь Богом? Как долго эти невыносимые мгновения длятся для Бога? Триллионную долю секунды? Жизнь любого существа — искорка в бездонной черноте. Какие тут могут быть клятвы?
— Меня совсем загоняли, — говорит немец. — Жан Жувене в Сен-Бриё, шесть Моне по соседству, яйцо Фаберже в поместье под Ренном. Я так устал. Неужели ты не понимаешь, как долго я ищу?
Почему папа не остался? Разве не она для него главное? Мари-Лора проглатывает разжеванную бумагу и резко подается вперед:
— Ничего он мне не оставил! — Она сама не ждала, что в голосе будет столько злости. — Ничего! Только дурацкий макет города и пустое обещание! Только мадам, которая умерла, и дядюшку, который боится муравья!
Немец перед решеткой молчит. Наверное, обдумывает ее ответ. И кажется, ее взрыв его убедил.
— А теперь, — кричит она, — уходите, как обещали!
Сорок минут
Туман уже почти рассеялся, солнечный свет заливает мостовую, дома, окна. Весь в холодном поту, Этьен добегает до булочной и протискивается в начало очереди. Возникает лицо мадам Рюэль, белое, как луна.
— Этьен? Но как?..
Перед глазами плывут малиновые пятна.
— Мари-Лора…
— Она не?..
Прежде чем он успевает мотнуть головой, мадам Рюэль поднимает прилавок, хватает Этьена под руку и тащит к выходу. Женщины в очереди шушукаются, то ли возмущенно, то ли заинтригованно. Мадам Рюэль выводит Этьена на улицу Робера Сюркуфа. Циферблат наручных часов как будто вырос. Сорок одна минута? Он словно разучился считать. Мадам Рюэль стискивает его плечо.
— Куда она могла пойти?
Рот пересох, мысли еле ворочаются.
— Иногда… она… на обратном пути… идет к морю.
— Но пляжи закрыты. И укрепления тоже. — Мадам Рюэль смотрит поверх его головы. — Значит, она ходит куда-то еще.
Они стоят посреди улицы. Где-то стучит молоток. Война, думает Этьен отрешенно, это рынок, где человеческая жизнь такой же товар, как любой другой; ее обменивают на шоколад, пули, парашютный шелк. Не ужели за эти числа он отдал жизнь Мари-Лоры?
— Нет, — шепчет он. — Она ходит к морю.
— Если они найдут хлеб, — шепчет в ответ мадам Рюэль, — мы все погибли.
Он вновь глядит на часы, но солнце как будто выжгло сетчатку. В пустой витрине мясной лавки покачивается на бечевке одинокий кусок соленой грудинки. Трое школьников смотрят на Этьена, ожидая, когда тот упадет. И вот, когда утро уже готово разлететься осколками, он внезапно отчетливо видит железную решетку перед старой конурой в городских укреплениях. Место, где они втроем играли в детстве: он, Анри и Юбер Базен. Маленькая сырая пещера, где мальчишки могут поорать в голос, а могут тихонько пофантазировать.
Тощий как спичка, смертельно бледный Этьен Леблан бежит по рю-де-Динан, а за ним едва поспевает мадам Рюэль, жена пекаря; свет еще не видел таких жалких спасателей. Церковный колокол бьет два, три, четыре раза, и так до восьми. Этьен сворачивает на рю-де-Бойе, и ноги сами несут его вдоль чуть наклонной крепостной стены, по дорожке их с братом детства, под нависший занавес плюща, а там, по другую сторону запертой решетки, — дрожащая, мокрая до пояса, но совершенно живая Мари-Лора. Она сжалась в комок у стены, на коленях у нее раскрошенный батон.
— Ты пришел, — говорит она после того, как впустила их внутрь и почувствовала на своих щеках руки Этьена. — Ты пришел…
Девушка
Вернер помимо воли все время думает о ней. Девушка с тростью, девушка в сером платье, девушка, сотканная из тумана. В ее встрепанных волосах, в бесстрашной поступи есть что-то от иного мира. Она поселилась в нем, живой двойник убитой венской девочки, преследующей его каждую ночь.
Кто она? Дочь французского радиста? Внучка? Зачем он подвергает ее такой опасности?
Они колесят по деревушкам вдоль реки Ранс. Вернер не сомневается, что его скоро разоблачат. Он вспоминает безупречно выбритого полковника перед комендатурой, тощего фельдфебеля с газетой. Они уже знают? А Фолькхаймер? И есть ли спасение? Иногда вечерами в сиротском доме они с Юттой мечтали, что лед из каналов поднимется, наползет на поля, скроет шахтерские домишки, раздавит фабричные трубы, так что утром они выглянут в окно и вместо всего привычного увидят лишь белый сверкающий простор. Такое чудо нужно ему теперь.
Первого августа к Фолькхаймеру приходит лейтенант. На позициях не хватает людей, сообщает он. Всех, кто не занят непосредственно в обороне Сен-Мало, отправляют в боевые части. Нужны по меньшей мере два человека.
Фолькхаймер обводит их взглядом. Бернд слишком стар. Вернер — единственный, кто умеет чинить оборудование.
Нойман-первый. Нойман-второй.
Через час оба сидят в кузове армейского грузовика, зажав винтовки между колен. Нойман-второй не похож на себя: будто смотрит не на бывших товарищей, а на свою смерть. Будто он сейчас покатится в черной карете по крутому откосу в бездонную пропасть.
Нойман-первый машет рукой. Лицо равнодушное, но складки в уголках глаз выдают отчаяние.
— В конце концов, — говорит Фолькхаймер, провожая грузовик, — все мы там будем.
В ту ночь Фолькхаймер ведет «опель» по приморскому шоссе на восток, в сторону Канкаля. Бернд с первой станцией усаживается на пригорке, Вернер со второй остается в кузове. Фолькхаймер в кабине; его мощные колени упираются в руль. Далеко в море что-то горит, возможно корабль, и на небе подрагивают созвездия. Вернер знает, что в два часа двенадцать минут француз снова выйдет в эфир, а он выключит станцию или сделает вид, будто слышит только помехи. Прикроет шкалу рукой и постарается не дрогнуть ни одним мускулом.
Домик
Этьен говорит, что не надо было столько на нее взваливать, подвергать ее такой опасности. Что она больше не будет выходить из дому. По правде сказать, Мари-Лора рада. Немец преследует ее в кошмарах; он трехметровый краб-стригун, щелкает клешнями и шепчет в ухо: «Один простой вопрос».
— А как же батоны, дядя?
— За ними буду ходить я. Мне с самого начала надо было так делать.
Утром четвертого и пятого августа Этьен подолгу стоит перед дверью, бормоча себе под нос, потом толкает решетку и выходит. Очень скоро под телефонным столиком на третьем этаже звенит колокольчик: это значит, что Этьен вернулся, задвинул три засова и стоит в прихожей, тяжело дыша, словно чудом избежал тысячи опасностей.
Помимо хлеба, есть почти нечего. Горох. Перловая крупа. Сухое молоко. Последние банки домашних консервов мадам Манек. В голове Мари-Лоры неотступно кружат одни и те же вопросы, и мысли несутся за ними, как гончие. Сперва полицейские два года назад: «Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?» Потом хромой фельдфебель с мертвым голосом: «Не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не рассказывал ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея?»
Папа ушел. Мадам Манек ушла. Мари-Лора помнит, как вздыхали парижские соседи, когда она ослепла: «Словно на этой семье проклятье».
Она пытается забыть страх, голод, вопросы. Надо жить, как улитка, — от мгновения до мгновения, по сантиметрику. Утром шестого августа Мари-Лора сидит с Этьеном на кушетке и читает вслух следующие строки: «И верно ли, что капитан Немо никогда не отлучается с „Наутилуса“? Разве не бывало, что он не показывался целыми неделями? Что он делал в это время? Я воображал, что он страдает припадками мизантропии! А на самом деле не выполнял ли он какую-либо тайную миссию, недоступную моему пониманию?»
Она захлопывает книгу.
— Разве ты не хочешь узнать, спасутся ли они на этот раз? — спрашивает Этьен.
Однако Мари-Лора мысленно повторяет странное письмо отца, последнее, которое они получили.
Помнишь твои дни рождения? Как утром на столе тебя всегда ждали два подарка? Мне жаль, что все так обернулось. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена внутри дома. Я знаю, что ты поступишь правильно, хотя мне хотелось бы подарить тебе что-нибудь получше.
Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?
Можно нам посмотреть то, что он привез с собой?
У него в музее было много ключей.
Дело не в передатчике. Этьен ошибается. Немца интересует не радио, а что-то, о чем Мари-Лора, по его мнению, может знать. И он услышал то, что хотел. Она все-таки ответила на его вопрос.
Только дурацкий макет города.
Вот почему он ушел.
Поищи внутри дома Этьена.
— Что с тобой? — спрашивает дядя.
Внутри дома.
— Мне надо отдохнуть, — говорит она, поднимается по лестнице, прыгая через две ступени, закрывает дверь спальни и запускает руки в макет.
Восемьсот шестьдесят пять зданий. Вот, в углу, высокий узкий дом № 4 по улице Воборель. Пальцы скользят по фасаду, находят дверной проем. Нажатие — и домик выскакивает из макета. Мари-Лора трясет его — ничего. Но ведь так бывало и раньше. Хотя пальцы дрожат, она решает головоломку в считаные секунды. Поворачивает трубу на девяносто градусов, сдвигает дощечки крыши: раз, два, три.
Четвертая дверь, и пятая, и так далее, до тринадцатой запертой двери не больше башмака.
Откуда тогда известно, спросили дети, что он точно там?
Надо верить преданию.
Она переворачивает домик. На ладонь выпадает грушевидный камень.
Числа
Авиация союзников разбомбила железнодорожный вокзал. Немцы взорвали портовые сооружения. Самолеты возникают из облаков и пропадают снова. Этьен слышал, что в Сен-Серван свозят раненых немцев, что американцы захватили Мон-Сен-Мишель в тридцати километрах от Сен-Мало, что освобождения можно ждать со дня на день. Он приходит к булочной, как раз когда мадам Рюэль отпирает дверь. Та сразу проводит его в дом:
— Им нужно знать положение зенитных батарей. Координаты. Справитесь?
Этьен стонет:
— У меня Мари-Лора. Почему не вы, мадам?
— Я ничего не понимаю в картах, Этьен. Минуты, секунды, магнитные склонения, поправки. Вы в этом разбираетесь. Вам нужно только найти батареи, отметить на карте и передать координаты.
— Мне придется ходить с компасом и блокнотом, других способов нет. Меня застрелят.
— Им очень важно знать точную позицию орудий. Подумайте, скольких людей это спасет. И надо все выяснить сегодня же ночью. Говорят, что завтра интернируют мужчин от восемнадцати до шестидесяти лет. У каждого проверят документы и всех, кто по возрасту способен воевать и может быть участником Сопротивления, запрут в Форт-Насионале.
Пол шатается. Этьен в паутине, она опутывает руки и ноги, трещит при каждом движении, как горящая бумага. С каждой секундой кокон все туже. Звенит колокольчик на двери, кто-то входит. Мадам Рюэль, словно рыцарское забрало, опускает на лицо маску равнодушия.
Он кивает.
— Хорошо, — говорит она и сует батон ему под мышку.
Море огня
У него сотни граней. Мари-Лора то и дело берет его и тут же кладет обратно, словно он жжет пальцы. Арест папы, исчезновение Юбера Базена, смерть мадам Манек — неужто один камень может причинить столько несчастий?
Ей слышится скрипучий, пахнущий вином голос старого доктора Жеффара: «Быть может, царицы плясали ночи напролет, украсив им прическу. Быть может, из-за него начинались войны.
Владелец камня будет жить вечно, но, покуда алмаз у него, на всех, кого он любит, будут сыпаться несчастья».
Вещи — просто вещи. Сказки — просто сказки.
Очевидно, именно этот камешек нужен немцу. Надо открыть ставни и выбросить его в окошко. Отдать кому-нибудь, кому угодно. Зашвырнуть в море.
Этьен поднимается на чердак. Слышно, как скрипят над головой половицы, как включается передатчик. Мари-Лора кладет камень в карман, берет макет дома и уже подходит к платяному шкафу, когда ее останавливает одна мысль. Папа считал алмаз настоящим. Иначе зачем бы он соорудил коробочку-головоломку? Зачем оставил камень в Сен-Мало, если не из страха, что его конфискуют по дороге? И значит, именно поэтому не взял Мари-Лору с собой. Получается, что камень хотя бы внешне похож на алмаз стоимостью в двадцать миллионов франков. Во всяком случае, папа поверил, что он настоящий. В таком случае, что будет, если показать его дяде? И заявить, что алмаз нужно выбросить в океан?
Она слышит мальчишеский голос в музее: «Часто ли на твоих глазах выкидывают в море пять Эйфелевых башен?»
Кто добровольно расстанется с таким камнем? И что, если проклятие не выдумка и она передаст его дяде?
Однако проклятия бывают только в сказках. Земля — это магма, континентальная кора и океан. Сила тяготения и время. Ведь так же? Мари-Лора крепко сжимает кулак, возвращается к себе в спальню и убирает камень обратно в макет дома. Задвигает на место три дощечки крыши. Поворачивает трубу на девяносто градусов. Кладет домик в карман.
Прилив в ту ночь особенно высокий; огромные волны бьют в основания крепости, море зеленое, и на нем в лунном свете белеют плавучие островки пены. Мари-Лора просыпается от стука в дверь.
— Я ухожу, — говорит Этьен.
— Который час?
— Скоро рассвет. Я вернусь через сорок пять минут.
— Зачем ты идешь?
— Лучше тебе не знать.
— А как же комендантский час?
— Я мигом.
И это говорит ее дядюшка, который за четыре года их знакомства ничего не делал быстро.
— А что, если начнут бомбить?
— Уже почти светает. Мне надо успеть, пока темно.
— Будут ли бомбить дом, дядюшка? Когда это начнется?
— Дом бомбить не станут.
— А долго это будет?
— Нет, совсем недолго. Спи, Мари-Лора, а когда ты проснешься, я уже буду здесь. Вот увидишь.
— Можно я немного тебе почитаю? Раз уж проснулась. Мы так близко к концу.
— Вот вернусь, и почитаем.
Она пытается успокоить мысли, замедлить дыхание. Не думать про домик под подушкой и страшный груз внутри.