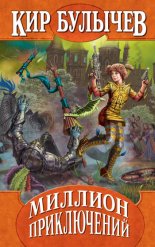Протокол «Сигма» Ладлэм Роберт
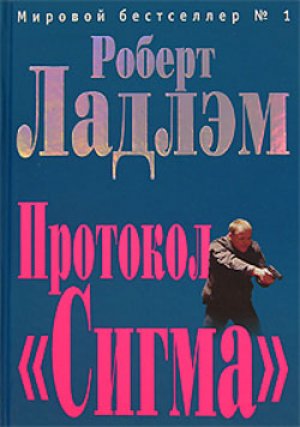
Бен сообразил, что слишком долго стоит около входа. Раз уж он прикидывается охранником, то и действовать должен так, будто его прислали сюда с каким-то поручением. Поэтому он неторопливо, но сохраняя внешнюю уверенность, пошел дальше, глядя то в одну, то в другую сторону, как будто разыскивал кого-то.
На модерновом кресле из хромированной стали и черной кожи сидел старик. К его левой руке была присоединена трубка капельницы. Человек разговаривал по телефону, на коленях у него лежала папка с бумагами. Несомненно, он был пациентом этого заведения, но при этом занимался каким-то своим бизнесом.
В нескольких местах волосы старика казались пушистыми, словно у новорожденного. По бокам головы волосы были более грубыми, более густыми, седыми на концах, но черными или темно-коричневыми ближе к основанию.
А лицо этого человека показалось Бену знакомым. “Совершенно точно, оно часто появлялось на обложках “Форбс” или “Форчун”, — подумал Бен. — Бизнесмен или инвестор, кто-то из знаменитостей”.
Да! Это был Росс Камерон, прославленный “Мудрец из Санта-Фе”. Один из самых богатых людей в мире.
Росс Камерон. Вне всяких сомнений.
Сидевшего неподалеку от него сравнительно молодого мужчину Бен узнал с первого же взгляда. Это, совершенно точно, был Арнольд Карр, сделавший к своим неполным сорока годам миллиарды на программном обеспечении, основатель компании “Технокорп”. Все знали, что Камерон и Карр были друзьями; Камерон также являлся для Карра чем-то вроде наставника или гуру, хотя иногда говорили, что их отношения больше похожи на отношения отца и сына. К руке Карра тоже была присоединена трубочка капельницы, и он тоже вел по телефону какой-то, видимо, деловой, разговор, хотя у него и не было никаких бумаг.
Два легендарных миллиардера сидели бок о бок, словно два провинциальных парня, дожидавшихся своей очереди в парикмахерской.
В “клинике”, находившейся в Австрийских Альпах.
И им вливали какую-то жидкость.
Их здесь изучали? Проводили какое-то лечение? Во всяком случае, здесь происходило нечто странное, нечто тайное, нечто такое, что требовало тщательной охраны, и настолько важное, что ради этого стоило убить множество людей.
Еще один мужчина подошел к Камерону, бросил несколько приветственных слов. Бен узнал председателя Федеральной резервной системы. Ему шел седьмой десяток, и он входил в число самых уважаемых людей в Вашингтоне.
Неподалеку медсестра измеряла кровяное давление — кому же? Это мог быть сэр Эдвард Дауни, но он выглядел точно так же, как в бытность свою премьер-министром Великобритании, а с тех пор минуло три десятка лет.
Бен шел дальше, пока не оказался возле “бегущих дорожек”, где бок о бок бежали мужчина и женщина. Они тяжело, с натугой, дышали, но все же продолжали переговариваться. Оба были одеты в серые спортивные костюмы и легкие белые кроссовки, у обоих ко лбам и затылкам, к шеям, рукам и ногам прилеплены полосами лейкопластыря электроды. Нитевидные провода, отходящие от электродов, словно шлейфы, тянулись за их спинами к симменсовским мониторам, которые, судя по всему, контролировали работу сердца каждого бегуна.
Этих двоих Бен тоже узнал.
Мужчина — доктор Уолтер Рейсингер, йельский профессор, ставший государственным секретарем США. Сейчас Рейсингер выглядел гораздо более здоровым, нежели на экране телевизора или на фотографиях. Его кожа разрумянилась, хотя это могло быть результатом бега, а волосы казались гораздо темнее; видимо, они были окрашены.
Находившаяся на соседнем тренажере женщина, с которой он разговаривал, походила на судью Верховного суда Мириам Бэйтиман. Но судья Бэйтиман, как всем было известно, мучительно страдала от артрита. Когда Верховный суд занимал свои места, чтобы заслушать доклад президента Конгрессу о положении страны, судья Бэйтиман всегда дольше всех добиралась до своего места, с трудом переставляя ноги и тяжело опираясь на трость.
А эта женщина — эта судья Бэйтиман — бежала, словно участница олимпийской сборной на тренировке.
Не могли ли это быть двойники всемирно известных персон? — спросил себя Бен. Двойники?.. Но это никак не объясняло ни капельниц, ни упражнений.
Здесь было что-то другое.
Он расслышал голос двойника доктора Рейсингера, который говорил двойнику судьи Бэйтиман что-то о “решении суда”.
Это был вовсе не двойник. Это могла быть только судья Мириам Бэйтиман собственной персоной.
Но, в таком случае, что же это за место? Какой-нибудь оздоровительный курорт для богатых знаменитостей?
Бен слышал о таких местах, находившихся в Аризоне, или Нью-Мексико, или Калифорнии, иногда в Швейцарии или во Франции. Места, где представители элиты могли укрыться от посторонних глаз, чтобы прийти в себя после пластической операции, излечиться от алкоголизма или наркотической зависимости, сбросить десять-двадцать фунтов лишнего веса.
Но это?
Электроды, капельницы, электрокардиографические мониторы?
Знаменитостей — все, кроме Арнольда Карра, старики — тщательно обследовали, но с какой целью?
Бен оказался перед тренажерами “бегущая лестница”, на одном из которых с поразительной скоростью носился вверх и вниз — точно так же, как это регулярно делал Бен в своем клубе здоровья — какой-то мужчина; на первый взгляд древний старик. Этот старик — Бен не узнал его — тоже был облачен в серый спортивный костюм. Фуфайка на груди потемнела от пота.
Бен знал молодых атлетов, которым еще не было и тридцати лет, и которые не смогли бы выдержать такой темп больше нескольких минут. Каким же образом этот старик, с его морщинистым лицом и покрытой пигментными пятнами кожей на руках, был способен на это?
— Ему девяносто шесть лет, — раздался неподалеку громкой мужской голос. — Замечательно, не правда ли?
Бен посмотрел по сторонам, затем поднял голову. Тот, кто произнес эти слова, стоял на галерее, прямо над головой Бена.
Это был Юрген Ленц.
Глава 46
Внезапно воздух заполнился мягким негромким перезвоном, мелодичным и умиротворяющим. Юрген Ленц, великолепный в своем темно-сером костюме, голубой сорочке и серебряном галстуке под идеально отглаженным белым медицинским халатом, не спеша спустился по металлической лесенке на пол зала и снова окинул взглядом “бегущие дорожки” и “лестницы”. Судья Верховного суда, и отставной госсекретарь, и большинство остальных заканчивали свои упражнения, сходили с тренажеров. Сестры принялись поспешно снимать с тел стариков датчики.
— Это сигнал о том, что скоро отправится вертолет в Вену, — сообщил Ленц, обращаясь к Бену. — Пора возвращаться на Международный форум по вопросам здоровья детей, от работы которого они любезно согласились ненадолго отвлечься. Я думаю, не требуется лишний раз говорить, что все они чрезвычайно занятые люди, несмотря на свой возраст. Даже вернее будет сказать: именно благодаря своему возрасту. Все эти люди способны еще очень много дать миру — вот почему я их выбрал.
Он сделал чуть заметный жест, и сразу же Бена крепко схватили за руки сзади. Два охранника держали его, а третий быстро и умело обыскал и вытащил все три пистолета.
Ленц с видимым нетерпением ждал, пока у незваного гостя отберут оружие. Он держал себя так, словно рассказывал за столом интересную историю, но его прервали официанты, и теперь он ждет не дождется, когда же они закончат раскладывать салат.
— Что вы сделали с Анной? — спросил Бен. Несмотря на пережитые им потрясения, в его голосе слышались стальные нотки.
— Я как раз сам намеревался спросить вас об этом, — ответил Ленц. — Она настаивала на осмотре клиники, и, конечно, я не мог отказать ей в этом. Но каким-то образом мы потеряли ее по пути. Очевидно, она знает какие-то хитрости, позволяющие укрыться от систем безопасности.
Бен рассматривал Ленца, пытаясь понять, насколько можно верить его словам. Могли ли эти слова быть некоей уверткой, которой Ленц почему-то решил скрыть отказ отвести Бена к ней? Или он намеревался поторговаться? Бен почувствовал приступ паники.
Или он лжет? Сочиняя свою историю, он мог догадываться, что я поверю в нее, что я захочу поверить!
Ты убил ее, лживый ублюдок?
И тем не менее Анна могла исчезнуть по собственной воле, чтобы выяснить, что здесь творится.
— Позвольте мне сразу же предупредить вас, — начал Бен, — что если с нею что-нибудь случится...
— Но с нею ничего не случится, Бенджамин. Ничего. — Ленц сунул руки в карманы халата и склонил голову набок. — В конце концов мы же находимся в клинике, которая работает во имя жизни.
— Боюсь, что я уже успел увидеть слишком много для того, чтобы поверить этому.
— А многое ли из увиденного вы поняли? — осведомился Ленц. — Я уверен, что, как только вы сможете по-настоящему разобраться в нашей работе, вы поймете ее важность. — Он сделал охранникам знак отпустить Бена. — Это кульминация дела, которому была посвящена вся моя жизнь.
Бен промолчал. О побеге нечего и думать. И на самом деле ему хотелось остаться здесь.
Ты убил моего брата.
А Анна? Неужели ты и ее убил?
Ему пришлось сделать усилие, чтобы снова начать воспринимать слова Ленца.
— Знаете ли, это была одна из главных навязчивых идей Адольфа Гитлера. Тысячелетний рейх и вся подобная ерунда... Хотя сколько это продолжалось? Двенадцать лет? У него имелась собственная теория, утверждавшая, что арийская кровь загрязнена всякими примесями из-за межрасовых браков. И после того как “высшая раса” окажется очищенной, она станет чрезвычайно долговечной. Чушь, конечно. Но я все же отдам должное старому безумцу. Он очень хотел узнать, как сделать так, чтобы он сам и другие вожди рейха могли прожить подольше, и поэтому предоставил полную свободу действий группе своих лучших ученых. Неограниченные фонды. Право ставить любые эксперименты на заключенных концентрационных лагерей. Все, что угодно.
— Благодаря щедрости и покровительству самого жуткого чудовища двадцатого столетия, — прокомментировал Бен, словно выплевывая слова.
— Да, безумный деспот, не могу с вами не согласиться. И его разговоры о тысячелетнем рейхе были просто смешны: чрезвычайно неуравновешенный человек обещает сверхпродолжительную эпоху стабильности. Но при всем при том то, что он соединял эти два понятия — долговечность человека и стабильность, — было совершенно здравым подходом.
— Я вас не понимаю.
— Мы, человеческие существа, имеем один очень серьезный недостаток. Из всех разновидностей существ, обитающих на планете, нам требуется самый продолжительный период беременности и детства — одним словом, развития. И ведь мы должны думать не только о физическом, но и об интеллектуальном развитии. Два десятилетия уходят на полное физическое созревание, а потом зачастую еще десять лет, а то и больше — на то, чтобы достичь полного профессионального мастерства в своей специализированной области. А те, кто посвящает себя наиболее сложным ремеслам, ну, скажем, хирурги, достигают полной компетентности в своей профессии где-то на четвертом десятилетии работы. Процесс обучения и овладения мастерством затягивается, а что же случается потом, когда человек достигает высшего уровня? Его глаза начинают тускнеть, его пальцы утрачивают точность. Безжалостное время тут же начинает отбирать у него то, на приобретение чего он потратил половину отведенного ему срока жизни. Это очень походит на дурную шутку. Мы подобны Сизифу, который катит свои камни на вершину холма, заранее зная, что не успеет он добраться до цели, как его ноша снова рухнет вниз. Мне говорили, что вы когда-то преподавали в школе. Подумайте о том, насколько большая часть человеческого общества занята всего лишь собственным воспроизведением — передачей потомству своих институций, своих знаний и навыков, костылей и подпорок цивилизации. Все это неимоверная дань, которую мы платим за свое стремление рано или поздно, но обязательно добиться победы. И все же насколько дальше мог бы продвинуться вперед наш вид, если хотя бы его политические и интеллектуальные лидеры оказались в состоянии сосредоточиться именно на продвижении, а не на простом самовоспроизведении! Каких высот мы смогли бы достичь, если хотя бы некоторые из нас были способны придерживаться единожды выбранного курса, дойти до высшей точки своих знаний и умений и не спускаться с нее! Насколько дальше мы смогли бы пройти, если бы самые лучшие и самые яркие из нас смогли закатить камень на вершину, а не прятаться в частном санатории или даже в могиле, успев лишь окинуть гребень беглым взглядом! Он грустно улыбнулся.
— Герхард Ленц, как бы мы к нему ни относились, был блестящим человеком, — заговорил Ленц после короткой паузы. “Но является ли Юрген на самом деле сыном Герхарда?” — мысленно спросил себя Бен. — По большей части его теории оказались ошибочными. Но он был убежден в том, что ответ на вопрос, почему и как люди стареют, кроется в наших клетках. Он пришел к этому заключению задолго до того, как Уотсон и Крик в 1953 году выяснили, что представляет собой ДНК! Действительно, замечательный человек. Он так много всего провидел! Он хорошо понимал, что нацисты потерпят поражение, что Гитлера не станет и фонды усохнут. Он просто хотел удостовериться, что его работа продолжится. Вы знаете, почему это было важно, Бенджамин? Вы позволите мне называть вас по имени?
Но Бен, словно в отупении, водил взглядом по огромной лаборатории и ничего не отвечал.
Он был здесь, но в то же самое время и не здесь.
Он лежал, сплетясь в любовном объятии с Анной, и их тела были теплыми и скользкими от пота. Он смотрел, как, слушая рассказ о Питере, она плакала.
Он сидел в маленькой сельской швейцарской гостинице с Питером; он стоял над окровавленным трупом брата.
— Большие дела требуют больших ресурсов. Гитлер долдонил о стабильности, усиленно занимаясь ее подрывом, и в конце концов вступил в драку с другими тиранами из других частей мира. А вот “Сигма” на самом деле могла внести немалый вклад в умиротворение планеты. Ее основатели знали все, что было необходимо для этого. У них было одно-единственное кредо: рациональность. Замечательные прорывы в технологии, которые мы видели на протяжении истекшего столетия, было необходимо согласовать с прогрессом в управлении нашей расой — человеческой расой. Наука и политика не могли больше пренебрежительно рассматриваться как отдельные доминанты.
Бен мало-помалу заставил себя сосредоточиться.
— Все это не имеет смысла. Технология давно уже стоит на службе безумия. Тоталитаризм базируется на средствах массовой коммуникации. А ученые помогли сделать возможным Холокост, — возразил он.
— Тем больше было оснований для создания “Сигмы” как средства защиты против безумия такого рода. Неужели вы этого не понимаете? Один-единственный сумасшедший вверг Европу в пропасть анархии. На противоположном конце континента горсточка агитаторов превратила империю, созданную Петром Великим, в кипящий котел. Безумие толпы многократно усиливает безумие индивидуума. Это один из важнейших уроков, которые нам дало минувшее столетие. Будущее западной цивилизации слишком серьезное дело для того, чтобы доверять заботы о нем толпе. Война оставила после себя вакуум, вакуум власти. Гражданское общество повсюду оказалось в хаосе. И обязанность восстановления порядка легла на маленькую группу могущественных и хорошо организованных людей. Теневое управление. Рычагами власти следовало манипулировать, хотя сам факт этой манипуляции было необходимо тщательнейшим образом скрывать при помощи официальных механизмов управления. Крайне требовалось просвещенное руководство — руководство за сценой.
— А что же должно было послужить гарантией того, что это руководство будет просвещенным? — хмуро поинтересовался Бен.
— Я уже сказал вам: Герхард Ленц был прозорливым человеком, и такими же были промышленники, с которыми он объединился. Повторю еще раз: все сводится к союзу науки и политики: они должны взаимно исцелять и усиливать друг друга.
Бен помотал головой.
— И еще одна вещь, которую невозможно никак объяснить. Эти бизнесмены были народными героями, во всяком случае, многие из них. Так почему же они согласились на альянс с такими людьми, как Штрассер или Герхард Ленц?
— Да, это была чрезвычайно неординарная группа. Но, возможно, вы забываете о совершенно исключительной роли, которую сыграл ваш родной отец.
— Еврей.
— Можно сказать даже, вдвойне исключительной. Из Третьего рейха были переведены весьма и весьма существенные суммы, и проделать это таким образом, чтобы не вызвать ни у кого тревоги, являлось умопомрачительно сложной задачей. Ваш отец, который был настоящим волшебником в таких финансовых вопросах, принял этот вызов. А то, что он был евреем, оказалось чрезвычайно полезным для укрепления отношений с нашими партнерами в странах антигитлеровской коалиции. Это помогло установить как данность тот факт, что наши заботы не направлены на развитие безумных планов фюрера. Мы занимались бизнесом. И стремились улучшить положение вещей.
Бен окинул его взглядом, исполненным крайнего скепсиса.
— Но вы так и не объяснили, почему Герхард Ленц обладал такой привлекательностью для этих бизнесменов.
— У Ленца имелось нечто такое, что он мог предложить им. Вернее, в данном случае я должен сказать: мог пообещать. До магнатов еще раньше стали доходить слухи, что Ленц добился весьма серьезных и наводящих на размышления научных успехов в области, представлявшей прямой личный интерес для каждого из них. А сам Ленц, основываясь на некоторых предварительных результатах, тогда считал, что победа ближе, чем она была на самом деле. Он был охвачен волнением, а волнение вещь заразная. Но события развивались так, что никто из основателей не дожил до того момента, когда стало возможно извлечь выгоду из его исследований. Но все они заслуживают великого уважения за то, что сделали это возможным. На поддержку исследований незримыми реками текли доллары — миллиарды долларов. На этом фоне Манхэттенский проект с его правительственными отчислениями — все равно что физическая лаборатория в провинциальной школе рядом с Лос-Аламосом. Впрочем, теперь мы затронули вопросы, которые могут оказаться непонятными для вас.
— Я попытаюсь.
— Полагаю, что вы в своем расследовании не преследуете никаких личных интересов, не так ли? — сухо осведомился Ленц. — Как и мисс Наварро.
— Что вы сделали с нею? — снова спросил Бен, поворачиваясь к Ленцу, как будто выйдя из оцепенения. Он уже миновал стадию гнева. Он находился в ином, более спокойном состоянии. Бен думал о том, как он убьет Юргена Ленца, понимая при этом со странным удовлетворением, что на самом деле он желает убить в нем другого человека.
И еще он думал о том, как он найдет Анну. Я буду слушать тебя, ублюдок. Я буду цивилизованным и послушным, и я позволю тебе говорить до тех пор, пока ты не отведешь меня к ней.
И потом я убью тебя.
Ленц посмотрел на него немигающим взглядом и продолжил свои объяснения:
— Я надеюсь, что вы смогли увидеть основные контуры сценария. Говоря очень упрощенно, работа Герхарда Ленца обещала возможность исследовать и изменить пределы смертности. Человек, если ему повезет, живет сто лет. Мышам отведено всего лишь два года. Галапагосские черепахи могут ползать две сотни лет. Во имя всего сущего, почему так? Неужели природа от нечего делать установила эти произвольные границы?
Ленц начал медленно расхаживать перед Беном; охранники стояли все так же неподвижно.
— Несмотря даже на то, что мой отец был вынужден переехать в Южную Америку, он продолжал издали руководить вот этим своим научно-исследовательским институтом. Ездил взад и вперед по нескольку раз в год. В конце пятидесятых один из его ученых совершил знаменательное открытие — оказалось, что при каждом делении человеческой клетки ее хромосомы, эти крошечные ниточки ДНК, становятся короче! Да, совсем незначительно, но тем не менее это сокращение можно измерить. Так что же это такое — то, что делается короче? Чтобы найти ответ, потребовались годы. — Он снова улыбнулся. — Отец был прав. Разгадка действительно крылась в наших клетках.
— Хромосомы, — сказал Бен. Он начал понимать. Отец был прав.
Теперь он догадывался, куда делся Макс.
— На самом деле лишь одна крошечная часть хромосомы. Самый кончик — нечто вроде тех твердых наконечников, которые делаются на шнурках для ботинок. Эти нашлепки были открыты еще в 1938 году; их назвали теломерами. Наша команда выяснила, что каждый раз, когда клетка делится, эти кончики становятся все короче и короче, пока клетка не начинает умирать. Наши волосы выпадают. Наши кости становятся ломкими. Наши позвоночники сгибаются. Наша кожа становится сухой и морщинистой. Мы превращаемся в стариков.
— Я видел, что вы делаете с этими детьми, — прервал его Бен, — с прогериками. Насколько я понимаю, вы экспериментируете на них. — А на ком еще вы экспериментируете? — Весь мир считает, что вы приглашаете их сюда на нечто вроде каникул. Да, своеобразные каникулы. — Нет, упрекнул себя Бен, я должен держаться спокойно. Он внутренне напрягся, чтобы сдержать свой гнев, не дать ему воплотиться в какие-нибудь зримые проявления.
Слушай его. Подталкивай его к дальнейшим разговорам.
— Действительно, у них нет никаких каникул, — согласился Ленц. — Но эти бедные дети вовсе не нуждаются в каникулах. Они нуждаются в уходе! Знаете, эти малолетние старики действительно очаровательны. Они рождаются старыми. Если вы возьмете клетку у новорожденного ребенка-прогерика и поместите ее под микроскопом рядом с клеткой девяностолетнего старика, то, черт возьми, даже квалифицированный молекулярный биолог не сможет найти разницу! У прогериков эти наконечники короткие от самого рождения. Короткие теломеры — короткая жизнь.
— Что вы с ними делаете? — спросил Бен. Он понял, что его челюсть болит оттого, что он все это время изо всех сил стискивал зубы. Перед его внутренним взором плясали дети-прогерики, упакованные в стеклянные банки.
Доктор Рейсингер, судья Мириам Бэйтиман, Арнольд Карр и другие весело выходили из зала, переговариваясь между собой.
— Эти крохотные наконечники для шнурков, они... они наподобие крохотных одометров. Хотя вернее будет сравнить их с таймерами. В теле человека сотня триллионов клеток, а в каждой клетке имеется девяносто две теломеры, так что получается десять квадриллионов маленьких-маленьких часиков, которые говорят телу, когда ему пора выключаться. Мы заранее запрограммированы на смерть! — Ленц, казалось, был не в состоянии сдержать волнение. — А что, если бы мы смогли каким-то образом перепрограммировать эти часы, а? Помешать теломерам укорачиваться! Вот в этом-то и заключалась вся хитрость! Ну, так вот, выяснилось, что некоторые клетки — к примеру, некоторые клетки мозга — производят химические вещества, энзимы, которые сохраняют теломеры и даже восстанавливают их. Все наши клетки обладают способностью делать это, но — по неизвестным причинам — большую часть времени эта способность оказывается выключенной. А что, если нам удастся ее включить? Заставить внутренние часики тикать дольше, чем они это делают сами по себе? Как изящно и как просто. Но я солгал бы вам, если бы сказал, что это было легко сделать. Даже имея доступ к чуть ли не всем деньгам мира и обладая возможностью выбирать из числа крупнейших ученых, для решения проблемы потребовались десятилетия, и множество других научных достижений, таких, например, как соединение генов...
Выходит, вот ради чего совершались все эти убийства, так, что ли?
“Как всегда, судьба не обходится без иронии, — подумал Бен. — Люди умирают ради того, чтобы кто-то другой мог прожить намного больше отведенного ему природой срока...”
Продолжать отвлекать его разговором, заставлять его увлеченно объяснять. Не показывать гнева. Не выпускать цель из виду.
— И когда же вы совершили ваш главный прорыв? — осведомился Бен.
— Лет пятнадцать-двадцать тому назад.
— Но почему же никто так и не догнал вас?
— Конечно, мы не одни работали в этой области. Но у нас имелось преимущество, которым не обладал никто другой.
— Неограниченное финансирование. — “Деньги Макса Хартмана”, — добавил он про себя.
— Конечно, это было весьма полезно. И еще тот факт, что мы почти без остановок работали над этой проблемой, начиная с сороковых годов. Но это еще далеко не все. Главное отличие в том, что мы проводили эксперименты на людях. Все так называемые “цивилизованные страны” давно уже объявили подобные исследования вне закона. Но, ради бога, скажите: много ли можно по-настоящему узнать, работая с крысами или плодовыми мушками? Самых первых наших достижений мы достигли, экспериментируя на детях с прогерией, аномалией, не существующей ни у одного другого вида представителей животного мира. И мы продолжаем использовать прогериков, по мере того как совершенствуем свое понимание молекулярных структур. Наступит время, когда они больше не будут нам нужны. Но пока что нам предстоит узнать еще много того, чего мы не знаем.
— Эксперименты на людях... — повторил Бен, с трудом скрывая отвращение. Между Юргеном Ленцем и Герхардом Ленцем не существовало никакой разницы. Для них люди — больные дети, беженцы, заключенные лагерей — были все равно, что лабораторные крысы. — Таких, как те дети-беженцы из стоящих за забором палаток, — продолжал он. — Наверно, вы привезли их сюда, укрываясь за вывеской “гуманитарной помощи”. Но они для вас тоже всего лишь “расходный материал”, не так ли? — Он вспомнил то, что успел рассказать им Жорж Шардан, перед тем как его голову разнесла бронебойная пуля, и добавил: — Избиение младенцев.
Ленц сразу ощетинился.
— Действительно, именно так называли это некоторые из angeli rebelli, но это чрезмерно эмоциональное определение, — возразил он. — И к тому же оно противоречит рациональному осмыслению проблемы. Да, некоторые вынуждены умереть для того, чтобы другие смогли жить. Несомненно, это неприятная мысль. Но откинем завесу сентиментальности и хотя бы мгновение посмотрим в лицо жестокой правде. Эти несчастные дети все равно были обречены на то, чтобы погибнуть во время войны или умереть от болезней, порожденных нищетой, — и чего же ради? А они, вместо того, чтобы бессмысленно умереть, превращаются в спасителей. Им предстоит послужить делу полной перемены мира. Разве этичнее бомбить их дома, допускать, чтобы их расстреливали из автоматов, позволять им бессмысленно умирать, как это широко практикует “цивилизованный мир”? Может быть, все же стоит дать им шанс вложить свою лепту в изменение хода истории? Видите ли, форма фермента теломеразы, требующаяся для нашей терапии, эффективнее всего добывается из тканей центральной нервной системы человека — из клеток головного мозга и мозжечка. Выработка фермента гораздо успешнее происходит в молодом организме. К сожалению, этот фрагмент невозможно синтезировать: это сложный белок, и структура его молекулы имеет критическое значение. Как и многие другие сложные белки, его не удается воссоздать искусственными средствами. И потому... мы должны получать его из людей.
— Избиение младенцев, — повторил Бен.
Ленц пожал плечами.
— Эти жертвы могут беспокоить вас, но они не вызывают никакого волнения у мира в целом.
— Что вы имеете в виду?
— Не сомневаюсь, что вы знакомы со статистикой — с тем фактом, что ежегодно бесследно исчезает двадцать тысяч детей. Люди знают об этом и пожимают плечами. Они смирились с этим. Возможно, им стало бы полегче, если бы они знали, что эти дети погибли не бессмысленно. А нам потребовались годы и годы на то, чтобы устранить противоречия в теории, отработать методы, определить дозировку. Никакого иного пути просто не существовало. И не появится в обозримом будущем. Мы нуждаемся в тканях. Это должны быть человеческие ткани, и они должны быть добыты у подростков. Мозг семилетнего ребенка — полторы кварты дрожащего желе — почти не уступает по размеру мозгу взрослого, но производит в десять раз больше фермента теломеразы. Согласитесь, что это самый большой, самый ценный природный ресурс на земле. Как говорят у вас в провинции, нельзя, чтобы такое богатство пропадало зря.
— Так значит, это вы “исчезаете” их? Каждый год. Тысячи и тысячи детей.
— Как правило, из разоренных войной областей, где их шансы на выживание в любом случае были бы крайне невысоки. А здесь они по крайней мере умирают не напрасно.
— Да, они умирают не напрасно. Они умирают во имя человеческой суетности. Они умирают ради того, чтобы вы и ваши друзья могли жить вечно, разве не так? — Не смей спорить с этим человеком! — говорил себе Бен, но ему с каждой минутой было все труднее и труднее сдерживать ярость.
Ленц усмехнулся.
— Вечно? Ну, нет, никто из нас не сможет жить вечно. Все, что мы делаем, сводится к торможению процесса старения в одних случаях и направлению его вспять в других. Фермент позволяет в значительной степени ликвидировать возрастные изменения кожи, иных наружных покровов. Полностью устранить повреждения, причиненные сердечными заболеваниями. Пока что эта терапия может лишь в отдельных случаях вернуть пожилого в состояние относительной молодости. И даже для того, чтобы дать человеку моих лет его сорокалетнее тело, требуется очень много вре...
— Эти люди, — перебил его Бен, — они все прибыли сюда, чтобы... чтобы омолодиться?
— Только некоторые. Большинство из них — общественные деятели, которые не могут позволить себе решительное изменение внешности без того, чтобы привлечь к этому всеобщее внимание. Так что они приезжают сюда по моему приглашению, чтобы замедлить ход старения и, возможно, компенсировать часть того ущерба, который неизбежно причиняет возраст.
— Общественные деятели? — насмешливо переспросил Бен. — Они все богатые и влиятельные люди! — Он начинал понимать, чем занимается Ленц.
— Нет, Бенджамин. Это великие люди. Лидеры нашего общества, нашей культуры. Те немногие, кто двигает вперед нашу цивилизацию. Основатели “Сигмы” сумели дойти до понимания этого. Они увидели, что цивилизация — это очень хрупкая вещь и что существует лишь один способ гарантировать требуемую непрерывность поступательного движения. Будущее индустриального общества необходимо защитить, укрыть от штормов. Наше общество способно развиваться только в том случае, если нам удастся отодвинуть порог человеческой смертности. Из года в год “Сигма” использовала для этого все инструменты, которые имела в своем распоряжении, но теперь к изначальной цели можно будет продвигаться при помощи других, более действенных средств. Видит бог, мы говорим о вещах, гораздо более эффективных, чем миллиарды долларов, потраченные на государственные перевороты и организацию групп политических действий. Мы говорим о формировании относительно стабильной долговременной элиты.
— Так значит, это лидеры нашей цивилизации...
— Совершенно верно.
— А вы тот человек, который руководит этими лидерами.
Ленц тонко улыбнулся.
— Прошу вас, прошу вас, Бенджамин. Меня совершенно не интересует актерская карьера и тем более роль босса. Но в любой организации должен иметься, скажем, э-э-э... координатор.
— Причем только один.
Пауза.
— В конечном счете, да.
— А как же обстоит дело с теми, кто выступает против вашего “просвещенного” режима? Я полагаю, что их отстраняют от большой политики.
— Бенджамин, чтобы выжить, организм должен очищаться от токсинов, — с неожиданной мягкостью ответил Ленц.
— То, что вы описываете, Ленц, это вовсе не разновидность утопии. Это скотобойня.
— Ваш упрек очень поспешен и настолько же пуст, — возразил Ленц. — Жизнь, Бенджамин, это процесс, основанный на непрерывном обмене и переоценке приоритетов. Вы живете в мире, где на лечение нарушений эрекции тратится во много раз больше денег, чем на борьбу с тропическими болезнями, которые ежегодно уносят миллионы жизней. И что вы скажете о своих собственных поступках? Когда вы покупаете бутылку шампанского “Дом Периньон”, то тратите сумму, на которую можно было бы провести поголовную вакцинацию населения деревни в Бангладеш, спасти множество жизней от губительных болезней, разве не так? Бенджамин, люди умрут в результате принятого вами решения, вследствие выбранного вами приоритета, выразившегося в совершенной вами покупке. Я говорю абсолютно серьезно: вы можете отрицать, что те девяносто долларов, которые вы заплатили за бутылку “Дом Периньон”, легко могли спасти полдюжины жизней, а возможно, и больше? Подумайте об этом. В бутылке содержится семь или восемь стаканов вина. Каждый стакан мы можем, условно говоря, считать за одну потерянную жизнь. — Глаза Ленца ярко сверкали; он выглядел, как математик, решивший одно уравнение и переходящий к другому. — Именно поэтому я говорю, что такой обмен совершенно неизбежен. И когда вы приходите к пониманию этого, вы начинаете задавать вопросы высшего порядка: вопросы не количественные, а качественные. А мы здесь имеем возможность значительно продлить период полезного функционирования большого филантропа или мыслителя — человека, вклад которого в общественное благо является неоспоримым. И что значит в сравнении с этим благом жизнь сербского пастушонка? Неграмотного ребенка, который в ином случае был бы обречен на жизнь в нищете и мелкое воровство? Девочки-цыганки, которой предстояло провести свои дни, шаря по карманам туристов, посещающих Флоренцию, а по ночам выбирать вшей из волос. Вас учили в школе, что человеческие жизни священны, и все же вы каждый день принимаете решения, из которых следует, что некоторые жизни имеют большую ценность, чем другие. Я скорблю по тем, кто отдал свои жизни за лучшее будущее. Я говорю это совершенно искренне. Мне бы очень хотелось обойтись без тех жертв, которые они принесли. Но я также знаю, что все большие достижения в истории нашей разновидности достигались за счет человеческих жизней. “Нет ни одного документа нашей цивилизации, который не был бы одновременно свидетельством ее варварства” — это сказал один большой мыслитель, мыслитель, который умер слишком молодым.
Бен лишь моргал, не находя слов.
— Пойдемте, — предложил Ленц. — Тут один человек очень хочет с вами поздороваться. Это ваш старый друг.
— Профессор Годвин? — пробормотал Бен, когда к нему вернулся дар речи.
— Бен.
Да, это был его старый наставник из колледжа, давно вышедший в отставку. Но держался он теперь намного прямее, а его прежде изборожденная морщинами кожа стала теперь гладкой и порозовела. Можно было подумать, что ему не восемьдесят два года, а на несколько десятков лет меньше. Джон Варнс Годвин, прославленный исследователь истории Европы ХХ столетия, был полон жизни. Его рукопожатие оказалось твердым и энергичным.
— О Господи! — воскликнул Бен. Если бы он не был знаком с Годвином раньше, он дал бы ему лет сорок пять, никак не больше.
Годвин стал одним из избранных. Конечно: он же являлся теневым создателем королей, он был чрезвычайно влиятельным человеком и имел контакты во всех сферах общества.
Годвин стоял перед ним как ошеломляющее доказательство успехов в работе Ленца. Они находились в примыкавшей к большому залу маленькой комнатке, с удобными диванами и креслами, подушками на полу, торшерами и этажерками с газетами и журналами на разных языках.
Изумленный вид Бена, казалось, доставлял Годвину большое удовольствие. Юрген Ленц прямо-таки сиял.
— Вы, конечно, не знаете, как все это понимать, — предположил Годвин.
Бену потребовалось несколько секунд, прежде чем он сумел ответить.
— Это можно истолковать только однозначно.
— То, чего достиг доктор Ленц, совершенно экстраординарно. Мы все глубоко благодарны ему. Но я думаю, что мы также отдаем справедливую дань его способностям, глубине познаний, научной одаренности. В сущности, мы получили обратно наши жизни. Не нашу юность, как... как другой шанс. Но отсрочку от смерти. — Он глубокомысленно нахмурился. — Можно ли считать, что это противоречит законам природы? Возможно. Но лечить рак, значит, тоже идти против природы. Если помните, Эмерсон сказал, что старость — это “единственная болезнь”.
Его глаза сияли. Бен, ошеломленный, молча слушал.
В колледже Бен всегда обращался к нему “профессор Годвин”, но сейчас он не хотел вообще произносить его имя. Поэтому он сказал лишь одно слово:
— Почему?
— Почему? В личном плане? Неужели вам нужно еще что-то спрашивать? Мне продлили жизнь. Возможно, даже удвоили ее.
— Надеюсь, вы, господа, извините меня? — прервал его Ленц. — Первый вертолет вот-вот улетит, и мне нужно попрощаться. — Он суетливо, чуть ли не бегом, покинул комнату.
— Бен, когда вы доживете до моих лет, вы не будете покупать незрелые бананы, — снова заговорил Годвин. — Вы станете опасаться приступать к работе над новыми книгами из страха, что не успеете их завершить. А теперь подумайте о том, сколько всего я могу теперь сделать. Пока доктор Ленц не предложил мне свою помощь, я испытывал такое чувство, будто все знания, все, чего я добивался тяжким и упорным трудом на протяжении десятилетий, все, что я умел и мог, все, что я понимал, то, чем я стал, — все это в любой момент может кануть в небытие. “Если бы юность умела, если бы старость могла!” — так ведь?
— Даже если все это правда...
— У вас же есть глаза! Вы способны увидеть то, что находится перед вами. Так, ради бога, посмотрите на меня! Вы же помните, что я с превеликим трудом взбирался на лестницу в Файерстоуновской библиотеке, а теперь я могу бегать.
Бен понял, что Годвин был не просто примером успешного завершения эксперимента, нет, он был одним из них — заговорщиков, сплотившихся вокруг Ленца. Неужели он не знал о жестокости, без которой не удалось бы достичь его чудесной перемены, об убийствах?
— Но вы же видели то, что здесь происходит — детей-беженцев во дворе? Тысячи похищенных детей? Это вас не тревожит?
Годвин явно почувствовал неловкость.
— Я признаю, что во всем этом имеются аспекты, о которых я предпочитаю ничего не знать, и всегда ясно давал это понять.
— Мы говорим о непрерывно продолжающемся убийстве тысяч детей! — сказал Бен. — Это требуется для вашего лечения. Ленц говорит: “добывать” — неплохой эвфемизм для резни, которая длится уже много лет.
— Это... — Годвин замялся. — Да, конечно, здесь есть этическая дилемма. Honesta turpitude est pro causa bona.
— Если цель хороша, то и преступление есть добродетель, — перевел Бен. — Публилий Сир. Вы говорили мне эти слова.
Значит, и Годвин тоже. На него можно не рассчитывать — он присоединился к Ленцу.
— Что в данном случае важно, это то, что цель здесь в высшей степени достойна. — Профессор подошел к кожаному дивану. Бен сел на такой же диван напротив.
— Вы и в прежние времена были связаны с “Сигмой”?
— Да, уже несколько десятков лет. И я горжусь тем, что новая стадия с самого начала происходит у меня на глазах. Под руководством Ленца все идет совсем по-другому.
— Насколько я понимаю, не все ваши коллеги были с этим согласны.
— О, да. Ленц называет их angeli rebelli. Мятежные ангелы. Да, была горстка людей, желавших вступить в борьбу. Из тщеславия или по близорукости. Возможно, они никогда не доверяли Ленцу или чувствовали себя ущемленными сменой руководства. Я думаю, что кое-кто из них испытывал растерянность из-за... из-за жертв, которые необходимо было принести. Всегда и везде при перемене власти следует ожидать тех или иных проявлений сопротивления. Но несколько лет назад Ленц сообщил, что решил проблему и его проект скоро будет готов к испытанию на практике. Он объявил всему коллективу, что его должны признать в качестве лидера. Им двигала вовсе не личная заинтересованность, нет. Дело было в том, что предстояло принять некоторые непростые решения по поводу того, кто... э-э-э... кто будет допущен к участию в программе. То есть войдет в постоянную элиту. Слишком велика была опасность появления фракций. Ленц был именно таким лидером, который нам требовался. Большинство из нас согласилось с этим. Но кое-кто — нет.
— Тогда скажите мне: ваш план в конечном счете предполагает, что такое лечение станет доступным массам, то есть каждому? Или только тем, кого Ленц называл “великими”?
— Что ж, вы коснулись серьезной проблемы. Мне была оказана высокая честь, когда Юрген выбрал меня для того, чтобы я стал в некотором роде вербовщиком для этой августейшей группы мировых... полагаю, можно сказать, светил. Wiedergeborenen, как называет нас доктор Ленц — возрожденные. Наши длани простираются далеко за пределы той узкой группы, какую представляла собой “Сигма”. Могу сказать, что я привел сюда Уолтера и моего старого друга Мириам Бэйтиман — судью Мириам Бэйтиман. Я был призван оказывать содействие в выборе тех, кто казался достойным такой участи. Со всего мира — из Китая, России, Европы, Африки — отовсюду без каких-либо предпочтений. За исключением признаков мании величия.
— Но Арнольд Карр не намного старше меня...
— Вообще-то у него самый идеальный возраст для того, чтобы начать это лечение. Если он захочет, то сможет всю свою дальнейшую жизнь — очень долгую жизнь — оставаться сорокадвухлетним. Или же снова стать биологически эквивалентным себе тридцатидвухлетнему. — Историк от восхищения широко раскрыл глаза. — На сегодня нас сорок человек.
— Я понимаю, — прервал его Бен, — но...
— Выслушайте меня, Бен! О господи, еще один член Верховного суда, которого мы выбрали, великий юрист, тоже чернокожий. Он сын издольщика и прошел на своем веку через сегрегацию и десегрегацию. Какую мудрость он накопил за свою жизнь! Разве сможет кто-нибудь заменить его? А живописец, чьи работы уже полностью преобразовывают мир искусства — каким количеством потрясающих холстов он сможет осчастливить человечество? Вы только подумайте, Бен, если величайшие композиторы, каких только знала история, и писатели, и художники — такие, как Шекспир, как Моцарт, как...
Бен всем телом подался вперед.
— Это безумие! — прогремел он. — Богатые и сильные будут жить вдвое дольше, чем бедные и безвластные! Это отвратительный заговор элиты!
— А если и так — что из того? — не задумываясь, откликнулся Годвин. — Платон писал о короле-философе, о правлении мудрецов. Он понимал, что наша цивилизация движется вперед скачками, то продвигается, то отступает. Мы изучаем уроки только для того, чтобы забыть их. Трагедии истории то и дело повторяются — Холокост, а затем разные геноциды, как будто мы забыли обо всем, что с нами было. Мировые войны. Диктатуры. Ложные мессии. Притеснение меньшинств. Создается впечатление, что мы совершенно не эволюционируем. Но теперь, впервые, мы можем полностью изменить все это. Мы можем переделать человеческую расу!
— Каким же образом? Ведь вас так ничтожно мало. — Бен скрестил руки на груди. — Это еще одна проблема из тех, с которыми сталкиваются любые элиты.
Годвин секунду-другую смотрел на Бена, а потом рассмеялся.
— Мы немногие, мы немногочисленные счастливцы, мы, братская общность — да, все это звучит до смешного неадекватно великим задачам, не так ли? Но человечество прогрессирует отнюдь не через какой-то процесс коллективного просвещения. Мы прогрессируем, потому что некий индивидуум или горстка людей где-нибудь добивается крупного достижения, а все остальные от этого выигрывают. Лет триста назад в местности с почти поголовно неграмотным населением один человек выдумывает новый способ математических вычислений — или их было двое? — и путь развития нашего общества изменяется целиком и полностью. Сто лет назад один человек додумывается до теории относительности, и ничто в мире уже не может идти по-старому. Скажите-ка мне, Бен, вам точно известно, как работает двигатель внутреннего сгорания? Вы могли бы собрать его, даже если бы я дал вам все детали? Вы знаете, как проходит вулканизация каучука? Конечно, нет, но все равно вы свободно пользуетесь автомобилем. Вот так все это и происходит. В примитивном мире — я знаю, что мы, как предполагается, больше не используем этот термин, но прошу на сей раз извинить меня — между тем, что знает один из соплеменников и любой из остальных, не существует большой разницы. Но в западном мире все совсем не так. Разделение труда это, собственно, и есть признак цивилизованности — чем выше степень разделения труда, тем более развитым является общество. И самый важный раздел проходит между интеллектуальным и физическим трудом. В Манхэттенском проекте была занята ничтожная горстка людей — и все же ее трудами планета изменена навсегда. В минувшем десятилетии несколько маленьких команд ученых расшифровали человеческий геном. Что из того, что подавляющее большинство людей понятия не имеет о том, какая разница существует между никуилом и ниацином — все равно они успешно пользуются и тем, и другим. Люди во всем мире используют персональные компьютеры — те самые люди, которые даже слыхом не слыхивали о машинных кодах, понятия не имеют даже о самых общих принципах построения интегральной схемы. Знанием и ремеслом владеют немногочисленные счастливцы, и все же выгоды от этого получают бесчисленные множества. Так что, прогресс нашего вида животного мира осуществляется не путем могучих коллективных усилий — евреи, возводящие пирамиды. Это делают индивидуумы, очень малочисленные элиты, догадывающиеся о том, как получить огонь, изобретающие колесо или центральный процессор и переделывающие таким образом самый ландшафт, на котором проходят наши жизни. А то, что верно для науки и техники, не может быть неверным и для политики. С одной лишь разницей — график “учебного процесса” здесь охватывает куда более длительный период. А это означает, что к тому моменту, когда мы полностью осознаем свои ошибки, нас заменяют более молодые выскочки, которые повторяют те же самые ошибки снова и снова. Мы не можем в достаточной степени научиться чему бы то ни было, потому что нам отпущен для этого недостаточный срок. Люди, основавшие “Сигму”, признали это ограничение за внутреннее состояние, присущее человеческому роду, и исходили из того, что наша разновидность будет вынуждена всегда считаться с ним, если, конечно, ей вообще удастся выжить. Вы начинаете понимать суть дела, Бен?
— Продолжайте, — произнес Бен тоном нерешительного студента.
— Действия “Сигмы” — наша попытка взять под контроль политику послевоенной эпохи — были только началом. Теперь мы можем изменить лицо планеты! Гарантировать мир во всем мире, процветание и безопасность благодаря мудрому управлению и организованному рынку ресурсов планеты.
Если это и есть, по вашим словам, заговор элиты, то посудите сами: действительно ли это такая плохая вещь? Если нескольким несчастным военным беженцам придется раньше срока предстать перед Создателем, но ценой этого окажется спасение всего мира — нужно ли считать это очень уж большой трагедией?
— Но ведь все, о чем вы говорите, предназначено лишь для тех, кого вы сочтете достойными, правильно? — уточнил Бен. — А всех остальных вы к этому не допустите. Будут существовать люди двух классов.
— Управляемые и правители. Но это неизбежно, Бен. Будут Мудрецы и управляемые массы. Это единственный способ сформировать жизнеспособное общество. Мир уже перенаселен. Значительная часть жителей Африки даже не имеет чистой питьевой воды. Если все будут жить вдвое или втрое дольше обычного срока, то, сами подумайте, к чему это приведет. Мир погибнет! Именно поэтому Ленц в его мудрости хорошо понимает, что долголетие — привилегия лишь очень немногих.
— А что же будет с демократией? Как это можно увязать с народовластием?
Щеки Годвина вдруг покраснели.
— Избавьте меня от сентиментальной риторики, Бен. История о том, насколько люди бесчеловечны по отношению друг к другу, сама по себе заслуживает описания в сотнях и сотнях томов: толпа всегда разрушала то, что кропотливо создавалось благородством. Основной задачей политики всегда было спасти людей от самих себя. Это далеко не сразу удается понять новичкам, но принцип аристократии был всегда верным: правление лучших. Проблема заключалась в том, что аристократия зачастую не могла предоставить лучших. Но представьте себе, что вы впервые в человеческой истории получили возможность рационализировать эту систему, создать скрытую аристократию, базирующуюся на объективных достоинствах — с Wiedergeborenen, которые несут службу хранителей цивилизации.
Бен поднялся и принялся расхаживать по комнате. Он чувствовал, что у него кружится голова. Годвин, нанизывающий свои легковесные софистические оправдания творившихся преступлений, оказался пойманным на крючок с непреодолимо привлекательной приманкой — чуть ли не бессмертием.
— Бен, вам сколько — тридцать пять или тридцать шесть? Вы воображаете, что будете жить вечно. Я знаю, в вашем возрасте я тоже так думал. — Бен снова опустился на диван. — Но я хочу, чтобы вы представили себе, что вам восемьдесят пять или девяносто, да пошлет вам Бог столь долгую жизнь. У вас семья, у вас дети и внуки. Вы прожили счастливую жизнь, ваша работа получила всеобщее признание, и хотя вы обладаете всеми обычными старческими бедами...
— Я хотел бы умереть, — кратко ответил Бен, не дослушав до конца.
— Совершенно верно. Если вы находитесь в том же состоянии, в каком пребывает большинство людей, достигающих этого возраста. Но вам вовсе не обязательно становиться девяностолетним. Если вы начнете эту терапию сейчас, то вы навсегда останетесь в своей лучшей поре, в середине четвертого десятка. Видит бог, чего бы я только ни отдал за то, чтобы оказаться в вашем возрасте! И прошу вас, не говорите мне, что у вас есть на это какое-то возражение морального порядка.
— Я толком не знаю, что и думать об этом, — сказал Бен, внимательно наблюдая за выражением лица Годвина.
Профессор, казалось, поверил ему.
— Прекрасно. Вы не находитесь в плену предубеждений. Я хочу, чтобы вы присоединились к нам. Вошли в число Wiedergeborenen.
Бен, как бы в задумчивости, уткнулся лицом в ладони с растопыренными пальцами.
— Это, конечно, очень привлекательное предложение. — Его голос звучал приглушенно. — Вы подробно осветили для меня несколько...
— Джон, вы еще здесь? — перебил его громкий и веселый голос Ленца. — Последний вертолет уже скоро отправится!
Годвин стремительно вскочил.
— Я должен успеть на транспорт, — извиняющимся тоном сообщил он. — Мне хотелось бы, чтобы вы подумали о том, что мы с вами только что обсудили.
Вошел Ленц, обнимая за талию сутулого старика.
Якоб Зонненфельд.
— Ну как, хорошо побеседовали? — поинтересовался Ленц.