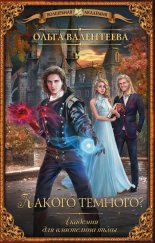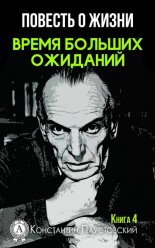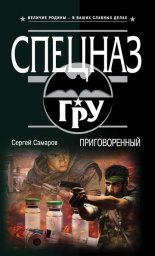Генерал и его семья Кибиров Тимур

Хотелось бы генералу в воспитательных целях заступиться за советскую легкую промышленность и доказать клеветникам России, что наши сапожники умеют не только отливать мокроступы, но и, к примеру… да примеров-то никаких и не нашлось. Действительно ведь бракоделы и халтурщики, как будто безрукие все, да и безглазые и безголовые, в конце концов!
Калоши были куплены, и я спешу ответить на резонный читательский вопрос:
– А куда же подевались чудесные якутские торбаса?
Ответ – мамины, засунутые на антресоли, почикала моль, впрочем, до этого их все равно испортил Степка, попытавшийся их все-таки переделать в мужские и поразить новых одноклассников своим заполярным видом, а Анечкины были проданы соседке по общежитию (родителям было сказано, что украдены) в тот семестр, когда Аня не получила стипендию, а родителям сообщить постыдилась, поэтому денег ей присылали как обычно (вообще-то довольно много), и приходилось не умеющей разумно планировать бюджет командирской дочке выкручиваться и иногда даже подголадывать.
Ползунки, пеленки, пинетки и прочая младенческая амуниция в наличии, как ни странно, имелась, хотя не ахти какого качества; была куплена также ванночка, погремушки, горшок и еще много чего – нужного и не очень. Даже надувной спасательный круг в виде то ли лебедя, то ли гуся. Генерал нацелился уже и на трехколесный велосипед, но тут уж Анечка его остановила и попросила не безумствовать.
– Ну что тогда – всё? Подумай еще хорошенько, может, чего забыли?
– Пап, ну я ж не завтра…
– А когда, кстати?
– Через два… нет, полтора месяца.
– Скоро уже.
– Да.
Генерал и Анечка синхронно вздохнули и подумали: «Ой-ё-ёй!»
– Ну ладно. В случае чего еще раз приедем, делов-то. А теперь – обед. Какой ресторан предпочитаете, ваше высочество?
Ресторанов в Шулешме было целых три: на железнодорожном вокзале, при гостинице «Вуснеж» и «Мечта рыбака», славящаяся своими рыбными блюдами.
– Пап, я ведь обед приготовила, щи твои любимые.
– Что-о? Да когда ж ты успела-то, господи?
– Ой, чего там… Я на бульоне таком из кубиков.
– Ну спасибо! Вот ты удивила-то меня. Спасибо, дочка!
– Да пожалуйста.
– Щи – это здорово, но давай они до завтра подождут, только вкуснее будут. А сегодня давай-ка мы тебя ухой попотчуем, а? Ты ж ее очень любила, помнишь?
– Ну давай. Слушай, а сержант твой? Можно, он тоже с нами, а то неловко?
– Не выдумывай! Неловко. А обедать с генералом ему ловко будет? Дам денег, пусть в столовой пообедает, мороженое себе купит, да что хочет.
Аня вознамерилась было возражать, но представила их втроем за столиком и поняла, что отец прав – ничего кроме неловкости из этого выйти не могло. Да и не нравился ей совсем этот Григоров, уж больно искательный, и ресницы такие белые, как у поросенка.
– Ну, чем угощать будешь? – обратился генерал к своему старому знакомому в лиловом, не очень свежем смокинге с сиреневыми обшлагами и с лицом, выдержанным в той же цветовой гамме. – Видишь, дочку тебе привел, давай уж не подведи.
– Дочь красавица, вся в отца! – угодничал официант.
– Ну ты скажешь! В отца! Да упаси бог! В мать она у меня, в маму покойную.
Лиловый халдей счел должным на мгновение изобразить скорбь, а потом спросил:
– На первое – уху? Знатная ушица, сегодняшнего улова!
– Ну что ж ты врешь-то? Ну какого сегодняшнего? Когда успели?
– Да вот вам крест, товарищ генерал!
– Ну креста на тебя отродясь не было, а уху давай – одну порцию, двойную, в смысле уху двойную – дочке.
– А вам?
– Мне – борщ с этими…
– Пампушками?
– Да-да, с пампушками… Так… Аня, на второе что?
– Вот, – Аня показала пальцем в меню, – свиную отбивную с картошкой жареной. А кислая капуста у вас есть?
– Есть, конечно, замечательная, с клюковкой, объеденье! – Лиловый поглядел на Анин живот, многозначительно улыбнулся и спросил: – А огурчиков солененьких не хотите? Есть еще помидорки и яблочки моченые.
– Ой, да, и яблок моченых, пожалуйста.
– Я вам всего понемногу на тарелочку положу.
– Спасибо.
– А мне – бифштекс с яйцом и… Ты десерт какой будешь?
– Не знаю… Ой, мороженое! Мороженое с вишневым вареньем.
– Значит, два мороженого… Фрукты есть какие-нибудь?
– Яблоки. Только они не очень…
– Хорошо. Пока все.
Официант поглядел на Бочажка с изумлением.
– Может быть, морс фирменный?
– Тьфу ты! – опамятовался генерал. – 150… да нет, 200 грамм «Столичной». А тебе, может, шампанского? Или чего покрепче?
– Пап…
– Ну я даю! Тебе ж нельзя! Ну морсу тогда. А для форсу выпьем морсу! – пошутил, как в детстве, возбужденный и счастливый отец.
– Ну давай, дочка, – подняв рюмку сказал Василий Иванович. – Чтоб все у тебя хорошо было… Или нельзя заранее?
– Можно, папа, что за глупости.
– Чтоб ребеночек был жив-здоров и чтобы радовал тебя, как ты нас с мамой радовала.
Анечка поглядела на отца пристально, но нет, никакого сарказма, генерал и не думал ее подкалывать и, очевидно, говорил от чистого сердца, искренне полагая в этот момент, что учиненные Анечкой безобразия с лихвой покрываются этой самой радостью.
Увидев, как дочка уплетает моченые и действительно очень вкусные яблоки, генерал подозвал официанта и велел, хотя Анечка протестовала, упаковать как-нибудь три кило этих солений, чтобы забрать с собой.
– Ну куда столько, папа?!
– Много не мало. Степку угостишь.
Когда дело дошло до мороженого, Анечка посоветовала отцу добавить в него чуть-чуть коньяку, чтобы было еще вкуснее.
– Ну чуть-чуть, наверное, и тебе можно?
– Ага.
Генерал заказал 150 грамм «Арарата» («Меньше неудобно, дочка, мы же не крохоборы!»), и по неловкости вылил в свою порцию почти все, насмешив себя и дочь, и пытался хлебать эту сладкую жижицу ложечкой, а потом взял и выпил все под хохот благодарной зрительницы.
Этого веселья хватило и на халдея, прямо охреневшего от ни с чем не сообразных чаевых.
На выходе из ресторана разгоряченный генерал внезапно остановился и воскликнул:
– Парадоксель! А про коляску-то мы забыли!
– Коляску?
– Ну да. В чем ребеночка-то возить будешь?
– Да ну…
– Что «да ну!»? Все нужно заранее, чтоб не в последний день… Или, думаешь, еще рассосется? – не подумав, съязвил генерал, но все обошлось. Аня только хмыкнула и сказала:
– Вряд ли.
Коляски они, впрочем, не купили за неимением оных не только в продаже, но и на складе, за что генерал строго отчитал сначала продавщицу, а потом и прибежавшего директора. Но сегодня Аня даже это безропотно стерпела и не стала, в свою очередь, отчитывать отца за начальственное хамство, просто отошла подальше и делала вид, что приценивается к страшным пластмассовым зайцам и котам.
Дорога обратно не была уже такой развеселой. Все как-то притихли, глядели на пересекающий наискосок лучи фар нечаянный снег («Как в Тикси, да?» – «Да, папа») и слушали в тихом исполнении Элисо Версаладзе Фредерика Шопена, который, как обычно, не искал никаких выгод, а домогался единственной корысти – рождать рыданье, но не плакать, и убеждал изо всех своих слабых сил – не умирать, не умирать.
И под эти звуки, и под этот быстрый промельк маховой, под этот сумрак, незаметно перешедший во мрак, Анечка заснула, привалившись к куче покупок, да и генералова папаха клонилась к ветровому стеклу, потом резко подскакивала и опять медленными кивками склонялась все ниже и ниже.
Дома пили чай с шоколадными конфетами «А ну-ка отними» и «Белочка», купленными в городе, но уже побелевшими от старости. Степка трескал ресторанные яблоки. Разошедшийся Василий Иванович вытащил дорогой подарочный коньяк и провозгласил тост за своих замечательных детей, и сказал, что гордится ими и желает им счастья, и чокнулся с чашками этих хихикающих над подгулявшим папой детишек, и потом сказал:
– Давайте маму помянем. Не чокаясь.
После, когда Степку уже погнали спать, Василий Иванович убеждал Аню не мыть посуду:
– Ты устала, дочка, давай я!
– Пап, ну что, ей-богу? Тут полторы чашки.
– Ну давай я вытирать буду.
– Да зачем их вытирать, сушилка же есть. Иди уже. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Анечка, – сказал генерал и поцеловал ее в челку, пахнущую чем-то совершенно невероятным и неземным. Венгерским шампунем на самом деле.
Глава девятая
Я зачитался, я читал давно…
Р. М. Рильке в переводе Б. Пастернака
Вот бы и угомониться на этом генералу, закрепиться бы на занятых позициях и развивать потихонечку достигнутый успех – глядишь, и наладилась бы нормальная жизнь в этой чудной, хотя, с другой стороны, и типической семье.
Но нет! Никак не мог и, главное, не хотел Василий Иванович смириться со своим неведением, жизненно необходимо ему было и до смерти хотелось все разведать и вывести на чистую воду.
Кто таков этот коварный искуситель и будущий папаша генеральского внука (ну или внучки)?
Чьи же гены, в конце концов, будут течь в жилах (Василий Иванович именно так формулировал мучивший его вопрос) этого ребеночка?
Что вообще такое у них там произошло? Может, глупость какая-нибудь девчоночья и все еще можно поправить? В смысле – мирком да за свадебку?
В конце концов, и в Москву слетать недолго, посмотреть в глаза и поговорить по-свойски. Да запросто! Знать бы только фамилию да имя. Ну и отчество хорошо бы, а там уж через адресный стол… Василий Иванович представлял себе какого-нибудь стилягу, хотя их к тому времени уже и след простыл, наглого такого московского прощелыгу, но не окончательно потерянного, в душе хорошего, с добрыми задатками, которые генерал выявит и разовьет, но сначала, конечно, врежет от души по бесстыжей ухмыляющейся роже.
Мужик, по наблюдению поэта Некрасова, что бык; вот и эту блажь, втемяшившуюся в башку нашего героя, невозможно было выбить никаким колом и унять никакими разумными доводами.
Она стала настоящим наваждением, мономанией какой-то, неподвижная идея зудела и свербела в генеральском мозгу, как стекловата, сунутая хулиганами за шиворот.
Один раз он набрался духу и завел-таки с дочерью этот разговор, но был мягко остановлен вопросом:
– Опять? Ну вот зачем тебе это? Что изменится?
Ничего не ответил Василий Иванович. Но желаний своих неистовых не укротил.
Он и к Машке подкатывал с этими расспросами, и даже Степку подбивал выпытать у старшей сестры ее жгучую тайну.
И когда в воскресенье сразу после обеда Анечка, отправляясь на прогулку, сказала, что потом пойдет с Машкой в кино на вечерний сеанс, так что придет попозже, и спросила: «А ты-то не пойдешь? Комедия чехословацкая „Призрак замка Моррисвиль“, говорят, смешная. Это вроде бы тот же режиссер, что „Лимонадного Джо“ снял» (тут Анечка ошиблась, хотя действительно немного похоже), генерал сказал, что ему что-то неохота, и, как только Анечка ушла, направился, крадучись (хотя был в квартире один), в дочкину комнату, влекомый, как котенок запахом валерианы, описанными выше похотями…
Ох-ох-ох, Василий Иваныч!
– А что такого? – подбадривал себя генерал, но сам прекрасно понимал, что именно такого в желании без спроса пошарить в чужой комнате и посмотреть, не найдется ли каких подсказок или, как сказал бы знаменитый «мент в законе», зацепок на книжных полках или в ящиках письменного стола.
Одобрить такое поведение отца и командира мы никак не можем и ни в коем случае не собираемся его оправдывать, но просим все-таки учесть смягчающие вину обстоятельства и состояние временной невменяемости или хотя бы аффекта.
За стеклами книжных полок генерал ничего нового и подозрительного не заметил, только не очень умело вырезанную из дерева фигурку какого-то зверька, вроде бы белки, почему-то с накрашенными красным карандашом губами и подведенными шариковой ручкой глазами.
На столе лежала в мягкой обложке нерусская книга. «Пале фире» – прочел генерал, открыл, увидел на полях сделанные Аниной рукой мелкие карандашные переводы слов и выражений, покачал головой и положил на место. Тут же лежала странная, вытянутая по горизонтали, как альбом для рисованья, толстая книжка в зеленом переплете без названия. Раскрыв ее, Бочажок прочел на первой ксерокопированной странице заглавие «Записки об Анне Ахматовой». Ну конечно, как же без нее!
Два нижних ящика были пусты, а верхний закрыт на ключ, но и это не остановило седовласого следопыта, никакого ключа ему не потребовалось – просунув руку под дно тайника, Василий Иванович, приподняв и перекосив ящик, легко преодолел это препятствие.
Письма! Целых два! И фотографии!
Фотки были бледные и мутные, но дочь свою Василий Иванович тут же узнал, а рядом с ней, иногда обнимая ее за голые плечи (картинки в основном были, кажется, пляжные), вырисовывался какой-то длинный, лохматый-бородатый и в очках.
Вот ты, значит, каков, сукин сын! Ну и что же ты в нем нашла, глупая ты девочка?
На конверте значился их адрес, Василий Иванович вспомнил, как позапрошлым летом удивлялся, доставая из почтового ящика чуть ли не каждый день письма, и как подтрунивал над Анечкой, а Травиата волновалась и пыталась еще тогда что-нибудь выведать.
Вместо обратного адреса стояло только К.К.
– Именно что КаКа! Ку-клукс-клан какой-то! – проворчал Бочажок и…
Как ни прискорбно мне признавать это, но никаких заминок и колебаний я не заметил: генерал жадно выхватил чужое письмо и тут же с первой строки задохнулся от возмущения.
«Здравствуй, бурундучок!»
– Сам ты бурундучок, козел поганый! – воскликнул про себя гневный перлюстратор, не замечая зоологической противоречивости своей реплики.
«Получил твое второе письмо, оно чудесное, и вот тебе ответ:
- Те слова, что являлись блаженством для уха, – мученье для глаз.
- Теплый шепот постельный, и сладостный стон твой,
- детсадовский смех твой
- Почта не принимает, бумага не терпит. И точность отточенных ляс
- Безуспешна, ведь сколь ни глазей на Медину и Мекку
- На открытках цветных, но хаджою не станешь. И больше скажу –
- Не от голода страждет Тантал – от обилия яств. Твои письма
- Перечитывать черт меня дергает снова и снова. Хотя побожусь,
- Что приносит их ангел-хранитель. И все-таки смесь мазохизма
- С онанизмом есть в этом. Ничтожество службы своей
- Понимаю теперь, и красот, мною писанных, трудно
- и тщательно, тщетность.
- Как беспомощны буквы, и кто в этом мире слабей
- И бедней, чем слуга их покорный. Подай же мне голос на бедность!
- Между строк ничего не прочесть мне.
- А помнишь, сколь много меж фраз
- Умещали с тобой мы? Катулл бы считать отказался!
- К информации этой изустной с тобой приучили мы нас,
- И дыханьем естественным способ рот в рот нам казался!
- Впрочем, речь ведь совсем о другом – о вибрации голосовых
- Твоих связок, и не говоря уже об ощущеньях других – визуальных,
- Например, не касаясь ни кожных, ни волосяных
- Твоих нежных покровов и не углубляясь в твой сакраментальный
- Мрак трепещущий, в паз, предназначенный соединять
- Раздвоение наше, и не говоря уж о том, в стороне оставляя
- Отдаленной, читаю я письма. Ищу, на кого бы пенять
- И кому бы. И, как Филомела июнь, жду ответа.
- Пиши, не ленись, дорогая!
А в остальном все по-прежнему. В Москве жара и скука. Накупайся там за меня. Целую. К.К.»
Глаза, полезшие на лоб, и челюсть, отвисшая, как у сломанного Щелкунчика, – таким увидел генерала голубь, севший на заоконный… Как это называется? Ну не подоконник же? Птица, помнившая баснословную Степкину щедрость, потолклась на этой самой жестяной фигне, привлекла двух других сизокрылых прожор и, разочарованно поворковав, улетела вместе с товарищами промышлять у солдатской столовой.
– Что за херомантия, в конце-то концов?! – наконец сформулировал Василий Иванович.
– Ну что уж сразу херомантия? Стихотворени смешное, конечно, но…
– Да плевать мне на ваши стихотворения проклятые!.. Парадоксель!.. Стихотворения! Мне бы только узнать, кто он, этот гаденыш!
– Да ничего вы тут не узнаете! Ну вот разве что Бродскому автор, кажется, подражает, и не очень ловко!
– А вот мы посмотрим!.. Бродскому… Уродскому! Такой же небось тунеядец!
– Ну вряд ли такой же! Бродский все-таки великий поэт. В свое время Нобелевскую премию получит, между прочим!
– Ой, да знаем мы ваши премии!
И генерал стал еще раз внимательно перечитывать стихотворное послание.
– Какая Мекка? Мусульманин, что ли?
– Ну вы как маленький, Василий Иванович. Ну это метафора такая, неуклюжая довольно…
– Онанизм тоже метафора?
– Ну да, конечно.
– Ну, поздравляю с такими метафорами! Молодцы!
И генерал обратился ко второму письму.
«Привет, Анечка!
Прости, что долго не отвечал: хотел закончить стишок, чтоб послать тебе.
Он вышел какой-то очень странный – длинный и, кажется, невнятный, но… А вот сформулировать, что это за „но“, я не могу. Скажу только – с таким упоением и опьянением я со школьных лет ничего не сочинял.
Напиши, пожалуйста, честно, „пустого сердца не жалей“, как тебе это.
Петров обещал в Питере показать „Лиценцию“ одному человеку, который может переправить ее куда следует. Двусмысленно звучит, да? Но Петров клялся-божился, что человек надежный.
Хотя большая часть этих стихов мне уже совсем не нравится, но – еже писах писах. Да и смешно всерьез говорить о книге, число читателей которой равняется восьми человекам.
Ну, вот это стихотворение, я назвал его “Зачин”, потому что, кажется, действительно начинается что-то новое. Хорошо бы.
- Край ты мой единственный, край зернобобовый,
- мой ты садик-самосад, мой ты отчий край!
- Я ж твоя кровиночка, колосочек тоненький,
- Ты прости меня, прощай
- да помнить обещай!
- Ты прости меня, прощай, край древесностружечный,
- край металлорежущий, хозрасчетный мой,
- ой, горюче-смазочный, ой, механосборочный,
- ой ты, ой, лесостепной,
- да мой ты дорогой!
- Ой ты, ой, суди меня, народно-хозяйственный,
- социально-бытовой и камвольный наш!
- Дремлют травы росные, да идут хлопцы с косами,
- Уралмаш да Атоммаш,
- да шарашмонтаж!
- Литмонтаж, писчебумаж, да видимо-невидимо,
- да не проехать – не пройти, да слыхом не слыхать!
- Ах, плодово-ягодный, ах, товарно-денежный,
- ах, боксит, суперфосфат,
- да полно горевать!
– Господи Боже! Это ж белая горячка! Самая настоящая! – ужаснулся злосчастный читатель.
- Да полно горе горевать, мать варяго-росская!
- Тьфу, жидо-масонские шнобели-крючки!
- Что ж вы, субподрядчики, сменщики, поставщики?
- Что же вы, поставщики,
- дурни-дураки?
- Эх вы, дурни-дураки, военно-спортивные,
- грозные, бесхозные, днем с огнем искать!
- Где же ваши женушки, да где же ваше солнышко?
- Хва, ребята, вашу мать,
- да горе горевать!
- Да полно горе горевать, золотые планочки,
- об рюмашечку стакашек – чок да перечок!
- Спят курганы темные, жгут костры высокие,
- придет серенький волчок
- да схватит за бочок!
- Придет черный воронок, ой, правозащитные!
- Набегут, навалятся, ой, прости, прощай,
- ой, лечебно-трудовой, жди-пожди, посасывай!
- Бедненький мой, баю-бай,
- спи, не умирай!
- Прийдет серенький волчок, баю-баю-баиньки,
- и дорожно-транспортный простучит вагон.
- Заинька мой, заинька, маленький мой, маленький,
- вот те сон да угомон,
- штопаный гандон.
- Заинька мой, попляши, серенький мой, серенький!
- Избы бедные твои, пшик да змеевик.
- Край мой, край, окраина, краешек, краюшечка.
- Совесть бедная моя,
- заветная моя.
- Совесть, совесть, никуда не уйти мне, матушка.
- Тут я, туточки стою, агитпроп мне в лоб.
- „Здравствуй, здравствуй“, – я пою, а во поле чисто,
- чисто во поле, дружок.
- Зайка скок-поскок».
– Да-а, – протянул немного успокоившийся, но все еще изумленный генерал. – Типичный бред сивой кобылы. Как же Анечка-то не видит?
– Так, может, это вы не видите? Дочь-то в поэзии побольше вашего понимает!
– Да чего тут понимать-то?! Херомантия сплошная!
– Не балуете вы нас разнообразием суждений, товарищ генерал, не балуете.
– Пусть тя черти на том свете балуют со всеми твоими этими метафорами и херафорами!
Никогда, никогда Василий Иваныч по-настоящему не любил и не понимал поэзию. Начиная с детского разочарования в «Евгении Онегине» (об этом мы расскажем подробно в свое время) он стал ощущать, что без руководящей роли настоящей музыки эти хитросплетения словес чересчур уж двусмысленны (а то и трех-, и четырех-, и n-смысленны) и за редким исключением (Лермонтов, например) не вызывают того невинного и головокружительного парения духа, которое дарили смычковые, медные и даже ударные и которое, по убеждению Бочажка, было смыслом и целью всякого искусства и культуры в целом.
Да даже и оперные либретто! Ну взять ту же «Кармен», о которой уже шла у нас речь. Музыка же просто великолепная, а герои?! Дезертир, ставший уголовником, а под конец и убийцей, и, не побоюсь этого слова, блядь!
А сцена, где этот сброд издевается над офицером?!
«Ах, капитан, мой капитан!»
И пусть не брешут про то, что это, мол, социальный протест такой! Ага! Прям революционерка у нас Кармен! Клара Цеткин и Роза Люксембург! Просто на передок слаба ваша свободолюбивая цыганка, и все!
Как же генерал радовался щедринской «Кармен-сюите» – вся музыка осталась, может, даже и выразительнее еще, а вот бесстыдства этого как не бывало!
Кстати, и «Лакме» с точки зрения верности воинскому долгу тоже подгуляла!
Да что там легкомысленные французы – вот «Иван Сусанин», казалось бы, уж тут все в порядке, герои как на подбор, тема патриотическая, но и здесь либреттист умудрился напортачить: Ваня, чтобы предупредить Минина, торопится так, что верный конь в поле пал, добегает пешком до цели и что? – достучаться не может! Как вам это нравится, а? А где же часовые? То есть дрыхнет, получается, караул! Хорошенькое ополчение! Василий Иванович знал, конечно, что первоначально опера Глинки называлась «Жизнь за царя» (вынужден был композитор замаскироваться от жандармов Николая Палкина!), но не мог себе вообразить, насколько Сергей Городецкий, преодолевший и символизм, и акмеизм, и вообще всякие приличия, покуражился над текстом барона Розена.
И очень досадно было генералу, что князь Игорь не наказал как следует мерзкого князя Владимира и других гадов, воспользовавшихся его отсутствием, – во всяком случае, в опере об этом не спели ни слова.
В общем, никакого особого пиетета перед писателями и тем более поэтами у Василия Ивановича не было, и то, что Анечкин избранник оказался стихоплетом, только усугубляло его вину.
На дне ящика лежал обыкновенный канцелярский скоросшиватель; раскрыв его, генерал на первом листе папиросной бумаги увидел от руки написанные иностранные слова «Licentia poetica», а под ними наискосок надпись: «Анечке с любовью и благодарностью. Кирилл».
– Так! Имя есть. Ну давай, Кирюха, посмотрим, чего ты там еще нахерачил…
- Из пустого в порожнее льется
- Эта музыка. Хочется жить
- Несмотря ни на что. Остается
- Улыбнуться, прищурясь на солнце…
– Ну медаль тебе за самокритику! Так и есть – из пустого в порожнее! – поиронизировал генерал и, лизнув палец, перевернул тоненькую страницу.
- Неплохо жить, по «Правде» говоря.
- Беги трусцой, чтоб с жиру не сбеситься.
- На пять процентов чаще веселится
- Народ сегодня, чем позавчера.
- Ждать нечего. И нечего терять.
- Скаи солдату: «Дембель не случится!»
- Он перестанет службой тяготиться
- И крикнет троекратное «ура!».
- И вот опять транслируют парад,
- Благодарят за радостное детство,
- Ведь нет войны, а прочее мура.
- Ждать нечего. И никуда не деться.
- И жить неплохо, если приглядеться.
- И все-таки – пора, мой друг, пора.
– Чего тебе пора, чего пора, гаденыш? Пора вот с такими, как ты, разобраться уже, в конце концов!
– Это цитата из Пушкина.
– И что?!
– Да ничего. Орать не надо.
- Мы не увидели небо в алмазах –
- Небо в рубинах увидели мы!
- Девушек наших, подруг ясноглазых,
- в противогазах увидели мы.
- На коммунальных своих керогазах
- студень говяжий готовили мы.
- И не увидели небо в алмазах.
- На автобазах и овощебазах
- дивный узор Хохломы-Колымы.
- Сколько, о сколько же МАЗов и КРАЗов
- мерзлой землею наполнили мы!
- Сколько в казарме ночной унитазов,
- Кафеля сколько отдраили мы.
- И не увидели неба в алмазах.
- В клеточку небо увидели мы!
- Грудью прикрыли от вражьего сглаза
- Стройки, помойки и фабрики мы.
- Ели буржуи вдали ананасы,
- рябчиков жрали – не дрогнули мы!
- Стойко стояли за мясом и квасом.
- Так вот ни разу не дрогнули мы!
- И не увидели неба в алмазах…
- Так вот, о Господи Боже, ни разу
- не отреклись от тюрьмы да сумы!
- Лишь по внеклассному чтенью рассказы
- о делегатах родной Чухломы,
- лишь диамата точеные лясы,
- тихо кемаря, прослушали мы…
- Видели – орден Победы в алмазах,
- неба в алмазах не видели мы.
Генерал вспомнил, как Ленька распекал нерадивого дневального: «Я те, блядь, покажу небо в алмазах!»
Других ассоциаций эта фраза не вызвала, и текст остался для Василия Ивановича не очень вразумительным. Ясно было одно: автор измывается над нашей жизнью и исторической памятью. Вот от кого Анечка нахваталась всех этих гадостей! Генерал в эти минуты даже про Ахматову позабыл.
Следующий стишок его немного успокоил. В нем хотя бы ничего безумного не было и в общем все было понятно и вроде бы правильно.
- Гордо реют сталинские соколы
- В голубом дейнековском просторе.
- Седенький профессор зоологии
- Воодушевил аудиторию.
- Отдыхом с культурой развлекаются
- В белых кителях политработники,
- И на лодках весельных катаются
- С ними загорелые курортницы.
- Пляшут первоклассницы, суворовцы,
- Льется песня, мчатся кони с танками.
- Сквозь условья Севера суровые
- В Кремль радиограмму шлет полярник.
- Комполка показывает сыну
- Именное славное оружие.
- Конного вождя из красной глины
- Вылепил каракалпакский труженик.
- И в рубахе вышитой украинской
- Секретарь райкома едет по полю,
- И с краснознаменной песней-пляскою
- Моряки идут по Севастополю.
- Свет струит конспект первоисточника,
- Пламенный мотор поет все выше,
- Машет нам рукою непорочною
- Комсомолка с парашютной вышки.
– Ну это вроде и ничего. Только рифмы какие-то – «соколы – зоологии»! Ни в склад, ни в лад, поцелуй кобылу в зад.
– А кобыла без хвоста – твоя родная сестра! Ох, Василий Иванович! Ну что вы умничаете? Вы ведь в этом ни уха ни рыла! Это ж специально.
– Чо специально? Специально плохо написано?
– Ну, если хотите, да.
– И за каким хреном?
– Ну чтобы… Ой, Василий Иваныч, долго объяснять.
– Торопишься?
– Да я-то нет, а вот вам бы посоветовал поспешить и закругляться уже с этим обыском. Не ровен час, дочь вернется. Вот с ней о рифмах и поговорите.
– Чо это она вернется? До сеанса полтора часа почти.
– Ну глядите!
Генерал поглядел на часы еще раз и решил все-таки поторопиться и не читать все подряд. Отлистнув страниц десять, он с сардонической усмешкой читал:
- Рожденные в смирительной рубашке,
- И бесноваты, и смиренны мы.
- Как брошенные избы, полны тьмы,
- Зияют наши души нараспашку.
- И стойки мы, как куклы-неваляшки –
- Основы тяжки, и пусты умы.
- Наследье Колымы и Хохломы
- Заметно в наших ухарских замашках…
Не дочитав, генерал перескочил еще несколько страниц.
- Закрывай поддувало, рассказчик!
- Нам никто и ничто не указчик –
- Лишь висящий на вахте образчик
- Заполненья пустого листа!
- Пункт за пунктом диктуют уста,
- Вправо-влево каретка шагает.
- Это к сведенью жизнь принимают
- И приветствуют звоном щита
- И меча на петличках блестящих!
- Долог век наш, но дольше наш ящик,
- Исходящих, входящих, пропащих,
- Завалящих, вопящих тщета!
- Суть да дело по форме ведутся,
- Канцелярские кнопки куются,
- Восклицательный знак резолюций
- Вырубает дремучий сыр-бор!
- Вот он, оперативный простор
- Для веденья отчетности полной!
- Лишь рисунки и буквы в уборной
- С циркуляром пускаются в спор!
- Это Демон мятежный поллюций,
- Это бес жизнестойкости куцей
- В темноте подноготной пасутся,
- На учет не встают до сих пор!
- Это жизнь забивается в щели,
- В швы рубах у служивых на теле,
- Мандавошкой кусает в постели,
- Невзирая на званье и чин!
- Это дух от монгольских овчин,
- От варяго-российских портянок,
- От сивушных поминок-гулянок,
- От храпящих в казарме мужчин!
- Это прет самогонная смелость,
- Аморалкою кровь закипела!
- Заводи персональное дело!..
- Но для этого нету причин.
- Ведь при взгляде на бланк образцовый
- Пропадает эрекция снова,
- Ибо мягкая плоть не готова
- Смерть попрать, а души не видать,
- Ибо служба нам родная мать
- И казна нас одела-обула,
- Разжимается грязная дуля,
- Чтоб оратору рукоплескать!
- Двуединая наша основа –
- Жир бараний баскакского плова…
– Да что же это такое, в конце-то концов! Ну ни черта же непонятно? Ну не может же быть, что в самом деле псих?! А вдруг по наследству такое передается? Главное, все слова по отдельности вроде понятны, а вместе никакого смысла. Как будто по-югославски или по-болгарски!
– В некотором смысле так и есть. Вы просто не владеете этим языком, понимаете?
– Каким это языком?
– Ну, скажем, современной поэзии.
– А он у вас не русский, что ли, уже?
– Да русский, конечно, просто…
Но генерал меня уже не слушал, он перевернул сразу сантиметра полтора страниц и, к моему удивлению, хмыкнул.
– Что это вас развеселило?
– Да вон. Смешно.
- Клизмы куполов направлены
- Богу в зад.
- И молитвы православные
- Ввысь летят.
- Чтобы Бога гневом вспучило
- Злым назло,
- Счастьем сирых и измученных
- Пронесло.
– Это вам остроумным кажется? А по-моему, гадость и глупость… Вознесенщина какая-то голимая. Вообще очень странный автор. Поразительно неровный. Есть тексты прямо неплохие, а есть ну совсем говно!
– Может, все-таки – ку-ку?
– Да перестаньте. Никакой не ку-ку. Скорее, всего просто разного времени стихи, есть явно подростковые. А вкуса и строгости к себе не хватило, чтобы выбросить. С андеграундными писателями такое часто случалось.
– С какими?
– Не важно. Читайте уж быстрее. Только задерживаете всех, весь сюжет застопорился, а толку никакого!
Генерал не ответил и продолжил чтение. Дальше были стихи более или менее понятные и менее вредоносные.
- Безнадежны морозы авральные.
- Март лепечет, печет горячо.
- Подрывает основы февральские
- Черноречье подспудных ручьев.
- Видно, скоро конец двоевластию –
- Для успеха работ посевных
- Белый царь отречется от царствия
- В пользу сброда и черни весны.
- Одуванчики еще не поседели,
- Ноги женщин поражают белизной…
– У, кобелина! Ноги его поражают! – не стал дочитывать уязвленный отец.
- А.Б.
- Лес красив и добротен,
- словно куплен в валютной «Березке».
- Я ему инороден,
- И злокачественный, и неброский.
- ОТК не пройду я,
- Если вправду я Божье творенье…
Генерал, взъяренный посвящением, уже не сдерживался:
– Мудак ты, а не Божье творенье! Вон откуда боженька-то у нас объявился, вот кто тебе, дура, мозги твои куриные засирает! А то – академик Павлов! Келдыша бы еще приплела!
И тут хлопнула дверь, и по Василию Ивановичу пробежала вторженья дрожь. Прижав проклятый скоросшиватель к сердцу, колотящемуся, как тот барабан, по которому бухал рядовой Блюменбаум, Бочажок остолбенел и покрылся противным потом.
– Естедей! – заорал во все горло Степка – Ол май трабыл сим со фаревей! Нау ит лукс па ба-ба ба-ба-ба! О ай билив ин естедей!
Он протопал по коридору к себе, но тут же вернулся, продолжая приснившуюся Полу Маккартни песню уже по-русски:
– Нет! Нам! Нет нам не найти, кто же пра-ав, кого-о вини-ить! Нет! Нет! К тебе пути! Нам вчера-а не возврати-и-и-ить! Естедей!
Дверь хлопнула еще раз, и все стихло.
Василий Иванович выдохнул и сглотнул. Он так обрадовался, что его не застукали, что даже и не разозлился на какофонического сынка, которому тысячу раз было сказано не грохать со всей дури дверью и не петь.
Для святой злобы был объект посерьезнее.
- Над книгою в июльский день
- Сидел у тещи на балконе.
– Ах ты ж сука! Женатик! Вот в чем дело! Понятно теперь, чего она в молчанку играет. Благородство свое показывает. Принчипесса!.. Ну, Кирюша, ну, сволочь! Доберусь я до тебя! Ох доберусь! И с тещей твоей поговорю, пусть порадуется на зятька!
- Сходил за квасом бы – да лень,
- Внимал певцам в соседней кроне.
- И слышал за спиной стрельбу
- И шум цехов телеэкранных,
- И говор хающих судьбу
- Жены с мамашей богом данных.
- За жизнью искоса следил
- Жильцов строительной общаги,
- Неуловимый кайф ловил
- И прикреплял его к бумаге.
- Ленивый ветер шевелил
- Над ЖЭКом выцветшие флаги.
- И кучевые облака
- Стояли в небе на века.
– Ну полно вам яриться, Василий Иваныч. Может, он развелся уже давным-давно. Вот лучше гляньте, какой про осень стишок. Очень неплохой, на мой взгляд. Подправить только чуть-чуть в одном месте – и прямо настоящие стихи!
- Канареечный ясень, малиновый клен,
- хриплый жар неокрепшего гриппа,
- и ко Дню Конституции сотни знамен,
- и уже обгоревшая липа.
- На бульваре, где все еще зелен газон,
- никого, только каменный маршал.
- И обложен, как горло, пустой небосклон.
- Боль все глуше, а совесть все старше.
- Это все – Конституция, боль и бульвар,
- Клен, да липа, да маршал незрячий,
- жар гриппозный и слезный, бесхозный мой дар –
- ничего ровным счетом не значат.
– Ну и чего хорошего? Галиматья же форменная! Можешь ты мне объяснить вразумительно?