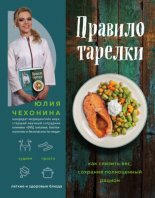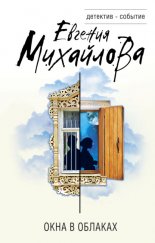Записки уголовного барда Новиков Александр

– Из какого отряда?!.
– Из девятого!.. Можете позвать сюда?!
Людям, которые приехали впервые, казалось, что «позвать сюда» – это все равно что вызвать ученика на минуту из класса, не дожидаясь перемены. И недоумевали или пугались, когда им в ответ кричали:
– Нет, не можем! Он очень далеко отсюда!
Биржа, или «промзона», была в длину более километра. Поэтому добежать из конца в конец было не так-то просто. А кроме всего, надо было знать куда бежать – вдруг по дороге нарвешься на начальство? По лагерному закону за добрую весть полагался магарыч со свидания, но при условии, что все прошло гладко. А если сдали? А если попался по дороге или хуже того – на крыше? Пиши пропало. Свидания лишали, невзирая на мольбы приехавших, а самого «соскучившегося» за уход с рабочего места и переговоры через запретку – в изолятор. Суток этак на десять–пятнадцать.
Разумеется, всего этого Маша не знала. Поэтому, проходя мимо забора, на окрик «Вы к кому?!» ответила честно и громко:
– К Новикову Александру!.. Десятый отряд!
Кто такой Новиков, в лагере дважды объяснять было не надо. На вагон полезли все, кто мог лазить. Желающих посмотреть, кто приехал, было больше, чем мест на крышах. Может быть, и побежали звать, но меня в тот день оставили на выходном, и я ходил вдоль барака, смоля сигарету за сигаретой.
Подельник же мой, Толя Собинов, работал как раз на этой территории. Помчали за ним. Через несколько минут, влетев на крышу вагона, Толя, еле переводя дух, махал руками и, прикладывая их рупором ко рту, выкрикивал Маше инструкции:
– Долго здесь не стой!.. Александр работает далеко отсюда, позвать его не удастся! Сколько суток дали?..
– Пока не знаю, с начальством не встречалась. Я тут кое-что хотела ему передать…
– Тихо!.. Не говори ни о чем! Не вздумай деньги проносить, вышмонают! Если есть у кого-то из местных оставить – оставь там, потом человека пришлем… А сейчас уходи, пока не засекли!
Гремели краны, пилорамы стоящих поодаль цехов, цепи, машины. Над всем висел гвалт и грохот. Поэтому кричали изо всех сил, пытаясь за несколько минут сказать друг другу, как можно больше. Но половина слов гасла и тонула в окружающих звуках, а риск быть уличенными в переговорах с заключенными возрастал с каждой минутой. Можно было остаться без свидания.
– Уходи, уходи, а то сейчас менты прибегут! – крикнул напоследок Толя и спрыгнул с вагона.
Его консультации оказались очень своевременными и полезными. Именно деньги на свидание Маша и собиралась пронести. Дружище юности Толя Щуров, узнав, что она поедет ко мне, принес двести рублей с просьбой «подогреть старого друга». В способе нелегальной передачи этой немалой по тем временам суммы их обоюдная фантазия дальше комнатных тапок не пошла.
– Под стельки засунуть и заклеить, – уверенно посоветовал никогда не сидевший Щуров. На том и порешили.
Тщательней всего в вещах приехавших досматривается обувь. Первыми отрываются стельки. Люди, годами работающие на «шмоне», ежедневно перетряхивающие десятки, сотни килограммов тряпья и продуктов, чуют деньги, письма, «малявы» даже не на ощупь – по глазам. Это в моих глазах, повидавших немало этапов, пересылок, шмонов и облав, ничего не углядеть. Но в ее, наивных и печальных…
Инструкции Толи Собинова Машенька выполнила в точности. И поэтому, когда на «шмоне» с треском разодрали тапки, она имела полное основание смотреть на шмонающих победоносно. А я получил эти 200 рэ – через несколько дней ко мне на бирже подошел незнакомый вольнонаемный и незаметно сунул в карман телогрейки плотно скрученные бумажки.
– Здесь – пятьдесят. Буду заносить частями. Приду через неделю, – сказал он и, не оборачиваясь, удалился.
Собрав в сумку распечатанные консервные банки, переломанные сигареты, порезанные на части конфеты, колбасу и тапки с отодранными стельками, Маша, наконец, вошла в «Дом свиданий». Именно так он здесь назывался. Однако он не вызывал в лагере такой улыбки, как его вольный и дальний родич. И если там были «нумера», то в этом – «комнаты личного свидания». Кухня, правда, была общей. И все же назвать его «домом» можно было с большой натяжкой.
Это был двухэтажный, вонючий, кишащий крысами барак, с окнами, слепо смотрящими в высоченный забор. Первый этаж занимали кабинеты досмотра, подсобные помещения, охрана и собачья лежанка.
Второй был отведен под комнаты свиданий. Здесь же находился сортир индивидуально-общего пользования, дырки этак на четыре, оповещающий о своем существовании не столько указательными знаками, сколько содержимым ямы. Поэтому слоняющихся по коридору не было. Все сидели по норам, плотно захлопнув двери.
Заведение находилось в непосредственном ведении подполковника Дюжева. На бесчисленные жалобы по поводу одолевающих крыс он неизменно, гадливо хихикая, отвечал:
– Ну что же я сделаю? Они тоже здесь, как и ваши родственники, в тюрьме сидят, хе-хе.
На вопросы о том, как быть, он так же невозмутимо советовал:
– За решетку не садиться. И еды возить поменьше, хе-хе.
Крыс бы давно переловили сами родственники и зэки,
да мышеловки и крысоловки проносить запрещали. А руками и ногами получалось неэффективно. Поэтому нет-нет да и раздавался из-за двери женский визг: «Мама– а… Она здесь сидит!» Или мужской вопль: «А-а-а, ебаные крысы!.. Козлячьи ментовские рожи!..»
А дальше стук, топот, лязг кочерги или грохот запущенной вдогонку казенной кастрюли.
Я вошел в комнату, отворив дверь без стука. Маша сидела на кровати и вытаскивала из сумки содержимое, укладывая рядом с собой. На мне шапка-ушанка на искусственном меху, как из далекого детства. Тапки-оборванцы, черный мелюстиновый костюм… В общем, моя новая одежда.
Она бросила что-то из тряпья на пол, опрокинула сумку, вспорхнула и повисла у меня на шее. Повисла и тихо заплакала. Я так и стоял: в телогрейке, в сапогах, с висящей ею. Потом поставил на пол, и мы еще какой-то миг цепенели, крепко обнявшись. Это была, наверное, самая радостная и самая больная для меня минута за последние два года. Мне было так жаль ее, маленькую, хрупкую и совершенно не изменившуюся. Я вдруг остро ощутил не эту минуту встречи, а миг расставания, который неминуемо настигнет нас через три дня. Три дня… Как это много. Как это много по лагерным меркам. Вечность… И как мало и скоротечно по меркам души. Это нельзя назвать – «свиданием». Это было воссоединением чего-то разорванного в клочья, чего соединить уж никто и не чаял. Снятым на кинопленку полетом хрустальной вазы, упавшей со стола и разлетевшейся от удара вдребезги. А потом прокрученным в замедленном изображении назад. Вот они, осколки, собираются, стягиваются по полу, льнут друг к другу и снова становятся вазой. В нее вперед ногами вползают цветы, верхом на водяных шарах. Отталкиваются от пола и летят вверх на стол. Встают в рост и замирают… Они снова – цветы в вазе. А через три дня пленка рванет вперед. Но это будет через три дня. А сегодня волшебный кинопроектор времени завертелся в обратную сторону, разогнался, визжа всеми шестеренками. И вдруг заклинил и встал как вкопанный. Включился свет, пленка замерла на самом первом кадре.
В каждую из этих трех ночей, просыпаясь и вспоминая все, что рассказывала мне днем она, я выкладывал из месива двух минувших лет дьявольскую мозаику известных нам по-разному одних и тех же событий. Она тихо и счастливо спала, забившись мне под мышку, а я, боясь спугнуть ее сон, прокручивал все с первого дня разлуки. С ней, с Игорем и Наташкой, с матерью, с друзьями, с волей… Как кино – то в красках, то в черно-белом цвете. То истошно кричащее, то оглушительно немое. То забредающее в сон, то выныривающее в явь.
Злое кино показывало, как это было.
Как это было…
Глава 14
Арест
Утро 5 октября 1984 года. Не по-осеннему ясно и солнечно. Встаю рано. Еду к школьному другу Сашке Давыдову прямо на его работу – в строительно-монтажную контору. Сашка – начальник отдела. Дома у меня ремонт. Стройматериалов в магазинах нет – только по блату, с заднего крыльца. Но – честные. Если блата нет – со стройки. Но – ворованные. Списанные, как брак, усушенные, утрясенные и оставшиеся от пересортицы.
Кому как удобнее и доступнее. С прилавка – плохие, но дешевые. С заднего хода – хорошие, но дорогие. Со стройки или склада стройуправления – хорошие и дешевые.
Давыдов посоветовал последние.
В 8 утра я у него.
– Что нужно? Есть все.
– Все и нужно.
Посылают за кладовщицей тетей Клавой. Сидим, пьем чай, обсуждаем масштабы ремонта, возможности стройконторы и, конечно, идиотизм мирового социалистического строительства, коммунистической системы, у которой все делается через задний ход. А потому – никаких угрызений совести. Мы – как все.
Входит тетя в мужской телогрейке, в ватных штанах, с огромной связкой ключей на железном кольце. Через кольцо легко пролезет голова.
– Звали, Александр Владимирович?
– Звали. Тут, вот, надо со стройматериалами порешать человеку, – обернувшись на меня, начинает Давыдов.
– Ясно. Чего? Сколько? Как будете вывозить? За какие?
– Потом объясню. Сейчас пойдите выберите.
– Ясно. Жду у себя в складу.
– Минут через пять, – удерживает меня Сашка.
– Деньги кому? Ей?
– Ты что! Начальнику участка.
– Я ж его не знаю.
– Меня знаешь? Чего еще надо? Сначала сходи, выбери. Она все посчитает, скажет. Я кое-что урежу, кое-что спишу. Потом вместе – к нему.
В «складу» было не все. Но было.
Выбранное вместе с тетей Клавой стаскивали в угол. Полчаса пыльных работ – и вопрос с моим ремонтом наполовину решен. Прощаемся до завтра. Завтра – расчет и самовывоз. Иду к своей новой «Волге», две недели назад купленной по счастливому случаю в Ижевске. Дядя моего ижевского знакомого Толи, высокая номенклатурная фигура, отказался от выделенной «Волги» – фургона, потому что хотел обычную. Правда, не совсем, а в пользу племянника. Фургон стоил восемнадцать тысяч рублей. У Толи денег на выкуп не было. На базаре такая тянула на тридцать тысяч, а разницу ему очень хотелось получить. Позвонил он ночью, полагая, что в это время телефоны не прослушиваются. Заблуждался. «Вези меня, извозчик» уже голосил по всей стране, и телефон мой круглые сутки стоял на прослушке. Узнал я об этом несколько позже. Сговорились на двадцати двух. Вылетаем в Ижевск с Сергеем Богдашовым. На торговой базе, на заднем дворе стоит новенькая, небесного цвета красавица. Вертимся вокруг нее втроем, ждем ключи. Открываем – сказка! Сегодняшний 600-й «Мерседес» – ничто по сравнению с «Волгой» – фургоном по тем временам. В частные руки их продавали только особенным людям, по особым распоряжениям. В Свердловске в частных руках их было всего две.
Прямо на меня оформить нельзя. Оформили на Толиного друга. Полдня – на доверенность, четыре дня – на обмывку, и вот мы с Богдашовым едем домой через Уфу, довольные и радостные. В Уфе живем пару дней, мотаясь по своим аппаратурным делам. Неожиданно замечаем слежку, но убеждаем себя в том, что следят не за нами, а за теми, с кем встречаемся. Слежка плотная, навязчивая и абсолютно бездарная. Настолько бездарная и неприкрытая, что кажется, будто бы делается это нашими башкирскими конкурентами по производству схожей аппаратуры с целью устрашения – дабы мы поскорее ретировались. Заблуждались мы крепко: следили за нами хоть и по-идиотски, но люди из органов.
Уходим из Уфы поздней ночью с погоней. Не успели отъехать от дома Андрея Березовского, у которого останавливались, на хвост садится шестерка «Жигули». Вскоре ее сменяет другая. Мы уходим на предельных скоростях, ныряя в проулки и подворотни вдоль реки, проселочными, давно известными тропами, выскакиваем на трассу далеко за постом ГАИ.
Хвост пропал. Ушли. Порешили на том, что это были уфимские, что более мы им не нужны и гнаться по трассе до Свердловска за нами не будут. Через сто километров бешеной гонки остановились. Уф-ф… пронесло.
К полудню были дома. Здесь нас встретили такой же круглосуточной слежкой и телефонной прослушкой. Следом за машиной – «хвост». Две недели я ездил, не веря, что этот – за мной. Он был еще более назойлив и повсеместен. Но хвост – хвостом, а ремонт – по расписанию.
От тети Клавы я выхожу, улыбаясь, с чувством выполненного долга, забыв о его постоянном присутствии.
Вставляю ключ в замок, открываю дверь. Пахнет новой машиной, свежей кожей, работает радио. Приятный женский голос диктора: «Московское время семь часов пять минут…»
Откуда они выскочили, я не заметил. На руках повисают двое. Третий тычет мне в лицо красной коркой: «ОБХСС Свердловской области! Капитан Ралдугин. Проедемте с нами».
Во двор задом влетает белая «Волга», выезд перегораживает другая – черная. Волокут в белую, на заднее сиденье. В руки вцепились насмерть. Садятся по бокам, не отпуская. Ралдугин – вперед справа. За руль моей машины прыгает опер в штатском. Черная срывается с места. Следом белая, в которой упакован я. Замыкает колонну мой фургон. Все ровно за тридцать секунд. Ралдугин поворачивается и ехидно хихикает:
' – Ремонт в квартире, я думаю, сделают без вас, Александр Васильевич.
Мчимся быстро. Рук не отпускают. Слева – с кривым носом, маленький, обвил мою руку, сцепив свои замком.
– Чего так держите-то? Я ни бежать, ни убирать никого не собираюсь. Закурить можно?
– Приедем, накуритесь.
Влетаем в ворота областного управления. Над воротами табличка с адресом: «Ленина, 17».
Вытаскивают из машины, окружают. Ведут в кольце наверх, на второй этаж. Радуются неимоверно. Запирают в каком-то казенном кабинете.
Проходит час. Отпирают, ведут в кабинет напротив. Там опер и две студентки-практикантки из юридического института. Опер, ухмыляясь:
– Вот, гражданин Новиков, знакомьтесь: девочки – будущие работники суда и прокуратуры, у нас на практике. Они вас и обыщут.
Повернувшись к девицам, добавляет:
– Обыщите, как положено, как учили. Составьте протокол по форме.
Тут же исчезает за дверью.
– Раздевайтесь, – абсолютно безразличным тоном молвит первая девица, – раздевайтесь… Плащ снимайте.
Ощущаю себя не на обыске, не в милиции, а в публичном доме.
Вторая, симпатичная, сидя за столом, загадочно улыбается.
Жамкают плащ. Лезут под стельки ботинок. Все выворачивают наизнанку. Руки – вверх. Первая щупает от подмышек до щиколоток. Командует повернуться кругом. Вторая встает, щупает от горла до живота. Далее пропускает, хихикая. Потом вдоль брюк, по коленям, до пола, i
– А теперь раздевайтесь полностью.
– Совсем?
– До нижнего белья.
Ощупали. Облапали. Садятся за протокол.
– Одевайтесь.
Смеюсь, натягивая штаны.
– А можно еще раз обыскаться, более тщательно?
– Можно… Через несколько лет, ха-ха! – прыскают девицы.
– Вечером в ИВС обыщут, очень тщательно, – в тон им добавляет заглянувший опер и исчезает, бросая: «Под ваш контроль».
Подписываю протокол.
– Сигареты можно забрать?
– Можно.
Закуриваю. Практикантки что-то пишут. Молчим. Ждут, когда за мной придут.
– В туалет тоже в вашем сопровождении?
– Исключительно. Сейчас пойдете?
Идем по коридору. Доходим до двери со знаком «Т».
– Сюда. Дверь в кабину не закрывать.
– Будете смотреть?
– Такая работа.
– Ну что ж, работайте.
Стоит прямо за спиной, чувствую взгляд. Слушает журчанье. После этого перестал воспринимать ее как женщину. Неужели и вторая, что посимпатичнее, такая же «туалетчица»? М-да, если тут дамы такие, то какие здесь мужики?
– Все?.. Пошли.
Курю еще одну сигарету. Приходит опер.
Опять запирают в кабинете напротив.
Минуты тянутся. Прислушиваюсь к шагам и обрывкам разговоров за дверью. На душе ни страха, ни тревоги, ни сожаления. Абсолютное спокойствие и уверенность в том, что это – надолго. Потом, в будущем, это помогало. Именно уверенность в том, что выхода нет. Мышеловку долго готовили, и вот она захлопнулась. Просить помощи с воли бесполезно, никакие связи не помогут – участь решена. Надежда только на себя и на силы небесные. От того так спокойно. Тревожно только за детей, за семью и за больную мать. Все остальное – как перед расстрелом после команды: «Цельсь!..»
Наконец в дверь вонзается ключ, и на пороге вырастает человек в форме.
– Пошли, Новиков.
Идем по коридорам, лестницам в другой конец здания. Снова пустой кабинет. На этот раз хорошо обставленный. Сижу, жду. Входит полковник в сопровождении какого– то младшего чина. Приветливый, улыбчивый и симпатичный. Садится напротив.
– Оставьте нас, мы поговорим.
Сопровождение скрывается за дверью. С любопытством и полуулыбкой смотрим друг на друга.
– Ну здравствуйте, Александр Новиков.
– Здравствуйте, не знаю, как вас?..
– Неважно. Считайте, что я не из этого ведомства.
– Из КГБ?
– Хм… Считайте, что это неважно.
– Курить можно?
– Кури. Чаю хочешь? С лимоном? Сейчас принесут.
Затягиваюсь и молча жду начала разговора.
Входит человек в штатском.
– Попроси, пусть чаю принесут. С лимоном.
– Один?
– Два.
Этот разговор помню очень хорошо.
– М-да… Попал ты крепко, честно говоря. Знаешь хоть за что?
– Догадываюсь. Скорее всего, за песни. За аппаратуру так не хватают и сюда не возят – райотдела было бы достаточно.
– Понимаешь правильно. Но судить будут за аппаратуру. Можешь говорить со мной откровенно – я не из этого ведомства и вряд ли мы с тобой когда-нибудь в ближайшие десять лет увидимся. Я посмотрел тут кое-какие бумаги, ознакомился, так сказать… Это не наша компетенция. Заниматься тобой будет ОБХСС.
Принесли чай. Он сделал несколько глотков, молча ожидая моего ответа.
– Не понимаю, что крамольного нашли в песнях? Вся страна слушает, значит, ей это нужно.
– Хочешь честно, как мужчина – мужчине? Не как арестованному, а как случайный сосед по купе?
– Хочу.
– Лично мне твои песни очень нравятся. Очень. И все эти пленки у меня есть, но…
После слова «но» он поднял к потолку указательный палец, а следом и глаза. – Сам понимаешь…
– Понимаю.
– Даю тебе слово, что когда ты выйдешь, я тебе их верну. Даже если во всей стране уничтожат – у тебя будут.
– И снова с ними в тюрьму, хе-хе?.. – пытаюсь шутить я.
– К тому времени, я думаю, многое поменяется. А пока… Буду, как обещал, с тобой откровенен: получишь десять лет.
– ?..
– Да. Десять лет. Вопрос об этом решен.
Он снова, глянув мне в глаза, ткнул пальцем в потолок, не отрывая локтя от стола.
– Выхода у тебя нет. Поэтому держись достойно.
Он встал, одернул китель, протянул мне руку и крепко пожал. В дверях обернулся и добавил:
– Все, что сказал – это для нас с тобой, не для протокола. До свидания, Александр.
Он тихо вышел. А я – держался.
В кабинете капитана Ралдугина это умение понадобилось уже через несколько минут. Посадили за край стола, предъявили увесистый и дикий документ под названием «Экспертиза по песням А. Новикова». Датирован третьим октября. Свеженький – состряпали только позавчера. Написанный в духе 37-го года, в оскорбительно-пасквильном тоне и представляющий собой следующее. Текст песни. Далее – рецензия по ней. Затем следующая песня. Снова рецензия. И так по всем восемнадцати песням альбома «Вези меня, извозчик». «Документ» насквозь пропитан злобой и ненавистью к автору, потому и сравнить не с чем. Обвиняюсь во всех известных белому свету грехах.
«…Песни А. Новикова пропагандируют аморализм, пошлость, насилие… наркоманию, проституцию, издевательство над национальными меньшинствами, алкоголизм… воровские традиции… глумление над социалистическим строем… подрыв основ идейно-коммунистического воспитания…» И прочее, прочее.
Такого идиотизма в официальных документах до сих пор не видал, потому смеюсь, не в силах сдержаться. Ралдугин молча ходит кругами, прикуривая одну сигарету от другой. Распечатывает блок «Родопи». Широким жестом кладет пачку передо мной.
– Курите, Александр Васильевич, угощаю… Смеяться потом будете.
Дочитываю до конца. Несмотря на кишащий орфографическими, стилистическими и прочими ошибками текст, смысл его вполне понятен. Впрочем, как и назначение. На последнем листе четыре подписи. Комсомольский активист Виктор Олюнин. Член Союза писателей СССР Вадим Очеретин. Композитор Евгений Родыгин. И еще какое-то культпартийное мурло, фамилию не помню.
Из подписантов знаком только Е. Родыгин. Этого пьянчужку с гармошкой несколько раз приводили к нам в школу. Прямо в учебный класс, перед какими-то революционными праздниками. Существо, дыша перегаром и брызжа слюной до последней парты, очень громко пело под собственный аккомпанемент собственные же сочинения. «Ой, рябина кудрявая», «Едут новоселы по земле целинной…» И еще что-то высокоидейное в юродивом исполнении. В заключение концерта было «Э-ге-гей, хали-гали…». Уже под нескрываемое ржание всего класса. Правда, исполнителя это не смущало. Кроме того, по городу ходила история о том, как когда-то, напившись до полусмерти и заснув за рулем, этот самый Родыгин, пробив ограждение, вылетел с моста и упал в железнодорожную угольную платформу проходящего внизу грузового состава. Уехал за тридевять земель и был отловлен чуть ли не в другой области. Не знаю, как в искусстве, а на земле след свой он, безусловно, оставил – мост с той поры называется не иначе как «родыгинский». А кроме всего, выступающий имел среди учеников школы многолетнюю кличку «Алкодрыгин».
В указанном документе он значился «основным экспертом» – это было ясно по орфографии и «доказательствам». Особенно покорила заключительная часть его душераздирающей рецензии: «…Автор вышеупомянутых песен нуждается если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка». Ни добавить, ни отнять.
– Ну что, прочитал, как о тебе творческие люди пишут?
Ралдугин затягивается, закатывает глаза и добавляет с
лукавым осклабом:
– Но это – так, пустяки. Песни нас, конечно, интересуют, но мало. За это статья до трех лет. Они – в качестве, так сказать, характеристики, хе-хе. Нас, Александр Васильевич, интересует ап-па-ра-тура. Вот о ней мы и будем долго говорить.
– Задавайте вопросы.
Глаза Ралдугина темные, злые. Улыбка злорадная. Речь нарочито спокойная и неспешная. Говорим без протокола. О семье, о музыке, о машинах, бог весть о чем. Он чего– то ждет. С каждой минутой убеждаюсь, что имею дело с опытным и махровым негодяем.
С грохотом открывается дверь, влетает упитанный полковник. Ралдугин вскакивает.
– Встать! – Полковник с налившейся кровью рожей нависает надо мной. Продолжаю сидеть.
– Вставай, вставай… – помогая словам ладонью, советует Ралдугин.
Внутри у меня все взорвалось. Треснуть бы сейчас эту харю. Нельзя…
– Я не арестованный. И в вашем ведомстве не служу.
– Ах, вот оно что… Хар-р-рош!.. Хар-р-рош, сукин сын!
Полковник – начальник следственного управления области. Очень похож на злую жабу. Фамилия – Семенов. Оборачивается к хозяину кабинета:
– Оформите как положено. И побеседуйте… как положено.
Выпрыгивает вон, громко хлопая дверью.
«Выхода у тебя нет. Держись достойно…».
На этом предварительную обработку посчитали законченной. Ралдугин берет лист бумаги, заполняет его моими данными.
Допрос начался. Суть вопросов: где, куда, кому и за сколько продавал аппаратуру? Как, с кем и из чего изготовлял?
Суть ответов: мало ли кому, мало ли из чего – все детали куплены в «Юном технике». Делал один. Отвечаю за все один.
Злые глаза кивают: протокол все стерпит.
После допроса – в пустой кабинет под запор. Приносят мешок с домашними вещами, сигаретами, тапками и прочим скарбом. Значит, жене уже сообщили. Как это было тогда наивно думать – «сообщили». Уже были с обыском. Отрывали плинтусы, отдирали обои, отбивали кафель, чтоб пролезть под ванну. Выгребли все магнитофонные кассеты, пластинки. Выгребли стихи, тетради, фотографии, даже школьные дневники. Все, на чем есть хоть слово, написанное моей рукой. Уволокли телевизор, проигрыватель. Даже два одинаковых мохеровых шарфа с вешалки – как важные вещественные доказательства «попытки спекуляции». Эту «попытку» на основе двух несчастных шарфов будут мне доказывать на протяжении всего следствия – двух одинаковых у советского человека быть не должно. Словом, выгребли квартиру почти до голых стен.
Все это я узнаю потом. А пока со слезами на глазах разбираю мешок – каково Маше было его собирать. Судя по его содержимому, она уже знает, что здесь я – надолго. Значит, вечером – в ИВС. В изолятор временного содержания. По-старому – в КПЗ.
До позднего вечера сижу в знакомом пустом кабинете. Шаги за дверями все реже. Наступает гулкая тишина. Жду конвой. К удивлению, вместо него является сам Ралдугин с кривоносым опером, утренним знакомым. Зовут его капитан Шистеров. Спускаемся под руки во двор, опять к той же белой «Волге».
– За что такая честь, Владимир Степанович? – осведомляюсь я у Ралдугина.
– Вы человек известный, знаменитый, не могу никому вас доверить. Хочу лично благоустроить на новое место жительства.
Едем в прежнем порядке. Ралдугин – спереди, я – сзади, под руку с кривоносым. Вцепился и держит так – любой удав позавидует. За окном центральная улица. Огни витрин, люди, машины…
Осень. Как, оказывается, красивы эти пожелтевшие деревья, эти растоптанные на асфальте листья. Как хочется выйти, даже на ходу, в эту осень. Разбиться не страшно – страшно этого долго не увидеть. Страшно встретить по дороге Машу. Или Игоря с Наташкой. Но они еще маленькие – вряд ли встретятся вечером.
Машина влетает в загороженный двор и останавливается прямо у дверей серого здания.
– Ну вот, приехали. Здесь пока и поживете, Александр Васильевич, – возвещает об окончании путешествия Ралдугин.
Заводят под руки внутрь. Порядок обычный для всех: сначала в дежурку, потом на шмон. После всех бумажнопротокольных процедур – в камеру.
– Завтра утром за вами приеду лично, – прощается он. Его напарник морщит кривой нос от тюремного запаха, брезгливо фыркает, и оба спешно уходят.
Тюремный запах – смесь дихлофоса, махорочного дыма, параши, сырой плесени и еще бог весть чего – первым возвещает о том, что ты уже – в тюрьме. Не дежурный, не конвой, не кандалы. Над всем – запах. Он – как яд. Вдохнул его – и почувствовал себя по-другому. Все, что будет дальше, – пойдет само собой.
Определили в камеру № 2. На втором этаже в самом конце коридора. Сопровождает улыбчивый мент – старшина предпенсионного возраста, пропахший тюрьмой насквозь и навечно.
– Здесь песни петь нельзя, здесь надо сидеть тихо. Орать можно, если звать дежурного. Остальное – только в письменном виде. Хе-хе-хе…
Коридор длинный, грязный и вонючий. Местами вдоль грязных синих стен тележки, бачки с баландой, с торчащими из них огромными черпаками и горы алюминиевых мисок. Каждой вещи здесь – свое название. Миска – «шлюмка». Бачок – «флотка». Черпак – «разводяга». Коридорный дежурный – «попкарь». Остальное еще проще. Камера – «хата». Мешок с вещами – «сидор».
Открывают камеру. Вхожу. Дверь с грохотом и лязгом захлопывается. Ни нар, ни «шконарей» нет. Прямо в двух метрах передо мной возвышение, что-то вроде дощатой метровой сцены. Ничем не отличается от домашнего пола. Прямо на голых досках, подложив телогрейку под голову, лежит парень. При виде меня вскакивает, сонно продирая глаза.
– Здорово, – приветствую обитателя и кидаю мешок на доски.
– Здорово… Курево есть?
– Есть.
– Слава богу. А то уже уши пухнут.
Достаю сигареты. Садимся под решетчатым окном, привалясь спиной к стене, знакомимся. Его зовут Пермяков Александр. С виду – ровесник. Причина пребывания – валютные операции и какое-то хищение. Говорим, находим общий язык и даже общих знакомых.
Открывается «кормушка» – приехала баланда. Просунувшаяся в амбразуру физиономия вопрошает:
– Есть будете? Пайки заберите.
Следом появляется рука с полбуханкой хлеба. Сокамерник вскакивает, берет. За ней – еще одна. Два «шлюмака» с кашей, два с теплой, ржавого вида водой, именуемой – «чай». Кормушка с пушечным грохотом захлопывается. Это вместо – «приятного аппетита».
Еще долго не спим. Сокамерник разговорчивый и с довольно странной биографией. Его несколько дней назад привезли сюда из следственного изолятора – СИЗО № 1, то есть из тюрьмы. Почему, он не знает. Скорее всего, всплыли какие-то новые обстоятельства из уголовного дела. Там он три месяца сидел в камере № 38 на спецпосту. По его описанию – это третий этаж отдельного здания внутри тюрьмы. Содержатся там особо важные подследственные. Камеры маленькие – двух-четырехместные. Почти в каждой – подсадная утка. Держат тех, кто в несознанке, кто под особым контролем областного управления или в оперативной разработке. Словом, есть очень непростые пассажиры. Вместе с ним сидел в двухместке только один человек, очень известный в городе. Фамилия его Терняк.
– Терняк? – переспрашиваю я, – Виктор Нахимович? Метрдотель из «Уральских пельменей»?
– Так точно. Ты же работал музыкантом в ресторане, должен его знать.
– Знаю, конечно. Я работал в «Пельменях».
– Да ты что? Вот это совпадение.
– А где он сейчас?
– Да там же и сидит. Меня увезли, он один остался. Наверняка ему уже кого-то подсадили. А может, и сам подсаженный был – тип-то довольно скользкий.