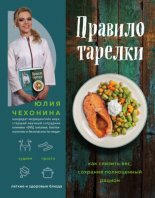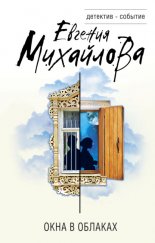Записки уголовного барда Новиков Александр

– Тех, кто страну довел до такого. По телевизору каждый день о них говорят. Как перестройка началась, так везде и говорят, вы не хуже знаете.
– Перестройка? Это там у них… Где-то далеко, в Москве – перестройка. А до нас она еще не доходила. И дойдет не скоро. Мы здесь – по-старинке: пилим лес и исправляем таких, как ты. Таких, как ты…
Он почувствовал, что поменял тон – в стратегический план разговора это не входило, потому, неожиданно смягчившись, добавил:
– Хотя ты еще не самый худший.
Разговор наш, следует заметить, с самого начала шел не на равных: я его – на «вы», он меня – на «ты». Я тушил очередную сигарету. Он – брал пепельницу и брезгливо выбрасывал окурок в стоящее под столом ведро.
– Перестройка – это для дураков. Все скоро закончится. А здесь– тем более. Закончится, не начавшись. Поэтому если ты надеешься на нее – зря. На амнистию – тоже зря. На бога надейся… Все мы на него надеемся. Я так думаю, скоро сюда первых перестроечников повезут. Здесь много разной братии перебывало. С 1937 года кого только сюда не сгоняли. Нас с тобой еще и в помине не было, а лагерь – был. В следующем году, кстати, юбилей будет – пятьдесят лет, как его основали. Вот тогда, может, и споешь чего-нибудь на юбилее, хе-хе-хе… Нижникова хорошенько попросишь – он у нас любитель пения. Может, стихами его разжалобишь – он у нас более сентиментальный, чем я. Я петь не умею, плясать не умею, стихи писать не умею. Я – не замполит Филаретов. Его ты, может быть, тоже разжалобишь– в самодеятельность кадры нужны. А я – начальник режима. Мой клуб – изолятор. Сцена – плац. А песни и рассказы – это то, что мне приносят из перехваченной нелегальной почты.
Он многозначительно поглядел на меня, вновь перегнулся через брюхо и извлек из того же ящика сложенное вдвое письмо. Повисла пауза. Это было мое письмо. Его я отправил месяц назад через Лысого, еще в то время, когда ужинал в дальнем углу с Захаром и его компанией.
«Если надо что-то черкнуть не через цензуру, Лысому отдай – он отправит», – посоветовал тогда Захар.
«Все в лагере, Санек, делается чужими руками…»
– Ну вот, со стишатами, худо-бедно, разобрались… Перейдем к прозе. Хоть и не люблю я ее, прозу местного производства, хе-хе, а читать надо – долг службы, ничего не поделаешь.
Дюжев поворочался в кресле, вросся в него поудобнее и начал зачитывать пономарским тоном самые, как ему казалось, важные строчки. Ничего особенного и запретного в письме не было. Разве что некоторые характеристики на членов руководства. Причем без упоминания фамилий. Например: «Отрядник – нечто среднее между Витюхой Беловым и участковым, который приходил к нам домой брать с меня объяснение, где я взял деньги на машину…» Витюха Белов – несчастный даун, живший в нашем дворе, игравший на балалайке на крыльце аптеки. Аптека была в торце нашего дома, а крыльцо выходило на улицу Восточную. Словарный запас и ход музыкальной мысли Витюхи почему-то ассоциировался у меня с воспитательными сентенциями Грибанова. Остальное – от участкового.
Про Дюжева в письме ничего не было. Вероятно, потому, что встреча наша состоялась только сегодня.
Далее я предупреждал Машу о том, что ее непременно станут уговаривать воздействовать на меня в части признания мной вины и досрочного погашения иска. Обещать ей мое скорейшее освобождение и воссоединение семьи. Я писал ей, чтобы не верила ни единому слову и не поддавалась на эту агитационную чушь. Фамилий в письме не было, но характеристики были убойными. На всех, с кем ей предстояло говорить по приезду на свидание. Предполагалось свидание в июне.
– Что же ты нас совсем не жалуешь? – ехидно спросил Дюжев. – Я догадываюсь, конечно, кто такой этот… Витюха Белов. Но вот когда твоя Маша приедет, мы у нее подробнее спросим, хе-хе…
– Вас – жалую, гражданин начальник. Про вас – ни слова. Не имел удовольствия общаться, – попытался отшутиться я, – вас и сравнить-то не с кем.
– Это хорошо, когда сравнивать меня не надо. Хорошо – когда с тобой сравнивают. Мне уже через восемь лет на пенсию, а я до сих пор не устаю удивляться: сколько писем ни перечитай – во всех одно и то же – «зона голодная»… «работа адская»… «начальство – сволочи»… «начальство– воры»… «советская власть, тридцать седьмой год»… Одно и то же. А в конце: «Пришлите денег… пришлите черную телогрейку… пришлите сала».
– У меня – ни того, ни другого, ни третьего.
– В этом письме – да. А в других, которые ты уже отправил или отправишь, – будет. Не сомневаюсь ни на минуту. Просто за это письмецо я тебя на первый раз прощу, а за последующие – по десять суток за каждое. Договорились? Пару раз по десять – и научишься писать как надо. И отправлять как надо – через своего начальника, через цензуру. Положено два письма в месяц – вот и отправляй два. И без всяких эзоповых выражений. Писать надо прямо и ясно.
– Через цензуру они точно все одинаковые.
– Ну и хорошо. Всем хорошо. Оперчасти – меньше хлопот. Мне – меньше возиться с этим чтивом, кишащим ошибками и ужасами. А вашему брату – в карцере лишний раз не сидеть. Меньше комиссий, прокурорских проверок и прочей чехарды, которая никому из вас еще не помогла. Комиссия приехала – и уехала. А вам дальше жить. Я понятно говорю?
– Очень понятно. Следующее письмо напишу по всем правилам. Без «эзопов».
– Пиши. А с Грибановым тебе еще долго жить бок о бок, поэтому советую наладить с ним отношения. Да, он Фета не читал. Да, он про Тютчева, может быть, не слышал. Но он сегодня – твой начальник. А ты – простой советский заключенный. Простой уголовник, у которого десять лет срока, сто шестьдесят шесть тысяч рублей иска и общее нерасположение к любому труду. Я тоже не мечтал стать работником колонии. Но так вышло – стал. Не думал носить форму – а ношу. Потому что у каждого из нас свой долг. У тебя долг – сидеть. У меня долг – служить. И служить так, чтобы тебе сидеть во второй раз не хотелось. Это Нижников с Филаретовым верят в то, что вашего брата можно здесь перевоспитывать. Я в это не верю. Я против всякого перевоспитания. Хотя на партсобраниях и у начальства в управлении вынужден твердить обратное. Но положа руку на сердце говорю: не верю ни в какое перевоспитание, ни в какое перерождение. Надо не перевоспитывать, а прививать рефлексы, по Павлову: услышал слово «тюрьма» – вскочил в холодном поту! А еще лучше, чтоб не забывал ее ни на минуту и боялся как огня.
– И я тоже?
– А ты в первую очередь. Ты – вдвойне.
– Почему, если не секрет?
– Не секрет. Потому что ты для многих пример к подражанию. Многим кажется, что раз ты личность известная, значит, можешь рассчитывать на поблажки. А раз тебе можно, значит, и другим захочется. Поэтому я считаю, что тебе за одно и то же положено вдвойне. За что простому смертному – пять суток, тебе – десять. За что простому – пять лет, тебе – десять. Вот тогда никому повадно не будет. Я не занимаюсь спасением душ и спасением личностей. Я – начальник режима. Моя задача – создать тебе такой режим, при котором не будет времени заниматься глупостями и бить баклуши. Не – «режим жизни», а – «режим со-дер-жа-ния»! Мне поручено вас «содержать» в строгости и численном поголовье, простите за неприятное сравнение, хе-хе.
– Никак не думал, что Фет с Тютчевым наводят на такие глубокие мысли.
– Сами по себе они не наводят. Они наводят на другое: читал бы их – не писал бы свои. А значит, сюда бы не попал. Вот на что они наводят. Да не только их – любых других читал бы. Ан нет, ты свои писать начал. Возомнил, будто бы способен родить что-то лучшее. Все уже давно написано. Даже инструкция, по которой я сегодня тебя обязан наказать за нелегальную переписку, написана до нас с тобой. Тебе и ее неплохо было бы почитать. Вот так, гражданин Новиков.
Он сложил письмо в конверт, выдвинул ящик стола, бережно положил его на дно и аккуратно задвинул.
– Оставлю на память. Думаю, не последнее. А тетрадочки твои – «Дело № 1078. Показания свидетелей», хе-хе, отдам Нижникову, пусть почитает. Он у нас любитель. Если захочет вернуть, пусть сам тебе их вернет. А не вернет – новые напишешь. Ну, а от меня тебе на первый раз… На первый раз – ларек. Лишить очередного ларька. Пойдет?
– Благодарю, гражданин начальник. Из соображений, что на голодный желудок лучше пишется?
– Талант должен быть голоден. Но – талант. Надеюсь, ты меня понял?
– Раз я – не талант, чего ж меня голодом морить?
Дюжев встал. Я следом. Он наклонился над столом,
упершись обоими кулаками, и расплылся в улыбке.
– И то верно, хе-хе… Ларек – условно. До свидания.
– До свидания.
Я вышел на крыльцо, закурил. В барак идти не хотелось. Было синее небо с редкими, уже не свинцовыми облаками. Была тихая небесная радость– впереди целый выходной. А еще большая радость – вечером не идти в изолятор. И ларек цел. Стихи вот только забрали. Ну, да никуда не денутся, отдадут. Просто придется еще раз выслушивать от начальника колонии. Но это даже хорошо, если вызовет. Дюжев его, по всему видно, не любит. Он вообще никого не любит. Если, как говорит Захар, «грамотно преподать», – то можно все обернуть себе на пользу. Грибанов, Дюжев– с одной стороны. Нижников, Филаретов– с другой. Я даже представил себе картину – сидят улыбающиеся начальник и замполит.
«Та-а-к, вот так, само дело ебиомать, поступили к нам с Сан Санычем стихи, вот так это дело… Хорошие, понимаешь, стихи, само дело, ебиомать!..»
От этих мыслей я рассмеялся вслух.
За спиной, в глубине штаба, послышался голос Грибанова:
– Где шнырь? Где шнырь штаба?
– Я здесь, гражданин начальник, – отозвался голос, – чай заваривал.
– Дюжев у себя?
– Был у себя. От него только что Новиков вышел.
Скрипнула дверь, и грибановское «Разрешите, товарищ
подполковник…» тут же затворилось ею.
«Быстренько прискакал, козлище, – подумал я, – не терпится узнать о результатах своей оперативной работы… Дурак дураком».
Тут же посетила крамольная мысль: а не написать ли мне еще письмишко? Следуя советам Дюжева – без «иносказаний». Да пустить официально. «Письмо для цензора и Дюжева с Грибановым». Интересно, дойдет такое?
С этой затеей я вернулся в барак. К вечеру письмо было готово.
Исполнено оно было в лучших традициях эпистолярного идиотизма и ленинской партийной конспирации.
Здравствуйте, мои родные!
Пишу вам из лучшей в стране колонии усиленного режима. Мне здесь очень хорошо. Начальство умное, заботливое, очень тепло ко мне относится. Особенно начальник отряда. Человек он образованный, хорошо знает русскую литературу и поэзию. Поэтому нам есть о чем поговорить вечерами. Он даже на работу меня определил не тяжелую – на разделку леса. Целый день я катаю бревнышки. Точнее, они сами катаются, а я только крючком их дергаю. Работа всем очень нравится. Мы могли бы работать и по двенадцать часов, но начальство разрешает только по восемь. Правда, сейчас разделка закончилась и всех бросили на мусор. Работа временно не по специальности. И прямо скажем – хреновая.
В выходные мне разрешили сидеть в библиотеке. На первый раз всего пять суток. Если понравится, обещали продлить до пятнадцати. Условия для проведения досуга отличные. Вшей и клопов здесь нет. Только пчелы и бабочки. Каждый день думаю только о вас и о досрочном погашении иска с признанием вины. Хочу об этом написать прямо генеральному прокурору, потому что местный, Ивдельский, мне может не поверить.
Денег сюда присылать не надо. Одежды тоже. Одет я, слава богу, во все лучшее. И цвет, и фасон мне очень к лицу. Из еды тоже всего навалом. За последние полгода поправился на двадцать килограммов. Если брошу курить, боюсь, поправлюсь еще.
Своих стихов больше не пишу и не читаю. Зато они очень понравились начальнику отряда, который случайно увидел их под трусами и носками на дне моего ящика. Показал их заместителю начальника колонии, тому они понравились еще больше. Поэтому он не хочет отдавать тетради обратно. Я же сейчас читаю только Тютчева и Фета. А для самообразования – «Кодекс ИТУ по внутреннему распорядку и условиям содержания осужденных». Очень нужная U 'полезная книга.
В колонии полным ходом идет перестройка. Все хотят трудом искупать вину. Только не знаем, как?
По выходным в клубе показывают отличные фильмы: «Ленин в октябре», «Броненосец Потемкин», «Как закалялась сталь».
За меня не переживайте и не расстраивайтесь. Десять лет – это не срок, пролетит мигом. А пока все хорошо, даже выходить не хочется.
Пишите. Обнимаю. Целую.
Александр»
Я так увлекся письмом, что не услышал шагов подобравшегося к моему шконарю Лысого.
– Письмишко решил черкнуть?.. Хорошее дело. Прошлое-то дошло куда надо?
– Дошло. Куда надо. Это вот вдогонку шлю, официально.
– А то нет проблем – отправлю, – предложил Лысый.
– Благодарю. У меня тоже нет проблем.
Вечером, возвращаясь с проверки, я прямо из строя свернул в клуб, бросив на ходу Лысому:
– Я к Мустафе. К отбою приду.
– Отрядник запретил.
– Мне он этого не говорил.
Проходя мимо висящего на дверях клуба почтового ящика, я опустил письмо. Через две недели оно пришло в Свердловск. Черной тушью было тщательно вымарано слово «мусор». А в слове «хреновая» – закрашено «хре». В остальном содержание письма цензуру вполне устроило.
– Здравствуйте, Александр Васильевич, исаме сис! – привычно ерничая, встретил Файзулла. – Давненько вы к нам не заглядывали, может, в должности повысили, хе-хе? Вас, говорят, сегодня Дюжев вызывал?
– Откуда знаешь?
– Штабной шнырь доложил. По какому поводу, если не секрет?
– Письмо спалилось.
– Почему – не в трюм, хе-хе?..
– Ларек. Условно.
– Это что-то новенькое для Дюжева. На него не похоже. Обычно суток на пять, а то и десять.
– А еще тетради со стихами Грибанов вышмонал. Из– под трусов достал.
– Это не Грибанов, это – Лысый. А может, и шнырь, по его приказу. И что со стихами? Говорил ведь тебе Мустафа: держи в библиотеке.
– Не отдает. Сказал, отнесет Нижникову.
– Отлично. Нижников все равно отдаст Филаретову. Вызовут, конечно, для беседы, потом вернут. Сан Саныч – это не Дюжев.
– Ладно, давай Мустафу свистну. Он у Загидова, по– моему, сидит.
Мустафа, вошедший как всегда шумно и широко, в оценке моего визита к Дюжеву был более категоричен:
– Ну, что эта толстопиздая жаба хотела? Просто пробивала тебя на гнилушку. Ему и стихи, и письма – одно и то же. Для него это – макулатура. Для него поиздеваться – хлебом не корми! Смотрит, какая от тебя ему может быть польза. Знаем…
Всю следующую неделю Мустафа убеждал замполита Филаретова в том, что большой пользы на разделке от меня не будет. Если и будет, то ровно такая же, как от всех. А при том дефиците кадров, который на сегодня в рядах лагерной самодеятельности, я мог бы принести большую пользу. Филаретов и слышать не хотел:
– Пусть об этом говорит с Нижниковым. Если тот разрешит, я не против.
При этом речь шла не о том, чтобы устроить меня работником клуба, а о том, чтобы можно было в него ходить в свободное от работы время.
– Сходи к хозяину, – советовал Мустафа, – скажи, что будешь работать на разделке. А по вечерам – в клуб. Для них главное – работа. По-другому не получится. Они ведь боятся не того, что работать меньше будешь, а того, что напишешь что-нибудь такое, от чего вся советская власть в Ивдельском районе рухнет к ебени матери! Боятся сами не знают чего. И все ждут этого. Ждут и ждут, идиоты. Поэтому пасут за тобой день и ночь. Шарят по ящикам, по тумбочкам, под матрасом. Ищут пожарные, ищет милиция, хе-хе… В общем, мой совет: иди к хозяину, не дожидаясь. Только Грибанову ничего не говори, узнает – поперек крыльца в штабе ляжет. На локалку замок повесит, ключ проглотит!
– Иди, Александр, иди. Мустафа – старая кумовская крыса, хе-хе, в штабных делах лучше всех разбирается, – закуражился Файзулла.
– Как тресну по толстому гребню! Художественная жаба!
Выпили чай, посмеялись над последними событиями и разошлись.
Попасть на беседу к начальнику колонии было очень непросто. Во-первых, по инструкции это делалось только с разрешения начальника отряда. Если явиться без спросу – «самовольное хождение по зоне». Сразу угодишь в изолятор. Если начальник не примет, или его не окажется на месте – о визите в штаб будет известно через пять минут. Поэтому все равно – изолятор. Если нарвешься на Дюжева – в изолятор прямо из штаба. Отведет самолично, не поленится. Шанс есть, но очень малый, что Нижников вызовет сам. Это сомнительно и можно ждать долго. За это время гри– бано-захаровская компания с благословения Дюжева «наплещет такого керосина», напишет таких рапортов и докладных, что «ни тушить пожар, ни отмазываться» будет нечем. Поэтому надо идти. Но когда? Утром – на работу. Вечером Нижникова уже нет. Следующий выходной в лучшем случае через неделю. Грибанов каждый день бегает на производство смотреть, как я работаю. Каждый мой шаг докладывают. Закосить на больного? Можно. А на что закосить? Простуда? Грипп? Зубы? Точно – зубы!
Через день, скатав хлебный мякиш и затолкав его поглубже между десной и щекой, я стоял в кабинете начальника отряда, подпирая правой рукой челюсть, а в левой держа заявление на внеочередной выходной по причине посещения санчасти.
– Вообще-то, зубы у нас не являются освобождением от работы, – подозрительно покосившись, ответил на мою просьбу Грибанов.
– Я не прошу освободить от работы, гражданин начальник. Я прошу выходной. В счет следующего. Если не дадите, я все равно на работу не пойду.
– Выходной дам. Но послезавтра – на работу.
Он еще раз недоверчиво покосился на мою челюсть.
– Точно – к врачу? Или снова письма со стихами писать? Давай с тобой так договоримся: я не против стихов, но ты должен их показывать мне. И письма – только через меня. Это не я придумал – это приказ Дюжева, – бестолково соврал он. – Все?
– Все.
– Иди.
Утренний вопль Лысого на подъем меня уже не касался, и я, накрывшись одеялом с головой, под гвалт собирающейся на работу бригады пытался поспать лишний часок. Снизу, из двора, доносился голос Захара:
– Стройся!.. Сколько человек? Мешенюк, сколько народу?
– Все, кроме Новикова. Его отрядник в санчасть оставил.
– Знаю. Знаю я эту санчасть – замастырился! Керин, ты Саньку благодарность выскажи, сегодня один за двоих работать будешь, га-га!
– Ничего, отработаю. Здесь все за двоих работают, – огрызнулся Славка.
Лязгнули ворота, беспорядочно загремели сапоги, и через минуту все смолкло.
Глава 10
Стоматолог
Кабинет лагерного стоматолога представлял собой комнату со стоящим посредине креслом, бормашиной довоенного образца и старым письменным столом у стены. На нем вперемешку с кружками и остатками еды лежал журнал приема и еще какие-то беспорядочные бумаги. У двери – несколько драных стульев и большой оцинкованный бак, приспособленный под помойное ведро. Мне уже повезло – я попал в день приема. Стоматолог, из числа местных жителей, был приходящим и являлся в колонию два раза в неделю. Вел прием до обеда, потом исчезал. Никто не мог сказать точно, когда он будет в следующий раз. Эти сведения я получил от больничного шныря, которому очень польстило мое – «Здорово, земляк!» – вместо более привычного для него – «Эй, клизма!..»
Несколько раз заглянув в пустой кабинет и изучив степень его технического совершенства, я лихорадочно думал о том, на что пожаловаться и чем обосновать причину сегодняшнего визита. Придумал я вот что. Ни о какой зубной боли речь не идет, просто хочу поставить железные коронки. Деньги есть. Если не клюнет, скажу честно, что нужен выходной. Мол, охренел от работы, поэтому пришлось немного подзакосить. Это тоже – небесплатно.
Мои мысли прервал шнырь:
– Ты здесь еще не был? С ним еще не виделся?
– Нет.
– Короче, я тебе кое-что подскажу. Только не для массовки. Он по натуре бухарик, пьет все. Все, что горит, и все, что в аптеке продается. На будущее имей в виду – идешь к нему неси с собой червонец. На худой конец, пятерку, тогда все будет ништяк. Его бы давно уже выгнали, да других в поселке нет. А этот всю жизнь тут прожил. Тут и сбухался. Сейчас придет, посмотришь. С ним можно говорить прямо, как с зэком – он не сдаст, не кинет. А еще лучше, если есть одеколон – с ним и приходить. Желательно – «Тройной». Одеколон и пятерочку сверху. Сразу будет понимание.
В конце коридора, за углом, послышались шаги и голос, напоминающий голоса лилипутов из цирка.
– Он идет, – сорвался с места шнырь.
К дверям кабинета подошел очень маленького роста человек с испитым серым лицом, чертами напоминающий ханта или манси.
– Ко мне? – спросил он через плечо, открывая дверь кабинета.
– К вам…
– Подожди. Я вызову.
За дверью послышалось звяканье посуды, стук брошенных в ванночку щипцов и прочей инструментальной утвари, тихий мат. Потом пауза и задумчивое пение.
– Заходи!
Я вошел. Врач сидел за столом, ко мне спиной, наклонившись над журналом. Не поворачиваясь, он спросил:
– Принес?.. С собой есть чево?
– Что принес?
– Ну… ну, это… – Он хлопнул себя тыльной стороной ладони по горлу. – Анестезия есть?
– Нет. Не знал как-то. – опешил я от такого начала.
– А в отряде есть? Может, в отряд сбегаешь? Или давай, – потер он в воздухе тремя пальцами, – я за зону сбегаю, возьму пузырек.
В этот момент я увидел, как трясутся его руки. Они не тряслись – они ходили ходуном.
– Одеколона нет. А это, – потер и я пальцами, – если надо, схожу принесу. Только сейчас нельзя – отрядник в бараке.
– Годится. Минуту…
Он открыл дверь и выкрикнул в коридор: «Дневальный, ко мне!..»
Заскочил шнырь.
– Есть?
– Есть, – ответил тот и поставил на стол бутылку «Тройного» одеколона, накрыв ее перевернутой вверх дном кастрюлей. Тут же вышел, плотно затворив за собой дверь.
– Фамилия как? – спросило зубное светило и придавило к столу левой рукой правую. В правой была ручка, кисть руки билась в тряске. Ручка то и дело выпадала из нее и отказывалась подчиняться. Наконец при помощи обеих рук он вывел в журнале мою фамилию, номер отряда и дату.
– Давай в кресло, быстрей!.. – лихорадочно суетясь и перебирая щипцы, скомандовал он.
– У меня сначала к вам вопрос и дело.
– Давай, давай садись. Потом твое дело.
Сидя в кресле, я не видел всех его приготовлений. Мог только слышать. Судя по звукам и матеркам, он никак не мог отвинтить крышку флакона. Да и руки его были так малы, что бутылка «Тройного» выглядела в них почти пол– литрой. Он захватил крышку фалдой пиджака, пытаясь свернуть ей голову. Все было тщетно.
– На… Открой эту ебаную бутылку. Запечатывают, суки… Итак из горла пить невозможно, так еще, блядь, крышки на клей сажают!.. Или давай зуб сначала?
Он отставил одеколон и схватился двумя руками за клещи.
– Показывай, какой?
– Да никакой. Я хотел поговорить насчет коронок.
Его лицо состроило вопросительную гримасу.
– За наличные, – добавил я.
На какой-то момент руки его перестали трястись и замерли с зажатыми в них клещами на уровне пояса.
– А сейчас что? Освобождение от работы?
– Было бы неплохо.
– Хорошо. Но давай все равно посмотрим, что у тебя с зубами.
Осмотрев, он сделал заключение.
– Зубы свои еще есть. Хоть не все, но жить можно. Однако есть коренной обломанный. Его лучше удалить.
– А может – пломбу? – осторожно поинтересовался я.
– Бормашина все равно не фурычит. Если сверлить или еще чего – это в первой колонии делают, записывайся туда. Раз в неделю отсюда водят. Дюжеву напиши заявление, если он разрешит, то на «однерке» сделают. А я – только рву. Вот тебе и освобождение от работы будет.
Он сунул клещи в кипяток и скомандовал:
– Открывай рот шире!
– А наркоз?.. Обезболивающее есть?
– С хуя ли? Со своим надо приходить, батенька. Я же спрашивал: «Принес?» Ты не принес. Значит – насухую. А хуля делать – тюрьма! А в тюрьме один наркоз – палкой между рог. Нашатырь подойдет?
Попрепиравшись некоторое время, я согласился.
– Так… рот пошире… думай о воле… о свободе…
Одной рукой он схватил меня за нижнюю челюсть, другой занес клещи и начал целить в зуб.
– Надо быстро, быстро… А то видишь, блядь, как колбас ит…
– А может, если принять – отпустит? – спросил перед экзекуцией я.
– Нет. Если принять – это уже не работа.
Он опять сунул клещи в рот. Те застучали у меня между зубами так, что, казалось, вот-вот лишусь еще и передних. Я отпрянул.
– Не ссы. Не первый раз дергаю!
Еще несколько попыток подцепить злополучный корень остались безуспешными – мешала тряска.
– Ладно, хуй с ним, с зубом. Правильно говоришь, надо раскумариться. Помоги-ка.
Он сдернул со стола флакон и протянул мне. Флакон был теплым на ощупь. Этикетки не было, и по виду он мог сойти за какую-нибудь микстуру.
Не вылезая из кресла, я попробовал театрально, двумя пальцами свернуть крышку. К удивлению, это не удалось.
– А, нет, дай-ка, – выхватил он у меня из рук, – сейчас по-другому попробуем!
Открыв дверцу шкафа и погремев его содержимым, извлек на свет огромные ржавые плоскогубцы и набросил на крышку. Раздался хруст стекла, пластмассы, горло вместе с крышкой отвалилось.
– Вот, ебаная расфасовка! – заверещал он и стал вытряхивать содержимое в фарфоровую кружку. Посудина эта, по всему видно, была широкого потребления – потемневшая от чифиря и немытых рук, она с трудом смахивала на питьевую.
– Глотнешь? – предложил он мне.
– Не-е…
– Ну и хорошо. У-у-ф…
Натужно глотая, он залпом осушил всю кружку.
– Фу-у, бля… Отпустило.
После этого начал ходить кругами по кабинету, шумно вдыхая и выдыхая. На десятом круге сел на стул и стал занюхивать кулаком.
– Какие зубы хочешь ставить? Золото нельзя. Могу только железные.
– А мне и надо железные.
– Тогда корни тем более надо удалять. Давай посмотрим этот.
Его действительно отпустило. Тряска рук ушла, движения приобрели плавный и осмысленный характер.
После нескольких попыток он все-таки подцепил мой злополучный зуб и, ворочая всем телом, потянул его враскачку. Боль была нестерпимая. На миг я открыл глаза. Прямо передо мной маячила физиономия с гримасой, точно определяющей всю гамму испытываемых мною чувств.
– Так… терпи… пошел, бля, пошел!.. А куда он денется!
Рванув напоследок по-борцовски, он издал победный звук.
– Есть, блядь!.. А хуля делать – тюрьма! Сиди, рот не закрывай.
Перед моим носом проплыл несчастный зуб. Он пихнул в челюсть кусок ваты и вытер пот со лба.
– Зуб вырвать – это как год от срока – долой. Срок – он, блядь, как зубы – все равно когда-нибудь кончится! А сейчас посиди пока… Знаю – тяжело. Знаю – больно. Терпи. Через полчаса пройдет, тогда и пойдешь.
С чувством выполненного долга он подошел к столу, сделал запись в журнал, несколько раз глянул в пустую кружку, затем на меня, мычащего и мотающего от боли головой, и стал давать советы.
– До вечера не есть, не пить, не курить. Чтобы полегче было – крой всех мысленно матом. Да-да, всех этих мусо– ров. Мне когда хуево, а хуево мне всегда, – я их всех крою. Не потому, что насолили мне сильно, а просто зэков за что крыть? Штабные мусора мне покою не дают, до всего до– ебываются: то одеколоном пахнет, то клеем, то стеклоочистителем. А с хуя ли я буду коньяком пахнуть, если у меня зарплата как у студента! Им бы мою работу хоть на неделю, посмотрел бы я, чем от них запахнет. Дергать зубы – это не то, что себя за хуй дергать. Они когда приходят со своими проблемами, не спрашивают: нравится мне работа или нет? Они только одно спрашивают: больно будет или нет? А как мне быть? Кресла нового нет, бормашина старая, инструменты дореволюционные… И вот, сделай им, блядям, «не больно». Да еще – «насухую». Вот доработаю до пенсии, брошу все, пойду в артель золото мыть. А хуля – руки вон ходуном ходят, хе-хе, – две нормы давать буду.
Я сидел в кресле, глядел в потолок, держась рукой за стреляющую нестерпимой болью челюсть, и думал о том, что сейчас надо идти в штаб и попытаться прорваться к начальнику колонии. Оправдание на всякий случай было неплохое. Чем не повод? Дескать, пошел в санчасть лечить зуб. А там только рвут. А мне бы коронки поставить, чтобы хоть сколько-нибудь зубов на свободу вынести. Врач посоветовал пойти к начальнику, потому что сам таких вопросов не решает. И так далее. А потом разговор куда-нибудь да и выведет.
– Садись вот здесь, у стола, жди, пока кровь остановится, – сказал он и принялся греметь инструментами возле плитки. Я сел и начал медленно оглядывать кабинет, пытаясь хоть чем-то себя занять.
Синие, крашенные масляной краской панели стен, голая лампочка, торчащая из потолка на забеленном известкой шнуре. Вышарканный сапогами пол отвратительно коричневого цвета. Шкаф, стол, стул, ведро. Пыточное кресло. Все битое, драное и древнее. Как тут не запьешь? Представить себе: каждый день ходить в эту конуру рвать зубы. «Насухую». Каждый день – вопли, боль, кровь. А еще эта проклятая тряска рук. Одна радость – зэки. Эти не пожалуются, не заскандалят. Довольны они или нет – никто их не спрашивает. Все довольны. А кому не нравится – забудь сюда дорогу. И тогда, случись что – сам себе рвать будешь. Зэки – радость. Нет-нет, да и одеколончик принесут или пятерочку. Тогда можно портвейна или водочки взять. И с зубом обойтись поделикатнее. А «насухую»?.. Насухую – «чертей» или тех, кто по незнанию пришел с пустыми руками. Раз плохо башкой соображаешь – страдай. Хоть раз – но отстрадай!
Он суетился в углу, низкорослый, согбенный человечек. В своем последнем, пожалуй, прибежище. Перекладывал трясущимися руками железки, именуемые «инструментом». Выхватывал их из кипятка, обжигался, дул на руки и тихо матерился. Он даже не надевал белый халат. Халат был – не было надобности. Его сирая, потрепанная одежонка говорила о многом. Маленький, потерпевший в жизни всевозможные крушения мужичок, скорее всего, одинокий, выдирающий своими жуткими клещами, нет, не зубы – крохи для существования, осколки радостей, оборачивающихся флаконами одеколона. Единственное, что меняется, – это мы. Приходящие в лагерь и уходящие из него. Кто на свободу, кто – за забор, под жестяную табличку. Проходящие перед его глазами как тени. Больные тени – здоровые сюда не ходят. Конвейер. Стонущий, охающий, орущий от боли.
Мне вдруг стало его так жалко и так стыдно, что пришел без «анестезии». Ведь я, оказывается, без нее могу. А он – уже нет. Ему, значит, больнее. И он прячет, прячет эту боль на дне грязной, залапанной кружки. Но кружка пустеет, и боль снова выглядывает наружу.
– Дневальный!..
В дверь просунулась голова.
– Здесь.