Вечер в Византии Шоу Ирвин
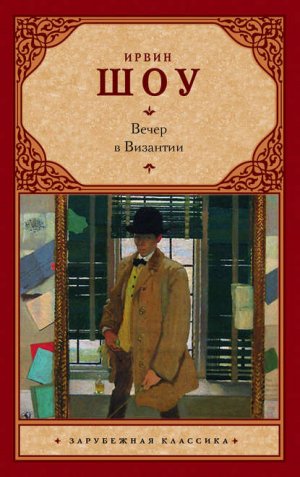
— Вы считаете меня глупой сплетницей…
— Нет, Элис, — ласково возразил он. — Просто я…
— Тише, — прервала она его и кивнула на официанта, подходившего к ним с подносом в руках.
Они молчали до тех пор, пока тот не вернулся к себе за стойку.
— Ну хорошо, — сказала Элис. — Вот что произошло потом. На следующее утро я получила дюжину красных роз. Анонимно. Без визитной карточки.
— Это могло означать что угодно, — сказал Крейг, хотя теперь он был убежден, что это не могло означать что угодно.
— И с тех пор каждый год пятого октября я получаю дюжину красных роз. Анонимно. Разумеется, он знает, что я знаю, кто их шлет. Он хочет, чтобы я знала. Это так противно. Всякий раз, когда я прихожу в ваш дом и вижу, как он ест ваши закуски и пьет ваши вина, я чувствую себя запачканной, точно я его сообщница. Мне было стыдно своего малодушия: почему я ничего не сказала ему и не сказала вам? И вчера вечером, увидев, как он сидит во главе стола, наливает вино и вообще ведет себя по-хозяйски, как он проводил всех гостей, а сам остался, я поговорила с Робертом. И он со мной согласился: я не могу больше молчать.
— Приятно было увидеться с вами. — Он поцеловал ее в щеку и встал.
— Я не знаю, каким моральным кодексом мы сейчас руководствуемся, — сказала Элис. — Может, нам и не надо так уж серьезно относиться к адюльтеру — мы смеемся, когда узнаем, что кто-то из наших друзей завел любовную интрижку. Я и про вас кое-что слышала.
— Ну конечно, слышали, — согласился Крейг. — И разумеется, в этом много правды. Мой брак — давно уже не образец супружеского счастья.
— Но то, что делает она, ни с чем не сравнимо, — сказала она прерывающимся голосом. — Вы замечательный человек. Настоящий друг. А этого ужасного коротышку я терпеть не могу. Сказать по правде, мне и Пенелопа перестала нравиться. При всем ее очаровательном гостеприимстве есть в ней что-то фальшивое и грубое. Уж если говорить о каком-то моральном кодексе, то для меня, например, он состоит в том, чтобы прийти на помощь другу, если он незаслуженно страдает. Вы недовольны, Джесс, что я все это вам рассказала?
— Еще не знаю, — в раздумье сказал он. — Во всяком случае, теперь я позабочусь о том, чтобы розами вам больше не докучали.
На следующий день он известил жену письмом, что возбуждает дело о разводе.
Другой бар. На этот раз — в Париже. В отеле «Крийон», совсем рядом с посольством. Он усвоил привычку встречаться с Констанс в этом баре — после окончания ее рабочего дня. Здесь было его постоянное пристанище. Все остальное время от бродил по городу, осматривал картинные галереи, толкался на рынках и среди молодежи Латинского квартала, заходил в магазины попрактиковаться в языке, сидел в кафе, читая газеты, иногда обедал с кем-нибудь из тех, кто работал с ним над фильмом, снимавшимся во Франции, и проявлял достаточно такта, чтобы не спрашивать, чем он занимается теперь.
Он любил этот бар, где собирались у стойки оживленные, шумные группы английских и американских журналистов, любил наблюдать непрерывный поток сменяющих друг друга вежливых, элегантно одетых пожилых американцев, которые еще до войны останавливались в этом отеле. Нравились ему и восхищенные взгляды, которые бросали на Констанс другие посетители, когда она, войдя в бар, шла к нему торопливым шагом.
Он встал ей навстречу и поцеловал в щеку. Несмотря на то что она просиживала целые дни в прокуренной конторе, от нее всегда веяло свежестью, словно она только что гуляла в лесу.
Она заказала себе шампанского, «чтобы удалить изо рта привкус молодости», как она поясняла.
— Всегда удивляюсь, — заметила она, потягивая шампанское, — когда вхожу и вижу, что ты здесь.
— Я же сказал, что приду.
— Да. И все равно удивляюсь. Каждое утро, расставаясь с тобой, я думаю: ну вот, уж сегодня-то он наверняка встретит какую-нибудь неотразимую красавицу или вдруг вспомнит, что вечером ему непременно надо быть в Лондоне, Загребе или Афинах, где выступает знаменитый актер или актриса.
— Ни в Лондоне, ни в Загребе, ни в Афинах нет никого, с кем я хотел бы встретиться, и единственная неотразимая красавица — это ты. Других я нынче не встречал.
— Какой ты милый. — Констанс сияла. Она по-детски любила комплименты. — Ну, рассказывай, чем ты сегодня занимался.
— Три раза я занимался любовью с женой перуанского оловянного магната…
— Вот как. — Она засмеялась. Ей нравилось, когда ее дразнили. Но не слишком.
— Постригся. Обедал в итальянском ресторанчике на улице Гренель, читал «Монд», зашел в три галереи и чуть было не купил три картины, выпил стакан пива в кафе «Флора», потом вернулся в гостиницу и… — Он замолчал, видя, что она не слушает. Констанс не сводила глаз с молодой американской четы, проходившей в глубь зала мимо их столика. Мужчина был высок ростом и с таким приятным и открытым лицом, что казалось, будто он никогда ни в чем не сомневался, не знал никаких огорчений и не представлял себе, что могут существовать люди, которые желали бы ему зла. Девушка, бледная высокая красавица с черными как смоль волосами, с темными, широко поставленными глазами, выдававшими ирландское или испанское происхождение, передвигалась с неторопливой грациозностью, ее темная соболья шуба ниспадала мягкими складками. Она улыбнулась каким-то словам мужа, взяла его под руку, и они пошли между стойкой и столиками, расположенными вдоль окон. Казалось, они никого в зале не замечали. Но не из-за неумения вести себя. Они просто были так заняты собой, что даже небрежный, мимолетный взгляд, когда можешь увидеть, а может быть, и узнать чье-то лицо, был бы для них расточительством, потерей драгоценного мига общения друг с другом.
Констанс смотрела им вслед до тех пор, пока они не скрылись в ресторане.
— Прости меня, — сказала она, повернувшись к Крейгу. — Кажется, я тебя не слушала. С этими людьми я была когда-то знакома.
— Прекрасная пара.
— О да.
— Сколько лет этой девушке?
— Двадцать четыре. По ее вине умер один мой знакомый.
— Что, что? — удивился Крейг. В баре отеля «Крийон» ее реплика прозвучала довольно неожиданно.
— Не пугайся, — сказала Констанс. — Люди все время оказываются виновниками смерти других людей.
— Но эта-то мало похожа на рядового убийцу.
Констанс засмеялась.
— Да никакая она не убийца. Тот мой знакомый был влюблен в нее. Однажды он прочитал в газете, что она вышла замуж, и через три дня скончался.
— Что за старомодная история, — сказал Крейг.
— Он и сам был старомоден. Восемьдесят два года.
— Как оказался восьмидесятидвухлетний старик твоим знакомым? — спросил Крейг. — Я, конечно, знаю, что тебе нравятся мужчины в возрасте, но не в таком же все-таки.
— Этого старика звали Кеннет Джарвис.
— Железные дороги.
— Железные дороги, — кивнула она. — В том числе. Среди многого другого. У меня был поклонник, работавший с внуком Джарвиса. Не смотри так сердито, милый. Это было до того, как мы с тобой встретились, задолго до того. Старик любил окружать себя молодежью. У него в Нормандии был огромный дом. Одно время он владел конюшнями скаковых лошадей. На субботу и воскресенье к нему съезжались гости, по двадцать-тридцать человек. Обычные развлечения: теннис, плавание, парусные лодки, выпивка, флирт и тому подобное. Всегда было весело. Только не со стариком. Когда я познакомилась с ним, он был уже дряхлый. Ел неряшливо, забывал застегнуть брюки, за столом дремал и даже храпел, по нескольку раз рассказывал одну и ту же историю.
— Это была плата за развлечения, — сказал Крейг.
— Те, кто знал его раньше, казалось, не обращали внимания на его немощь. Когда-то он был обаятельным, щедрым, воспитанным человеком. Большой любитель книг, картин, хорошеньких женщин. Его жена умерла, когда они оба были еще молоды, и с тех пор он уже не женился. Человек, с которым я туда ездила, говорил, что надо же чем-то платить за удовольствия, которыми этот человек всю жизнь одаривал людей. В конце концов, не такая уж это дорогая цена — смотреть, как у него течет слюна на галстук, или слушать по нескольку раз одну и ту же историю. Особенно если учесть, что в этом доме тебя, как всегда, и накормят, и напоят, и предоставят всевозможные удовольствия. А посмеивались над ним втихомолку только дураки.
— Избави меня боже дожить до восьмидесятилетия, — сказал Крейг.
— А ты дослушай до конца. Однажды к нему приехала бывшая любовница. И с ней дочь. Вот эта самая девушка, которую ты только что видел с мужем.
— Избави меня боже дожить до семидесятилетия.
— И он в нее влюбился, — сказала Констанс. — Это была настоящая, старомодная любовь. Каждый день письма, цветы, приглашения матери и дочери на яхту и прочее.
— Зачем это нужно было матери? И дочери? Из-за денег?
— Нет. Они были достаточно хорошо обеспечены. По-моему, их интересовало общение с людьми, которых в другом кругу не встретишь. Мать никаких вольностей девушке не позволяла. Ее единственный козырь. Когда я с ней познакомилась, ей было девятнадцать лет, а держалась она как пятнадцатилетняя. Когда ей кого-нибудь представляли, то казалось, что она вот-вот сделает книксен. Джарвис помог ей повзрослеть. Да и лестно к тому же выступать хозяйкой на больших званых ужинах, быть в центре внимания, уйти из-под власти матери. Быть предметом обожания человека, который в свое время всех знал, обо всех рассказывал анекдоты, распоряжался жизнями тысяч людей и крутил романы со всеми знаменитыми красавицами. Ей нравился этот старик — возможно, она по-своему его даже любила, власть над ним доставляла ей удовольствие. И вот он как-то вдруг переменился, помолодел, ожил. Ничего не забывал, при ходьбе держался прямо, не шаркал ногами, голос его окреп и перестал хрипеть, он стал безупречно одеваться, мог всю ночь напролет бодрствовать, а утром был подтянут и полон энергии.
Ну разумеется, кое-кто посмеивался. Восьмидесятидвухлетний старик, ослепленный любовью к девятнадцатилетней девушке, словно это его первая любовь и он пригласил ее на первый в ее жизни бал… Но я не так часто видела его, и меня это тронуло. Казалось, произошло чудо и время для него пошло вспять. Он снова стал молодым. Не совсем, конечно, не двадцати- или тридцатилетним, но лет пятьдесят-шестьдесят ему можно было дать.
— Ты же сказала, что он умер, — сказал Крейг.
— Да. Она познакомилась с молодым человеком, которого ты только что видел, и перестала встречаться с Джарвисом. Об их свадьбе он узнал из газеты. Прочтя эту новость, он уронил газету на пол, лег на кровать лицом к стене и через три дня скончался.
— Красивая, трогательная история, — сказал Крейг.
— По-моему, да. На похоронах один его друг сказал: «Но ведь это прекрасно — в наш век, в наше время быть способным в восемьдесят два года умереть от любви».
— В наш век, в наше время…
— Мог ли этот старик желать чего-нибудь лучшего? — спросила Констанс. — Месяцев восемь восхитительной, легкомысленной, веселой жизни — и такой благородный уход. Ни кислородной палатки, ни возни врачей, ни трубок и искусственных почек, ни переливания крови. Только любовь. Никто, конечно, девушку не обвинял. Только мужу ее завидовали. И старику. Обоим. У тебя как-то странно засветились глаза.
— Я думаю.
— О чем?
— Если бы кто-нибудь принес мне пьесу или киносценарий, основанный на истории этого старика, я бы, наверно, взялся за него. Только никто не несет.
Констанс допила свое шампанское.
— А почему бы тебе самому не написать? — спросила она.
Это был первый случай, когда она попыталась подсказать ему, что делать, и первый случай, когда он понял: она знает, что ему уже нельзя дальше жить так, как он жил.
— Надо подумать, — ответил он и заказал еще шампанского.
Утром он прошелся по набережной Сан-Себастьяна. Дождь перестал. Дул сильный ветер, воздух был чист, вдали, в заливе, маячила высокая скала, об нее бились волны, она была похожа на осажденную крепость. Здесь, у ворот земли, океан сталкивался с сушей.
Вспоминая места, знакомые ему по предыдущим поездкам, Крейг побрел в сторону большой арены для боя быков. Огромная, пустая — сезон еще не начался, — она походила на заброшенный храм какого-то забытого кровожадного божества. Ворота были отперты. Где-то стучали молотки, их удары гулко отдавались в темных углах под трибунами.
Он поднялся по проходу, облокотился на barrera. Песок на арене был не золотистого, как в других местах, а пепельного цвета. Цвета смерти. Он вспомнил слова матадора: «Только это развлечение у меня и осталось. Моя единственная площадка для игры». Сегодня вечером на несколько сот миль южнее этот человек, приятель Крейга, слишком старый для быков, со шпагой в руке, со следами крови на ярком костюме, с застывшей восторженной улыбкой на красивом молодом — и старом — изрубцованном лице, выйдет навстречу рогам. Придется послать ему телеграмму: «Желаю много ушей. Abrazo».[18] Телеграммы по случаю премьеры. У каждой культуры свои клише.
Послать бы еще телеграммы Джеку Лотону, страдающему в Бостоне от язвы желудка, Эдварду Бреннеру, стоящему в обнимку с женой на темной сцене в Нью-Йорке, Кеннету Джарвису, покупающему девятнадцатилетней девушке цветы, — каждый на своей арене, у каждого свои быки, свое единственное поле для игры.
На противоположной стороне арены появился сторож, одетый в какое-то подобие формы. Он угрожающе замахал руками, поднял над головой кулак и стал кричать что-то тоном приказания, словно боялся, как бы Крейг, этот полоумный пожилой espontaneo,[19] не перепрыгнул через загородку, не нарушил призрачного порядка и не вздумал вызывать на арену быка, которого здесь нет и не будет еще два месяца.
Крейг приветливо помахал ему рукой — перед тобой, мол, любитель fiesta brava,[20] который уважает правила игры и совершает паломничество по святым местам, — повернулся и вышел из-под трибун на солнце.
Пока он шел в гостиницу, в голове у него созрело решение.
Возвращаясь во Францию, он вел машину медленно, осторожно и не стал останавливаться на том месте, где накануне вечером едва не разбился. Прибыв в Сен-Жан-де-Люз, тихий в этот межсезонный период, он снял номер в небольшой гостинице, вышел на улицу и купил пачку бумаги. «Теперь я вооружен, — подумал он, неся бумагу в гостиницу. — Возвращаюсь на свое поле для игры. Через другие ворота».
Он прожил в Сен-Жан-де-Люзе два месяца, работая медленно и трудно, пытаясь воссоздать историю Кеннета Джарвиса, который умер в восемьдесят два года через три дня после того, как прочитал в газете, что девятнадцатилетняя девушка, которую он любил, вышла замуж за другого. Сначала он хотел сочинить пьесу, но постепенно эта история обрела иную форму, так что ему пришлось начать все заново. Он решил написать киносценарий. В театре ему с самых первых дней пришлось работать с писателями, предлагать изменения, перерабатывать целые сцены, добавлять новые сюжетные линии, но одно дело — работать над чужим сочинением и совсем другое — сидеть над листом чистой бумаги, в который только ты способен вдохнуть жизнь.
Два раза приезжала к нему на субботу и воскресенье Констанс, все же остальное время он провел один, просиживая долгие часы в гостинице за письменным столом, гуляя по пляжу и по набережной, обедая в ресторане, где он никогда не искал компании.
Он рассказал Констанс о своей работе. Та не высказала ни одобрения, ни неодобрения. Он не показывал ей написанного. Даже после двух месяцев труда показать было, в сущности, еще нечего — разрозненные сцены, голые мысли, наброски последовательного ряда кадров, заметки по отдельным ролям.
К концу второго месяца он понял, что рассказать историю о старике и молоденькой девушке — это еще не все. Не все, потому что в этой истории не остается места для него, Джесса Крейга. Не Джесса Крейга во плоти, не обстоятельств, которые заставили его сидеть изо дня в день за столом в тихом гостиничном номере, а его убеждений, его характера, его надежд, его суждений о времени, в которое он жил. Без этого все, что бы он в конце концов ни создал, окажется незавершенным, бесполезным.
Тогда он придумал несколько новых действующих лиц, новых любовных пар, которых поселил на лето в большом доме на северном побережье Лонг-Айленда, где и должно было развернуться действие фильма. Он не хотел, чтобы местом действия была Нормандия, потому что плохо знал ее. А Лонг-Айленд знал хорошо. В число персонажей он включил также девятнадцатилетнего внука, одержимого первой любовью к неразборчивой девице на три-четыре года старше его. Обогащенный опытом более поздних лет, он добавил в сценарий сорокалетних мужа и жену, для которых супружеская верность — устаревшее понятие.
Опираясь на знания, накопленные в процессе чтения и обработки чужих пьес и сценариев, используя собственные наблюдения над друзьями, врагами, знакомыми, он старался показать своих героев в естественной драматической взаимосвязи так, чтобы к концу фильма они, без видимого авторского участия, своими словами и поступками раскрыли перед зрителем его, Джесса Крейга, представление о том, что значит для американцев второй половины двадцатого века — молодого мужчины и молодой женщины, мужчины и женщины средних лет и старика, стоящего на пороге смерти, — что значит для них любовь со всеми интригами, компромиссами и унижениями, на которые человека толкают деньги, моральные принципы, власть, положение, принадлежность к определенному классу, красота и отсутствие красоты, честь и бесчестие, иллюзии и разочарования.
Два месяца спустя в городке стало многолюднее, и он решил, что пора уезжать. Дорога на север, в Париж, была дальняя. Сидя за рулем, он раздумывал о работе, проделанной за эти два месяца, и пришел к выводу: счастье, если он закончит сценарий хотя бы через год. Если вообще когда-нибудь закончит.
Сценарий отнял у него полных двенадцать месяцев. Крейг писал его по частям то в Париже, то в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. Всякий раз, когда он достигал точки, с которой никак не мог сдвинуться, он складывал вещи и, словно его преследовали, мчался куда глаза глядят. Но за все это время он ни разу не заснул за рулем.
Даже закончив рукопись, он никому ее не показывал.
Ему, решавшему судьбу произведений сотен других авторов, невыносимо было даже думать о том, что кто-то посторонний прочтет его писания. А посторонним он считал любого читателя. Посылая рукопись машинистке, он не поставил на титульном листе имени автора. Только надпись: «Собственность Джесса Крейга». Джесса Крейга, когда-то считавшегося вундеркиндом Бродвея и Голливуда и тонким ценителем театра и кино. Джесса Крейга, который не знает, достойны ли плоды его годичного труда чьего-нибудь двухчасового внимания; и который боится услышать «да» или «нет».
Когда он, собираясь лететь в Канн, укладывал в чемодан шесть экземпляров сценария под названием «Три горизонта», имя автора на титульном листе все еще не значилось.
Зазвонил телефон. Он ошалело тряхнул головой, точно его вдруг пробудили от тяжелого сна. Опять ему пришлось вспоминать, где он находится и где стоит телефон. «Я в своем номере в отеле „Карлтон“, а телефон на столике, по ту сторону кресла». Телефон опять зазвонил. Он взглянул на часы: тридцать пять минут второго. Он помедлил, думая, надо ли брать трубку. Ему не хотелось больше слушать бессвязное бормотание из Америки. Но он все же решил взять.
— Крейг слушает.
— Привет, Джесс. — Это был Мэрфи. — Надеюсь, я не разбудил тебя.
— Нет, не разбудил.
— Только что прочел твой сценарий.
— Ну как?
— Этот парень Харт умеет писать. Только слишком уж он насмотрелся старых французских фильмов. Кому, черт возьми, нужен восьмидесятидвухлетний старик? Ничего из этого не получится, Джесс. Брось. Не советую никому и показывать. Поверь, что это тебе только повредит. Откажись от прав на рукопись и забудь про нее. Лучше я устрою тебе тот греческий фильм. А там, глядишь, подвернется что-нибудь и получше.
— Спасибо, что прочел, Мэрф, — сказал Крейг. — Завтра я тебе позвоню.
Он положил трубку и долго смотрел на телефон, потом вернулся к письменному столу, за которым только что сидел. Посмотрел на вопросник, присланный Гейл Маккиннон, и еще раз прочел первый вопрос: «Почему вы в Канне?» Он усмехнулся, взял со стола листки и, разорвав их на мелкие кусочки, бросил в корзину. Снял с себя свитер, надел пиджак и вышел. Взял такси и поехал в казино, где бар не закрывался всю ночь. Купил себе фишек, подсел к столу, за которым играли в chemin de fer[21] и заказал двойную порцию виски. Он пил и играл до шести утра и выиграл тридцать тысяч франков, то есть почти шесть тысяч долларов. Большая часть денег перешла к нему от тех двух англичан, которых он видел вечером в ресторане, где был Пикассо. Йену Уодли не повезло — он не прогуливался по бульвару Круазетт, когда Крейг, окутанный предрассветной мглой, возвращался, почти не шатаясь, в свой отель. В тот час Уодли получил бы пять тысяч долларов, нужные ему для поездки в Мадрид.
9
Полицейские с электрическими фонариками в руках указывали автомобилям дорогу к открытой площадке, где уже стояло много машин. Было сыро и холодно. Крейг выключил зажигание, открыл дверцу и ступил на траву. Под ногами хлюпала вода. Выбравшись на дорожку, он зашагал к большому, похожему на замок дому, откуда доносились звуки оркестра. Дом стоял на холме за Мужэном и возвышался, точно маленькая крепость, над окружающей местностью.
Он пожалел, что Энн еще не приехала. Ей было бы приятно пройтись вот так вместе с отцом под звуки французской песенки, в сопровождении полицейских, которые охотно освещают вам дорогу под старыми темными деревьями, радуясь, что им не надо швырять бомбы со слезоточивым газом перед зданием правительства. Телеграмма Энн лежала у него в кармане. Он был несколько удивлен — она все же решила сначала навестить в Женеве мать и только на следующий день приехать в Канн.
Уолтер Клейн, хозяин, встречал гостей. Он арендовал этот дом на один месяц, выбрав его потому, что он достаточно велик для балов. Клейн был крепкий, коренастый человек с моложавым и обманчиво беспечным лицом. В последние годы многие посреднические фирмы прекращали существование и сливались с другими фирмами; одну из таких распадающихся организаций Клейн своевременно оставил, уведя за собой ряд известных актеров и режиссеров, так что, пока другие посреднические фирмы и компании горели, он ловко приспосабливался к новым условиям. Это позволило ему сохранить за собой значительную долю участия в фильмах, готовившихся или снятых в Америке и Англии; во всех ключевых точках у него были клиенты или должники, чьи картины он либо финансировал, либо распространял. В то время как другие впадали в панику, он говорил: «Ребята, дела у нас идут лучше, чем когда-либо». В отличие от Мэрфи, разбогатевшего в менее трудные времена и высокомерно державшегося в течение этих двух недель в стороне от фестивальной нервозности, Клейн не чурался людей. Его всегда можно было увидеть сосредоточенно беседующим где-нибудь в уголке с продюсерами, режиссерами, актерами и обсуждающим всевозможные финансовые сделки, что-то обещающим, что-то подписывающим. Себе в помощники он выбрал спокойных, представительных молодых людей, не избалованных легкой жизнью в старые времена, алчных и честолюбивых, как их хозяин, и умевших, подобно хозяину, под внешним обаянием скрывать свои хищные повадки.
Некоторое время назад Клейн встретил Крейга в Нью-Йорке и полушутя спросил: «Джесс, когда же вы оставите этого старого динозавра Мэрфи и заглянете ко мне в контору?» — «Наверно, никогда, Уолт, — ответил Крейг. — Наша дружба скреплена кровью». Клейн засмеялся. «Ваша верность делает вам честь, Джесс. Только жаль, что давно я уже не встречаю вашего имени на серебристом экране. Если все же решите заняться настоящим делом, заходите».
Клейн стоял в мраморном холле и разговаривал с кем-то из только что прибывших гостей. На нем был черный бархатный пиджак, рубашка в оборочках и ярко-красный галстук-бабочка. Рядом с ним стояла, заметно волнуясь, женщина, ведавшая в его фирме отделом рекламы и информации. Это она рассылала приглашения на прием. Вид Крейга, одетого в синий фланелевый спортивный костюм, ей явно не понравился. Многие гости, хотя и не все, пришли в вечерних костюмах, и по лицу этой женщины Крейг понял, что в его небрежении к одежде она усматривает некоторую нарочитость.
Клейн крепко пожал ему руку и улыбнулся.
— А вот и наша знаменитость. Я боялся, что вы не придете. — Он не объяснил, почему боялся, что Крейг не придет, и представил его гостям, с которыми только что разговаривал. — Тонио Корелли. Вы его, конечно, знаете, Джесс? — Только визуально. — Корелли был тот самый молодой красавец — итальянский актер, которого Крейг видел у плавательного бассейна отеля «На мысу». На нем был великолепный черный смокинг от дорогого портного. Они обменялись рукопожатием.
— Может, вы познакомите его со своими дамами, carino?[22] — предложил Клейн. — Я не разобрал ваших имен, душеньки, — добавил он извиняющимся тоном.
— Это Николь, — сказал Корелли, — а это Айрин.
Николь и Айрин покорно улыбнулись. Такие же хорошенькие, загорелые и стройные, каких Крейг видел с Корелли у бассейна, только это были уже не те девушки, а другие. «У него каждая пара подобрана под стать, — подумал Крейг, — и каждой — свое время». Он чувствовал, что завидует. Да и кто не позавидует?
— Дорогая, — сказал Клейн, обращаясь к своей помощнице, — проводите их в дом и дайте чего-нибудь выпить. Захочется танцевать, — обратился он к девушкам, — смотрите не простудитесь. Оркестр играет на открытом воздухе. Погода мне не подвластна, и вот — зима к нам вернулась. Веселый месяц май.
Трио, сопровождаемое помощницей Клейна, грациозно удалилось.
— Все, что требуется, — это родиться итальянцем, — с улыбкой сказал Клейн.
— Пожалуй, — сказал Крейг. — Только вы и так неплохо живете. — Он показал на роскошное убранство дома, за аренду которого на один месяц, как он слышал, с Клейна взяли пять тысяч долларов.
— Да я не жалуюсь. Плыву себе по течению, — сказал, ухмыляясь, Клейн. Он не скрывал, что гордится своим богатством. — Берлога довольно уютная. Ну вот, Джесс, мы и снова встретились. Я очень рад. Как дела?
— Прекрасно, — ответил Крейг. — Просто прекрасно.
— Я пригласил Мэрфи и его фрау, — сказал Клейн, — но они, поблагодарив, отказались. С мелкой сошкой не знаются.
— Они отдыхать сюда приехали, — солгал за своего друга Крейг. — Предупреждали меня, что всю эту неделю будут рано ложиться спать.
— Великий был человек этот Мэрфи. В свое время. Вы, конечно, с ним еще не порвали?
— Конечно.
— Я уже как-то говорил, что ваша верность делает вам честь. Вы с ним сейчас чем-нибудь связаны? — Клейн задал этот вопрос как бы невзначай, глядя в сторону, на гостей, проходивших под аркой в большую гостиную.
— Насколько я знаю, нет, — ответил Крейг.
— А у вас у самого есть какие-нибудь планы? — Клейн повернулся к Крейгу.
Крейг помолчал.
— Возможно. — Он никому еще, кроме Констанс и Мэрфи, не говорил, что у него зародилась мысль о новой картине. Но Мэрфи ясно — более чем ясно — определил свою позицию. Так что слово «возможно» Крейг обронил не случайно. Из тех, кто приехал на фестиваль, самым полезным мог быть Клейн с его энергией и обширными связями. — Есть у меня одна идейка.
— Вот это новость! — Восторг, прозвучавший в голосе Клейна, казался почти естественным. — Слишком уж надолго вы оторвались от дел, Джесс. Если вам нужна будет помощь, вы ведь знаете, к кому за ней обратиться? — Клейн ласково коснулся его плеча. — Для друга ничего не жалко. Мы сейчас такие дела делаем, что даже у меня голова кружится.
— Слыхал. Может быть, я позвоню вам на этих днях, тогда поговорим.
Вот уж обиделся бы Мэрфи, услышав это обещание. Он гордился своей проницательностью и сердился, если его клиенты или друзья не слушались его совета. К Клейну он относился с презрением: «Этот несчастный маленький пройдоха, — говорил он о нем, — через три года от него и следа не останется». Но Мэрфи теперь не делает ничего такого, от чего кружилась бы голова.
— Здесь в саду есть плавательный бассейн, — сказал Клейн. — Приходите в любое время. Даже без предварительного звонка. В этом доме вам всегда будут рады. — Клейн снова ласково потрепал Крейга по плечу и повернулся к вновь прибывшим гостям. А Крейг отправился в гостиную.
Там было полно народу: в сад, где играл оркестр, из-за холода никто не хотел идти. Крейгу пришлось несколько раз извиниться, прежде чем он протиснулся к бару между креслами и диванами, вокруг которых теснились гости. Он попросил шампанского. Возвращаться в Канн надо было в машине, и если весь вечер пить виски, то ехать потом по темным извилистым дорогам между холмами рискованно.
Корелли и две его девицы стояли у бара.
— Лучше бы нам сегодня пойти к французам, — сказала одна из них, судя по выговору — англичанка. — Здесь одни старики. Средний возраст — сорок пять.
Корелли улыбнулся, осветив зал блеском своих зубов. Крейг отвернулся от бара и стал смотреть на публику. Вот Натали Сорель сидит в дальнем углу и увлеченно беседует о чем-то с мужчиной, присевшим на подлокотник ее кресла. Крейг знал, что она близорука, поэтому на расстоянии не увидит его. Но сам-то он видит достаточно хорошо, и, что бы там ни говорила английская девушка, никак не назовешь Натали Сорель старухой.
— Мне рассказывали, что каннские балы не такие, — продолжала англичанка. — Буйные. Бьют посуду, пляшут голышом на столах и устраивают оргии в плавательных бассейнах. Римская империя периода упадка.
— Так было в прежние времена, cara,[23] — сказал Корелли. Он говорил с сильным акцентом. Крейг видел его в нескольких английских фильмах и теперь понял, что Корелли озвучивают другие актеры. Не исключено, что у него и зубы не свои. От этой мысли ему стало легче.
— Да уж буйство — дальше некуда! Как на чаепитии у священника, — сказала девушка. — Может быть, сделаем реверанс и исчезнем?
— Это невежливо, carissima, — возразил Корелли. — Кроме того, здесь полно влиятельных людей, которых молодые актеры не должны обижать.
— Как это скучно, милый.
Крейг окинул гостиную взглядом, высматривая друзей, врагов, нейтралов. Кроме Натали, здесь была французская актриса Люсьен Дюллен; она расположилась в самом центре зала — словно безошибочный инстинкт довел ее именно до этого места, — в кругу постоянно сменявшегося почетного караула молодых людей. Красивейшая из женщин, каких Крейг когда-либо встречал. На ней простое открытое белое платье, волосы, стянутые на затылке тугим узлом, выгодно подчеркивали тонкие черты лица и изящные длинные линии шеи, нисходящие к прелестным плечам. Неплохая актриса, но для женщины с ее внешностью этого мало. Она должна быть второй Гарбо. Крейг не был с ней знаком и не хотел знакомиться, но ему доставляло огромное удовольствие смотреть на нее.
Вон огромный толстый англичанин. Молодой еще, ему чуть больше тридцати. Его, как и Корелли, сопровождают две молодые женщины. Истерически смеются какой-то его шутке. Крейгу показывали этого англичанина на пляже. Он банкир. Рассказывали, будто всего месяц назад в своем собственном банке в Лондоне он лично вручил Уолту Клейну чек на три с половиной миллиона долларов. Теперь понятно, почему эти две дамочки вьются около него и почему так смеются его остротам.
Возле камина Брюс Томас разговаривает с тучным лысым мужчиной. В нем Крейг узнал Хеннесси, режиссера фильма, намеченного к показу на фестивале в конце недели. Томас снял картину, которая уже полгода идет на экранах Нью-Йорка, а фильм Хеннесси, его первый боевик, пользуется небывалым успехом в кинотеатре на Третьей авеню. На фестивале ему уже сейчас прочат премию.
Йен Уодли — он так и не уехал в Мадрид — стоит и беседует с Элиотом Стейнхардтом и каким-то еще человеком — статным мужчиной в темном костюме, с бронзовым от загара лицом и копной черных с проседью волос. Человек этот показался Крейгу знакомым, но он никак не мог вспомнить его имени. Уодли выпирает из своего смокинга — сразу видно, что он покупал его в лучшие, и более молодые годы. Он еще не пьян, но раскраснелся и говорит быстро. Элиот Стейнхардт благосклонно слушает, губы его изогнулись в легкой усмешке. Ему около шестидесяти пяти лет, он небольшого роста, насмешливый, с резкими, лисьими чертами лица и ехидными глазами. У него на счету десятка два фильмов, имевших огромный успех еще в середине тридцатых годов, и, хотя нынешние критики высокомерно называют его старомодным, он спокойно продолжает выпускать один боевик за другим, как будто успех сделал его неуязвимым для поношений и смерти. Крейг относился к нему с симпатией и уважением. Если бы не присутствие Уодли, он подошел бы к нему и поздоровался. «Подойду после, когда он будет один».
На большом диване сидит Мэррей Слоун, критик, пишущий для рекламной киногазеты. Как ни странно, придерживается авангардистских взглядов. Волнуется, только когда сидит в темном просмотровом зале. Сейчас он беседует с каким-то незнакомцем. Круглолицый, коричневый от загара, улыбчивый, Слоун так влюблен в свою профессию, что порвал (он сам признался в этом Крейгу) с женщиной, с которой сошелся на Венецианском фестивале, из-за того, что она не слишком ценила талант Бунюэля.
«Что ж, — подумал Крейг, оглядывая зал. — Не знаю, умна или не умна эта английская красотка, но она права в том отношении, что ничто на этом балу не говорит об упадке. Богатая, пристойная, приятная публика. Какие бы встречные течения ни сталкивались в этом зале, какие бы пороки ни скрывались под элегантными нарядами, все тщательно прикрыто. Любимые и нелюбимые, состоятельные и несостоятельные — все соблюдают вечернее перемирие. Честолюбие вежливо соседствует с безысходностью.
В старое время в Голливуде званые вечера были не такие. Те, кто зарабатывал по пять тысяч долларов в неделю, не приглашали к себе тех, кто зарабатывал меньше. Нувориши, поднявшиеся из пепла старого общества. Движение пролетариата к „Моэту“, „Шандону“ и к блюду с икрой».
Он заметил, что статный мужчина, разговаривавший с Уодли и Элиотом Стейнхардтом, посмотрел в его сторону, улыбнулся, помахал рукой и пошел к нему. Крейг на всякий случай улыбнулся в ответ, стараясь вспомнить, где же он встречал этого человека и как его зовут.
— Здравствуй, Джесс, — сказал тот, протягивая руку.
— Привет, Дэвид, — ответил Крейг. Они обменялись рукопожатием. — Хочешь верь, хочешь нет, а я тебя не сразу узнал.
Мужчина засмеялся.
— Это из-за шевелюры. Меня никто не узнает.
— Да и неудивительно, — сказал Крейг.
Дэвид Тейчмен, один из первых знакомых Крейга по Голливуду, в те годы был лыс.
— Это парик, — объяснил Тейчмен, самодовольно поглаживая себя по волосам. — В нем я выгляжу лет на двадцать моложе. Чтоб женщины любили. По второму кругу. Кстати, о женщинах: в Париже я ужинал с твоей приятельницей. Это она сказала мне, что ты здесь, и я решил разыскать тебя. Я приехал только сегодня утром и весь день играл в карты. Подружка у тебя — ого! Поздравляю.
— Спасибо, — сказал Крейг. — Ты не сердишься, когда люди спрашивают, зачем тебе понадобилась эта грива?
— Нисколько. Мне сделали на кумполе маленькую операцию, и док на память о себе оставил в нем две дырки. Так что пришлось их прикрыть. Что и говорить, хорошего в этой косметике мало, однако не пугать же мне, старику, малых детей и юных девиц. Наш парикмахерский цех расстарался как мог, выдали мне лучшую шевелюру. Единственное, что эта чертова студия создала стоящего за последние пять лет.
При упоминании студии Тейчмен крепко стиснул свои вставные зубы. Его уже более года тому назад отстранили от руководства ею, но он все еще говорил о студии как о своей вотчине. Двадцать пять лет он безнаказанно тиранствовал там, и примириться с мыслью, что это уже не его вотчина, было нелегко. Лысая голова придавала ему весьма внушительный вид, она чем-то напоминала пушечное ядро. Лицо мясистое, грубое — то ли римский император, то ли шкипер торговой шхуны, — с глубокими морщинами на дубленой коже, как у человека, который круглый год проводит с солдатами в походах или с матросами на палубе судна. Голос у него был под стать внешности — грубый и властный. В счастливую пору расцвета его студия выпускала фильмы изящные, грустно-комические — еще одна неожиданность в этом удивительном городе. В парике же он выглядел совсем иначе — ласковым, беззлобным, и голос его, как бы приспособившись к его новому облику, стал тихим и грустным.
Тейчмен огляделся вокруг и, тронув Крейга за рукав, сказал:
— Ой, Джесс, не нравится мне здесь. Будто стая стервятников на скелетах гигантов. Во что превратился нынче кинематограф, Джесс! Громадные старые скелеты с уцелевшими кусочками мяса и эти хищники, рвущие остатки. Что они снимают в погоне за Всемогущим Долларом? Варьете с голыми девками. Порнографию и кровопролитие. Ехали бы в Данию и смотрели бы все это там. И театр не лучше. Мерзость. Что такое сегодня Бродвей? Сводники, проститутки, торговцы наркотиками, фигляры. Я понимаю, почему ты от всего этого сбежал.
— Ты, как обычно, преувеличиваешь, Дэвид, — сказал Крейг. Он работал на студии Тейчмена в пятидесятые годы и еще тогда заметил в нем склонность к риторике, проявлявшуюся обычно, когда он хотел переспорить какого-нибудь умного оппонента. — И теперь делают неплохие картины, а на Бродвее и вне Бродвея есть немало способных молодых драматургов.
— Назови хотя бы одну. Одну хорошую картину.
— Почему одну, я две назову. И даже три, — весело сказал Крейг. — Причем их авторы здесь, в этом зале. Возьмем Стейнхардта, Томаса и вон того новенького, который разговаривает сейчас с Томасом, — Хеннесси.
— Стейнхардт не в счет, — возразил Тейчмен. — Он из старой гвардии. Скала, оставшаяся стоять после ухода ледника. Что касается этих двоих… — Тейчмен презрительно фыркнул. — Пустоцветы. Гении на час. Да, конечно, время от времени кто-то добивается успеха. Бывает. Они и сами не всегда могут понять, как это выходит: просыпаются и видят, что им счастье привалило. Я не об этом говорю, дружище, а о настоящем профессионализме. Чаплин, Форд, Стивенс, Уайлер, Капра, Хоукс, Уайлдер, ты, если угодно. Хотя ты, пожалуй, стоишь особняком, выпадаешь из ряда. Надеюсь, ты не в претензии.
— Не в претензии, — сказал Крейг. — Обо мне говорят кое-что и похуже.
— О нас о всех говорят. Живые мишени. Ну ладно, я наснимал много дряни. Готов это признать. Четыреста-пятьсот фильмов в год. Шедевры пачками не родятся, спору нет. Но пусть дрянь, пусть массовое производство — свою службу это все равно сослужило. Теперь к услугам крупных воротил — налаженный механизм; актеры, рабочие ателье. Декораторы, публика. Сыграло наше кино свою роль и в другим отношении: оно завоевало для Америки мир. Ты смотришь на меня как на помешанного, но это не так. Что бы ни говорили о нас разные модные критики-интеллектуалы, но и им было приятно сознавать, что нас любит все человечество, что мы его возлюбленные, его герои. Ты думаешь, мне из-за того стыдно, что я был причастен к этому делу? Ничего подобного. Я скажу тебе, из-за чего мне стыдно. Мне стыдно, что мы все это потеряли. И, если хочешь, я скажу тебе, когда именно это случилось. Даже если не хочешь — скажу. — Он ткнул Крейга пальцем в плечо. — В тот самый день, когда мы подчинились этим тупицам в Конгрессе, когда сказали: «Слушаюсь, сэр, мистер Конгрессмен, мистер ФБР-мен, я сделаю все, что угодно; вам не нравятся политические взгляды этого писателя, или поведение этой актрисы, или темы десятка моих будущих фильмов? Слушаюсь, сэр, ну разумеется, сэр, мы всех уволим, все отменим. Вы только мизинцем пошевелите, и я перережу горло своему собственному другу». До этого мы были счастливы, красавцы двадцатого века, мы острили, и весь мир смеялся нашим остротам, мы любили так, что весь мир завидовал нашему умению любить, мы закатывали пиры, на которых все хотели присутствовать. А после этого превратились в жалкую кучку хныкающих евреев и мечтали лишь о том, чтобы во время очередного погрома убили не нас, а соседа. Публика увлеклась телевидением — и правильно сделала. Телевизионщики по крайней мере не скрывают, что хотят продать тебе какой-нибудь товар.
— Дэвид, — сказал Крейг, — у тебя покраснело лицо.
— Еще бы. Успокой меня, Джесс, успокой. Мой доктор тебе спасибо скажет. Я жалею, что пришел сюда. Впрочем, нет. Я рад случаю поговорить с тобой. Я еще не конченый человек, каким бы конченым ни казался. У меня план один созревает — большое дело, — Тейчмен заговорщицки подмигнул. — Мне нужны талантливые люди. Старой формации. И дисциплины. Капитаны, а не капралы. Такие, как ты, например. Конни сказала, что у тебя есть какая-то идейка. Советовала поговорить с тобой. Или это болтовня?
— Не совсем, — ответил Крейг. — Есть кое-что.
— Да уж пора бы. Позвони мне утром. Потолкуем. Тут не в деньгах дело. Дэвид Тейчмен не из тех, кто делает второсортные фильмы. А теперь извини, Джесс, мне надо уходить. Трудно стало дышать, когда волнуюсь. Меня и доктор постоянно просит не волноваться. Не забудь, что я сказал. Утром. Я остановился в «Карлтоне». — Он пригладил свою роскошную седеющую шевелюру и зашагал прочь подчеркнуто твердой походкой.
Крейг посмотрел вслед одеревенелой, негнущейся фигуре, проталкивавшейся к выходу, и покачал головой. Приверженец дела, которое проиграно, историк эпохи распада. И все же он решил утром позвонить ему.
Крейг заметил, что мужчина, разговаривавший с Натали Сорель, встал и, взяв ее бокал, начал пробираться сквозь толпу к бару. Крейг решил воспользоваться этим и шагнул было в сторону Натали, но как раз в это время дверь из патио открылась и вошла Гейл Маккиннон вместе с каким-то низеньким, болезненного вида мужчиной, лицо которого показалось Крейгу знакомым. Лет за тридцать, редеющие спутанные волосы, под глазами нездоровые желтоватые мешки. Он был в смокинге, Гейл Маккиннон — в дешевом коротком, выше колен, ситцевом платье. Но на ней оно не выглядело дешевым. Она улыбнулась Крейгу, и уклониться от встречи с ней было уже нельзя. По необъяснимой причине ему не хотелось, чтобы она видела его беседующим с Натали Сорель. Они не виделись с тех пор, как расстались после ленча у Мэрфи, но это и не удивительно, поскольку он не вылезал из своего номера — лечился от простуды.
— Добрый вечер, мистер Крейг, — сказала Гейл Маккиннон. — Опять мы встретились!
— Да.
— Позвольте вам представить… — начала было она, повернувшись к своему спутнику.
— Мы уже знакомы, — объявил мужчина неприязненным тоном. — Давно. По Голливуду.
— Боюсь, что память изменяет мне, — сказал Крейг.
— Моя фамилия Рейнолдс.
— Ах да. — Крейг вспомнил фамилию, но не мог сказать, действительно ли он когда-нибудь встречался с этим человеком. Рейнолдс писал рецензии на кинофильмы для одной лос-анджелесской газеты. — Ну конечно. — Он протянул руку. Рейнолдс с видимой неохотой протянул ему свою.
— Пошли, Гейл, — сказал Рейнолдс. — Мне выпить хочется.
— Иди выпей, Джо, — сказала Гейл Маккиннон. — А я пока поговорю с мистером Крейгом.
Рейнолдс проворчал что-то и стал пробираться к бару.
— Что с ним? — спросил Крейг, озадаченный неприкрытой враждебностью Рейнолдса.
— Так, выпил лишнего.
— Эпитафия всем нам, — сказал Крейг и сделал глоток шампанского. — Чем он занимается так далеко от Лос-Анджелеса?
— Он уже два года представляет в Европе одно телеграфное агентство, — сказала девушка. — И очень мне помогает. — Крейгу показалось, что она как бы защищает Рейнолдса. Неужели у них роман? Он такой невзрачный, угрюмый. Но кто знает, в Канне от девушки всего можно ожидать. Теперь Крейг вспомнил, почему лицо этого человека показалось ему знакомым: это он подсел тогда на террасе отеля «Карлтон» к столику Гейл Маккиннон.
— Он помешан на кино, — продолжала девушка. — Помнит все картины, даже старые. Он для меня — кладезь информации. Видел все ваши фильмы…
— Возможно, поэтому он такой грубый, — сказал Крейг.
— Нет, что вы! Они ему нравятся. Некоторые из них.
Крейг засмеялся.
— Временами ваша молодость проявляется не только во внешности.
— Вон та дама машет вам рукой, — сказала девушка.
Крейг перевел взгляд туда, где сидела Натали Сорель. Та жестами подзывала его к себе. Все-таки разглядела его, несмотря на близорукость. Он поднял руку в знак приветствия.
— Это старая приятельница, — сказал он. — Прошу прошения…
— Вы получили вопросы, которые я оставила вам в отеле?
— Да.
— И что?
— Я порвал их.
— О, какой вы злой, — сказала девушка. — Таких злых людей я еще не встречала. Много слышала о вас плохого, но никто еще не говорил, что вы злой.
— Меняюсь с каждым днем, — ответил он. — Иногда даже быстрее.
— Джо Рейнолдс предупреждал меня насчет вас. Я не хотела вам этого говорить, но теперь уж все равно. У вас есть враги, мистер Крейг, и пусть это будет вам известно. Знаете, почему Рейнолдс так груб с вами?
— Не имею понятия. Я и видел-то этого человека всего один раз — в то утро, когда вы приходили ко мне.
— Возможно. Хотя он говорит, что вы встречались. И однажды вы кое-что про него сказали.
— Что именно?
— Он написал очень хвалебную рецензию на одну из ваших картин, а вы сказали: «Этот человек так плохо пишет. Я злюсь на него, даже когда он меня хвалит».
— Когда я это сказал?
— Восемь лет назад.
Крейг засмеялся.
— Ни одно живое существо так не обидчиво, как критик.






