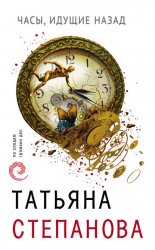Семя желания Бёрджесс Энтони

– Такой ужасный был день! – воскликнула она. – Я была так несчастна. Мне было так одиноко.
– Дражайшая! Какая же я скотина! – Он снова ее обнял. – Мне так жаль. Мне очень жаль. Я думаю только о себе.
Удовлетворенная, она продолжала всхлипывать. Он поцеловал ее в щеку, в шею, в лоб, коснулся губами волос цвета сидра. От нее пахло мылом, от него – всеми ароматами Аравии. Обнявшись, они неловко, словно в каком-то не упорядоченном музыкой танце, добрались до спальни. Рычаг, который по дуге (очень похожей на ту, которой Тристрам очертил Пелфазу) опускал кровать на пол, давно уже был нажат. Дерек быстро разделся, обнажив худощавое тело с узлами и буграми мышц, а потом мертвый глаз телевизора на потолке смог посмотреть, как ерзает мужское тело (темное, как запеченный сухарь, но с налетом красноватого) и женское (перламутровое, тонко подернутое голубым и карминовым) во вступлении к акту, который был одновременно и адюльтером, и инцестом.
– Ты не забыла? – тяжело спросил Дерек.
Теперь уже не существовало никакого идеального наблюдателя, который мог бы подумать про миссис Шенди и, подумав про нее, усмехнуться[8].
– Да, да!
Она приняла таблетки, все было совершенно безопасно. Только когда точка невозврата была достигнута, она вспомнила, что принятые ею таблетки были обезболивающими, а не противозачаточными. Рутина все-таки иногда подводит. А потом уже было слишком поздно и ей стало наплевать.
Глава 10
– Продолжайте, – сказал Тристрам, хмурясь, что было для него нетипично. – Дальше читайте сами.
Седьмой поток четвертого класса уставился на него, разинув глаза и рты.
– Я ухожу домой, – заявил он. – На сегодня с меня хватит. Завтра будет контрольная работа по материалу со страниц двести шестьдесят семь – двести семьдесят четыре включительно вашего учебника. Хроническая ядерная угроза и наступление Вечного Мира. Данлоп! – рявкнул он вдруг. – Данлоп!
У мальчишки была черная, как каучук, физиономия, но в эпоху тотальной национализации его фамилия не казалась ни уместной, ни неуместной.
– Ковыряние в носу неприглядная привычка, Данлоп.
Класс захихикал.
– Продолжайте, – повторил Тристрам от двери, – и очень доброго вам дня. Или раннего вечера, – поправился он, глянув на розоватое небо над морем.
Как странно, что в английском языке так и не придумали слов прощания, подобающих для этого времени суток… Своего рода Промфаза. Пелагианский день, августинская ночь.
Тристрам храбро вышел из классной комнаты, прошел по коридору к лифту, а затем поспешил вниз, прочь из гигантского здания. Никто не препятствовал его уходу: учителя просто не бросали классы до финального колокола, – и следовательно, Тристрам в каком-то метафизическом смысле все еще находился на работе.
Он уверенно плыл поперек движения, рассекал толпы на Ирп-роуд (приливные волны накатывали со всех сторон разом), и на перекрестке свернул налево, на Даллас-стрит. И тут, как раз поворачивая на Макгиббон-авеню, увидел нечто, от чего похолодел без видимой или объяснимой на то причины. Посреди дороги, блокируя редкое движение, рассматриваемая прохожими, которые держались на порядочном расстоянии, стояла рота мужчин в серых мундирах полиции – три взвода с сержантами. Большинство полицейских неловко улыбались, переминались с ноги на ногу – новобранцы, догадался Тристрам, новые рекруты, но каждый уже вооружен коротким и толстым, тускло поблескивающим карабином. Книзу их штаны сужались и заканчивались черными эластичными манжетами, обжимавшими верхушку сапог на толстой подошве; приталенные кители казались странно архаичными из-за воротников, на которых поблескивали медью нашивки. И, точно этого было мало, на всех красовались черные галстуки. Каски им заменяли серые фуражки с длинным козырьком, над лобными долями зловеще сверкали полицейские значки.
– Нашли-таки, куда их пристроить, – произнес мужской голос рядом с Тристрамом. Говоривший был небрит, в поношенной черной одежде, под подбородком – зоб, точно валик жира, хотя само тело исхудалое. – Все, как один, безработные. – И поправился: – Были. Самое время, чтобы Правительство ими занялось. Вон там, видите? Это мой шурин. Второй с краю в первом ряду. – С позаимствованной гордостью он ткнул в ряды пальцем. – Пристроили их, – повторил он. Он был, по всей очевидности, одиноким и радовался шансу с кем-то поговорить.
– Зачем? – спросил Тристрам. – Из-за чего это все?
Но он и сам знал: это конец Пелфазы, людей собирались заставлять быть хорошими. Он испытал некоторый страх за собственную шкуру. Может, все-таки лучше вернуться на работу? Возможно, если он вернется прямо сейчас, никто ничего не заметит. Глупо было уходить – он никогда ничего такого раньше не делал. Возможно, следует позвонить Джоселину и сказать, что ушел раньше времени, потому что ему стало плохо…
– Приструнит кое-кого, – быстро ответил жирношеий худышка. – Слишком много молодых хулиганов слоняются по ночам. Слишком уж с ними миндальничают. Учителя их больше не контролируют.
– Кое-кто из новобранцев, – осторожно заметил Тристрам, – подозрительно похож на вышеупомянутых хулиганов.
– Вы назвали моего шурина хулиганом? Лучшего парня свет не видывал, а он без работы уже почти четырнадцать месяцев. Он не хулиган, мистер.
Теперь свое место впереди роты занял офицер. Подтянутый, брюки облегают зад, серебряные нашивки на погонах сверкают на солнце, на бедре – пистолет в кобуре из мягчайшего кожзама. Но рявкнул он неожиданно по-мужски:
– Рооооо…
Рота напряглась как от удара.
– … та!
Рык швырнуло как камнем – новобранцы нестройно вытянулись по струнке.
– Разоооооойтись! (Долгое «о» качнулось между двумя согласными.)
Одни повернули налево, другие – направо, третьи выжидали, чтобы посмотреть, что будут делать остальные. Ответом стали смех и жиденькие аплодисменты из толпы. И теперь улица полнилась группками смущенных полицейских.
Тристрам, к горлу которого подкатывала тошнота, направился к Ирншоу-мэншенс. В подвале этого толстого и скучного небоскреба находилось питейное заведение под названием «Монтегю». С недавнего времени единственным доступным спиртным стал пахучий дистиллят из овощей и фруктовой кожуры. Его называли «алк», и только желудки низших классов принимали его неразбавленным. Положив на стойку шестипенсовик, Тристрам получил стакан тягучего пойла, основательно разбавленного оранжадом. Больше пить было нечего: поля хмеля и старинные виноградники постигла участь лугов и табачных плантаций Виргинии или Турции – теперь на них выращивали съедобные злаки. Почти вегетарианский мир, некурящий и трезвый – если не считать алка. Тристрам торжественно поднял тост за этот мир и после второго шестипенсовика оранжадного огня почувствовал, что более или менее с ним примирился. Надежда на повышение умерла, Роджер умер. К черту Джоселина!
Тристрам почти благосклонно обвел взглядом тесную забегаловку. Геи, многие из них бородатые, щебетали в темном уголке; у стойки пили по большей части мрачные гетеросексуалы. Сальный толстозадый бармен подошел вразвалочку к музыкальному автомату в стене и затолкал в щель шестипенсовик, отчего автомат издал скрежет конкретной музыки: ложки, дребезжание оловянных мисок, торжественная речь министра рыболовного хозяйства, наполняющийся бочок в туалете, заводимый мотор – все это записано задом наперед, усилено или ослаблено и хорошенько перемешано. Мужчина рядом с Тристрамом произнес:
– Гадость хренова.
Обращался он к бочкам алка, не поворачивая головы и едва шевеля губами, словно, отпустив замечание, испугался, что его используют как предлог, чтобы втянуть в разговор.
Один бородатый гей начал декламировать:
- Мое мертвое дерево.
- О, верните мне мое мертвое, мертвое дерево.
- Уходи, уходи дождь! Пусть земля останется
- Суха. Загоните богов назад в растрескавшуюся землю
- Проделав для этого дыру буром.
– Чушь хренова, – повторил мужчина чуть громче. Потом повел головой – медленно и настороженно – из стороны в сторону, изучая Тристрама справа от себя и пропойцу слева с тщательностью такой, словно они были скульптурами друг друга и следовало проверить их на сходство. – Знаете, кем я был? – спросил он вдруг.
Тристрам задумался. Угрюмый, глаза запали, глазницы как угольные ямы, крючковатый красноватый нос, капризные стюартовские губы.
– Налей мне еще того же, – сказал мужчина бармену, бросая на стойку монеты. – Так и знал, что не угадаете! – Он победно повернулся к Тристраму. – М-да. – Он опрокинул неразбавленный алк с причмокиванием и вздохом. – Я был священником. Знаете, что это такое?
– Своего рода монах, – ответил Тристрам. – Что-то связанное с религией. – Произнес он это с изрядной долей благоговения, точно перед ним сидел сам Пелагий, но тут же поправился: – Да священников же больше не существует! Уже сотни лет никаких священников не было.
Мужчина вытянул перед собой руки, растопырив пальцы, словно проверяя, не дрожат ли.
– Вот эти руки, – сказал он, – творили повседневное чудо. – И более рассудительно добавил: – Несколько священников все-таки остались. Пара очагов сопротивления в провинциях. Те, кто не согласен со всем этим либеральным дерьмом. Пелагий был еретиком. Человеку необходима божья благодать. – Он снова уставился на свои руки, рассматривая их как врач, точно в поисках крошечного пятнышка, которое возвестило бы о зарождении болезни. – Еще того же! – приказал он бармену, запустив эти самые руки в карманы в поисках денег. – Да, – продолжил он, обращаясь к Тристраму, – священники еще существуют, хотя я больше не один из них. Вышвырнули! – шепнул он. – Лишили сана. О боже, боже, боже! – ударился он в мелодраму. Один гей, услышав воззвание к божеству, захихикал. – Но силу им никогда не отнять, никогда, никогда!
– Сесил, старая ты корова!
– Ну надо же! Ты только посмотри, что на нем надето!
Гетеросексуалы тоже повернулись посмотреть, но с меньшим энтузиазмом. На пороге стояла, улыбаясь до ушей, троица новобранцев-полицейских. Один изобразил небольшую чечетку, завершив ее неуверенным, подергивающимся салютом, – наверное, считал, что отдает честь. Другой сделал вид, что поливает помещение очередями из карабина. Далекая холодная абстрактная конкретная музыка все лилась. Геи смеялись, сюсюкали, обнимались.
– Меня не из-за этого сана лишили, – сказал сосед Тристрама. – А из-за настоящей любви, самой что ни на есть истинной, не из-за этого кощунственного глумления. – Он мрачно кивнул на развеселую компанию полицейских и гражданских. – Она была очень молоденькой, всего семнадцать. О боже, боже. Но, – с нажимом повторил он, – божественную силу они отобрать не могут. – Он снова уставился на свои руки – на сей раз с видом Макбета. – Претворять хлеб и вино, – сказал он, – в тело и кровь… Но вина больше нет. А папа римский… бедный дряхлый старичок на Святой Елене. А я, – добавил он без ложной скромности, – треклятый клерк в Министерстве топлива и электроснабжения.
Один гей-полицейский бросил в музыкальный автомат шестипенсовик. Внезапно забренчала танцевальная мелодия: точно разорвался мешок со спелыми сливами – сочетание абстрактной мелодии и медленного, сотрясающего нутро фонового ритма ударных. Один полицейский начал танцевать с бородатым гражданским. Надо признать, выходит у них грациозно, решил Тристрам, замысловато и грациозно. Но расстрига скривился от отвращения.
– Показушничество хреново, – сказал он и, когда один из нетанцевавших геев прибавил громкость, вдруг ни с того ни с сего заорал: – Убери этот хренов шум!
Геи посмотрели на него с мягким интересом, а танцевавшие – открыв рот и все еще покачиваясь в объятиях друг друга.
– Сам убирайся, – предложил бармен. – Нам тут неприятности не нужны.
– Кощунственные ублюдки! – выругался расстрига.
Тристрама восхитило, как ловко он вворачивает церковные словечки.
– Это содомский грех! Господу следовало бы поразить всех вас насмерть!
– Старый ты кайфолом! – фыркнул ему один гей. – Ну куда ты лезешь?
И тут на него набросились полицейские. Проделали они все быстро, грациозно, со смехом: это насилие ничем не напоминало избиения прошлых времен, о которых читал Тристрам, а скорее походило на щекотку. Однако не успел он сосчитать до трех, как священник-расстрига уже висел на стойке, хватая воздух залитым кровью ртом.
– Ты его друг? – спросил полицейский у Тристрама.
Тристрама шокировало, что на губах полицейского черная помада под стать черному галстуку.
– Нет, – ответил Тристрам. – Никогда его раньше не видел. В жизни его не видел. Я как раз собирался уходить.
Залпом допив алк с оранжадом, он встал.
– А потом пропел петух, – прохрипел священник-расстрига. – Вот кровь моя, – сказал он, утирая рот. Он был слишком пьян, чтобы чувствовать боль.
Глава 11
Когда напряжение волшебной одновременностью достигло своего пика и спало, когда они лежали, дыша тяжело, но уже медленнее, когда его рука оказалась зажата под ее расслабившимся телом, Беатрис-Джоанна подумала, а вдруг она все-таки ничего подобного не предполагала. Дереку она ничего не сказала, ведь это ее дело и ничье больше. Она чувствовала некоторую отстраненность, отдаленность от Дерека – так после написания удачного сонета поэт может чувствовать отстраненность от пера, которое перенесло его на бумагу. Из ее подсознания всплыло чужеземное слово Urmutter[9], интересно, что оно значит?
Дерек первым очнулся от безвременья, лениво спросив:
– Интересно, который час? – Мужчины ведь существуют в рамках времени.
Пропустив вопрос мимо ушей, Беатрис-Джоанна сказала:
– Не понимаю, к чему эти ложь и лицемерие, зачем людям притворяться тем, чем они не являются. Какой-то жутковатый фарс, – говорила она резко, но все еще из своего безвременья. – Ты любишь секс. Ты любишь секс больше любого мужчины, кого я когда-либо знала. Однако относишься к нему как к чему-то постыдному.
Он глубоко вздохнул.
– Дихотомия. – Словом он бросил в нее лениво, праздно, как мячиком, набитым гагачьим пухом. – Вспомни про человеческую дихотомию.
– А что в ней такого? – Беатрис-Джоанна зевнула. – В человеческой как ее там? Дихотомии?
– Разделение. Противоречия. Инстинкты говорят нам одно, а разум – другое. Могло бы обернуться трагедией, если бы мы позволили. Но лучше видеть в этом нечто комичное. Мы правильно поступили, – продолжал он, опустив часть рассуждений, – выбросив Бога и посадив на его место мистера Морда-Гоба. Бог – трагическая концепция.
– Не понимаю, о чем ты.
– Неважно. – Его с запозданием застигла наконец ее зевота, и он тоже зевнул, открыв серовато-белые пластмассовые челюсти. – Конфликтующие требования линии и круга. Ты целиком и полностью линия, вот в чем твоя беда.
– Я округла. Я шарообразна. Сам посмотри.
– Телом да, а вот умом нет. Столько лет образования, лозунгов и подспудной кинопропаганды, а ты все еще существо инстинктов. Тебе нет дела до положения в мире, до положения в Государстве. А мне есть.
– А с чего бы мне беспокоиться? Мне надо свою жизнь прожить.
– Если бы не такие, как я, у тебя вообще не было бы жизни. Государство – это совокупность граждан. Предположим, никто не беспокоился бы из-за уровня рождаемости. Предположим, мы не начали бы тревожиться из-за прямой линии, которая все тянется и тянется. Мы буквально умерли бы с голоду. Видит Гоб, у нас и так не хватает еды. Нам удалось достичь своего рода баланса – силами моего департамента и сходных правительственных учреждений по всему миру, но долго так продолжаться не может, учитывая, как развиваются события.
– О чем ты?
– Старая история. Либерализм одерживает верх, а либерализм означает вялость. Мы перекладываем все на образование и пропаганду, бесплатные противозачаточные, абортарии и утешительные. Мы поощряем непродуктивные формы сексуальной активности, нам нравится обманывать себя: мол, люди достаточно мудры и добродетельны, чтобы сознавать свою ответственность. Но что происходит? Всего пару недель назад разбиралось дело одной пары из Западной провинции, у которой шестеро детей. Шестеро! Ты только подумай! И все живы-здоровы. Очень старомодные люди, к тому же верующие. На слушаниях оба твердили про исполнение Божьей воли и прочую ерунду. Один наш чиновник с ними поговорил, постарался их образумить. Только представь себе: восемь тел в квартирке меньше этой. Но разве таких вразумишь? По всей очевидности, у них оказался экземпляр Библии… Где, скажите на милость, они его раздобыли? Видела когда-нибудь Библию?
– Нет.
– Ну, это старая религиозная книга, полная разной чуши. Мол, растрачивать семя попусту – смертный грех, и если Господь любит тебя, то наполнит твой дом детьми. И язык совсем старомодный. Так вот, они постоянно на нее ссылались, говоря про плодовитость и про то, что сухая смоковница проклята и так далее. – Дерек поежился от неподдельного ужаса. – А ведь довольно молодая пара.
– Что с ними сталось?
– А что с ними могло статься? Объясняли им, что закон ограничивает семью одним ребенком, живым или мертвым, а они в ответ – мол, это дурной закон. Мол, если бы Господь не хотел, чтобы человек был плодовитым, то зачем наделил его инстинктом к размножению? Им сказали, что Бог – устаревшая концепция, а они это отвергли. Им сказали, что у них есть долг перед соседями, и с этим они согласились, но они отказывались понимать, какое отношение к этому долгу имеет ограничение рождаемости. Очень сложное дело.
– И им ничего не было?
– Ничего особенного. На них наложили штраф. Выписали предупреждение не рожать больше детей. Выдали противозачаточные таблетки и велели сходить в местную клинику контроля рождаемости за инструкциями. Но они, похоже, ничуть не раскаялись, и таких, как они, много по всему миру – в Китае, Индии, Индокитае. Вот что больше всего пугает. Вот почему неизбежны перемены. От численности населения в мире волосы встают дыбом. У нас несколько лишних миллионов ртов. Подожди, вот увидишь со дня на день пайки урежут вдвое. Да, кстати, который час? – спросил он снова.
Вопрос был не слишком настоятельным: если бы захотел, он мог бы вытащить руку из-под ее теплого расслабленного тела, протянуть ее в дальний угол крошечной комнатки и взять свое наручное микрорадио, на оборотной стороне которого имелся циферблат. Но он слишком ленился двигаться.
– Наверное, около половины шестого, – ответила Беатрис-Джоанна. – Можешь с телевизором свериться, если хочешь.
Даже не приподнимаясь, она дотянулась до кнопки в изголовье кровати. На окно спустилась, скрывая дневной свет, плотная штора, и секунду спустя с потолка тихонько загулькала и запищала синтетическая музыка. Не духовая и не струнная, лишенная ритма абстрактная музыка – совершенно такая же, какую рассеянно слушал в тот самый момент наливающийся алком Тристрам. В этой, льющейся с потолка, были звуки вращающихся заслонок, капанье воды из крана, вой корабельных сирен, гром, марширующие шаги, речитатив в микрофон – все рваное и вывернутое, чтобы создать краткую симфонию, предназначенную скорее приносить мирное удовольствие, чем возбуждать. Экран в потолке вспыхнул белым, потом взорвался цветной стереоскопической картинкой с изображением статуи, венчающей здание Правительства. Каменные глаза над барочной бородой и носом, способным рассекать ветер, смотрели с вызовом; позади статуи бежали, точно спешили, облака, и небо было цвета школьных чернил.
– Вот он, – сказал Дерек, – кто бы он ни был, наш святой покровитель. Святой Пелагий, святой Августин или святой Аноним – который из них? Сегодня вечером узнаем.
Лик святого расплылся, сменившись внушительным интерьером собора: почтенный серый неф, стрельчатые арки. От алтаря широким шагом надвигались две пухлые мужские фигуры, одетые в снежно-белое, как санитары в больнице.
– Священная игра, – возвестил голос. – «Челтенхемские леди» против «Джентльменов Западного Бромвича». «Челтенхемские леди» выиграли вбрасывание и первыми отбивают подачу.
Пухлые белые фигуры остановились проинспектировать воротца в нефе. Дерек нажал на выключатель. Стереоскопическое изображение утратило объемность, потом погасло.
– Значит, самое начало седьмого, – констатировал Дерек. – Мне пора.
Высвободив затекшую руку из-под лопаток любовницы, он сбросил ноги с кровати.
– Еще уйма времени, – зевнула Беатрис-Джоанна.
– Уже нет. – Дерек натянул узкие штаны, застегнул на запястье микрорадио, коротко глянув на циферблат. – Двадцать минут седьмого, – сказал он. Потом: – Вот уж точно Священная игра. Последний ритуал цивилизованного Человека Запада. – Он фыркнул. – Слушай, нам лучше с неделю вообще не встречаться. Что бы ты ни делала, не приходи ко мне в Министерство. Я сам с тобой как-нибудь свяжусь.
Эта фраза донеслась скомканно, заглушенная надеваемой рубашкой.
– Будь лапочкой, – попросил он, вместе с пиджаком надевая маску гомосексуалиста, – выгляни в коридор, не идет ли кто? Не надо, чтобы видели, как я выхожу.
– Ладно.
Со вздохом Беатрис-Джоанна встала и, надев халат, подошла к двери. Она посмотрела налево, потом направо, как ребенок, собирающийся переходить через улицу, и вернулась в спальню.
– Никого.
– Слава Гобу. – Последнее слово он произнес с капризной растяжечкой.
– При мне незачем разыгрывать гея, Дерек.
– Каждый хороший актер, – прокартавил он, – начинает играть еще за кулисами. – Он игриво коснулся губами ее щеки. – До свидания, дражайшая.
– До свидания.
Покачивая бедрами, он направился к лифту: сатира в нем отправили спать до следующего раза, когда бы он ни наступил.
Глава 12
Все еще несколько взвинченный (невзирая на дополнительные два стакана алка в подвальной забегаловке возле дома), Тристрам вошел в Сперджин-билдинг. Даже тут, в просторном вестибюле, смеялись серые мундиры. Ему это не понравилось, ему нисколечко это не понравилось. У решетки лифта пришлось подождать бок о бок с соседями по сороковому этажу: Уэйсом, Дартнеллом и Виссером, миссис Хэмпер и молодым Джеком Фениксом, мисс Уоллис и мисс Рантинг, Артуром Спрэггом, Фиппсом, Уолкер-Мередитом, Фредом Хэмпом и восьмидесятилетним мистером Эртроулом. Цифры на табло лифта вспыхивали желтым: 47-46-45.
– Я видел кое-что довольно страшное, – сказал Тристрам старому мистеру Эртроулу.
– А? – отозвался глуховатый мистер Эртроул.
38-37-36.
– Экстренное постановление, – говорил тем временем Фиппс, подвизавшийся в Министерстве труда. – Всем приказали вернуться к работе.
Молодой Джек Феникс зевнул. Тристрам впервые заметил черные волоски у него на скулах.
22-21-20-19.
– В доках полиция, – говорил тем временем Дартнелл. – Только так и можно с этими ублюдками. Они только силу понимают. Давным-давно так следовало.
Он одобрительно посмотрел на полицейских в сером: черные галстуки словно в знак траура по пелагианству, легкие карабины под мышкой.
12-11-10.
Воображение рисовало Тристраму, как он вмазывает какому-нибудь гею или кастрату прямо в симпатичное пухлое личико.
3-2-1.
И перед ним возникло лицо – не симпатичное и не пухлое – его брата Дерека. Братья изумленно уставились друг на друга.
– Что, скажи на милость, ты тут делаешь? – спросил Тристрам.
– Ах, Тристрамчик, – засюсюкал Дерек, выпевая имя в неискренней ласке. – Вот и ты!
– Да. Неужто ты меня искал?
– Именно, милый! Чтобы сказать, как мне ужасно жаль. Бедный, бедный маленький мальчик!
Лифт быстро заполнялся.
– Это официальные соболезнования? – Тристрам недоуменно нахмурился. – Я всегда полагал, твое Министерство только радуется смертям.
– Это только я, твой брат, – сказал Дерек. – Не чиновник из МБ. – Прозвучало это довольно натянуто. – Я пришел с… – «утешением», едва не сказал он, но успел сообразить, что прозвучало бы слишком цинично. – С братским визитом. Я видел твою жену… – Крохотная пауза перед словом «жена», неестественное подчеркивание, отчего само слово прозвучало весьма непристойно. – А она сказала, ты все еще на работе, поэтому я… И вообще мне ужасно, ужасно жаль. Надо нам, – неопределенно стал он прощаться, – посидеть как-нибудь вечерком. Пообедать или еще что. А теперь надо лететь. Встреча с министром.
И он ушел – виляя задом.
Все еще хмурясь, Тристрам вжался в лифт, втиснулся между Спрэггом и мисс Уоллис. Что происходит? Дверь, скользнув, закрылась, лифт начал подниматься. Мисс Уоллис, непропеченная бледная клецка, нос у которой блестел точно был мокрым, дохнула на Тристрама призраком порошкового картофельного пюре. Почему Дерек снизошел до визита в его квартиру? Братья не любили друг друга, и не единственно потому, что Государство всегда (в рамках политики по дискредитации самого понятия семья) поощряло братскую вражду. С незапамятных времен существовала зависть, обида на то, что Тристраму, отцовскому любимчику, всегда доставалось больше ласки: теплое местечко в отцовской кровати воскресным утром, верхушка с его яйца к завтраку, лучшие игрушки на Новый год. Второй брат и сестра добродушно пожимали плечами, но только не Дерек. Дерек давал выход зависти в пинках исподтишка, лжи, комьях грязи, брошенных на воскресный комбинезон Тристрама, безжалостной порче его игрушек. И последняя демаркационная линия в этой войне была проложена в подростковом возрасте: сексуальная инверсия Дерека и неприкрытое к ней отвращение Тристрама. Более того: невзирая на худшие шансы на образование, Дерек добился большего, много большего, чем его брат: рыки зависти, победно задираемый нос… И какая же гадкая мыслишка привела его сюда сегодня? Тристрам инстинктивно связал его визит с новым режимом, с началом Промфазы. Может, имел место краткий обмен звонками между Джоселином и Министерством бесплодия (обыск квартиры на предмет гетеросексуальных заметок к лекциям, допрос жены на предмет его позиции по вопросу контроля рождаемости)? В легкой панике Тристрам перебрал в уме свои прошлые уроки: тогда-то ироничное восхваление мормонов в Уте, в другой раз – пространные рассуждения о «Золотой ветви» (запрещенная книга!) или возможная насмешка над гей-иерархией после особо незадавшегося ланча в учительской столовой. «И надо же было как раз сегодня уйти с работы без разрешения!» – снова подумал он. А после, когда лифт остановился на сороковом этаже, со дна желудка поднялась храбрость. Алк кричал: «Пошли они все!»
Тристрам направился к квартире. У двери он помедлил, стирая автоматическое ожидание приветственных криков ребенка. Потом переступил порог. Беатрис-Джоанна сидела в домашнем халате, ничего не делала. Она быстро встала, очень удивившись, что муж вернулся так рано. Тристрам заметил открытую дверь в спальню и смятую постель, постель больного лихорадкой.
– У тебя был посетитель? – спросил он.
– Посетитель? Какой посетитель?
– Внизу я видел дорогого братца. Он сказал, что искал меня.
– Ах он. – Она шумно выдохнула, точно задерживала дыхание. – Я думала, ты про… ну знаешь… посетитель…
Тристрам потянул носом среди всепроникающего аромата «Антиафродизиака», словно уловив что-то скользкое, подозрительное.
– Чего он хотел?
– Почему ты так рано? – спросила Беатрис-Джоанна. – Плохо себя чувствуешь или случилось что?
– Я плохо себя чувствую от того, что услышал. Я не получу повышения. Против меня чадолюбие моего отца. И моя собственная гетеросексуальность.
Заложив руки за спину, он бесцельно прошел в спальню.
– У меня не нашлось времени застелить, – объяснила она, входя поправить простыни. – Я была в больнице. Вернулась совсем недавно.
– Похоже, мы сегодня беспокойно спали. Так вот, – продолжал он, выходя из спальни, – место достанется какому-нибудь гомику-слизняку вроде Дерека. Полагаю, этого следовало ожидать.
– Скверные для нас сейчас времена, а? – подхватила Беатрис-Джоанна. С мгновение она стояла безвольно, с потерянным видом, держа конец смятой простыни. – Сплошные беды.
– Ты так и не сказала, зачем приходил Дерек.
– Я не поняла. Вроде бы искал тебя. – Едва-едва вывернулась, подумала она, едва-едва. – Я сама удивилась.
– Ложь! – отрезал Тристрам. – Так я и думал, что он не только затем пришел, чтобы нам пособолезновать. И вообще, откуда ему было знать про Роджера? Как бы он выяснил? Готов поспорить, он и узнал только потому, что ты ему рассказала.
– Он уже знал, – начала импровизировать она на ходу. – Видел в Министерстве. Ежедневные данные о смертности или что-то вроде того. Поешь сейчас? Я совсем не голодна.
Оставив простыни, она вышла в гостиную и велела крохотному холодильнику, точно какому-то полярному божку, спуститься с потолка.
– Нет, он что-то задумал, – гнул свое Тристрам. – Тут нет сомнений. Мне надо следить за каждым шагом. – Тут в голову ему ударил алк, и он взвился: – Почему, скажите на милость? Пошли они все! Люди вроде Дерека управляют страной!
Он выдернул из стены стул. Беатрис-Джоанна дополнила обеденный гарнитур, подняв из пола стол.
– Я чувствую себя антисоциальным, – сказал Тристрам. – Бредово антисоциальным. Кто они такие, чтобы указывать нам, как жить! И вообще мне не нравится, что происходит. Кругом полно полиции. Вооруженной.
Он решил умолчать о том, что случилось со священником-расстригой в забегаловке «Монтегю». Жена не одобряла выпивки.
Беатрис-Джоанна подала ему котлету из растительного дегидрата, потом кусок синтелакового пудинга.
– Питту хочешь? – предложила она, когда он закончил.
Питтой называлась вовсе не круглая лепешка, а «питательная единица», таблетированное творение Министерства синтетического питания. Когда жена наклонилась над ним, потянувшись к стенному буфету, Тристрам мельком увидел ее пышный бюст под халатом.
– Да пропади они все пропадом! – рявкнул он. – И, господи помоги, я совершенно серьезно.
Встав, он попытался обнять жену.
– Нет, пожалуйста, не надо! – взмолилась она.
Ничего путного все равно не выйдет, ей просто невыносимо его прикосновение. Она начала вырываться.
– Я плохо себя чувствую. Я расстроена.
Беатрис-Джоанна захныкала. Муж отступил.
– Ну и ладно, – сказал он. – Очень даже ладно. – Неловко встав у окна, он прикусил ноготь левого мизинца пластмассовыми зубами. – Извини. Я просто не подумал.
Собрав со стола бумажные тарелки, она бросила их в дыру в стене.
– Вот черт! – со внезапным гневом сказал Тристрам. – Нормальный порядочный секс они уже в смертный грех превратили. И ты больше его не хочешь. Ну и ладно… наверное… – Он вздохнул. – Похоже, придется присоединиться к добровольным меринам, если я вообще хочу сохранить работу.
В это мгновение Беатрис-Джоанну внезапно посетило то же ощущение, которое ослепительной вспышкой пронзило ее, когда она лежала под Дереком на лихорадочно смятых простынях. Мгновение своего рода евхаристии с ревом труб и сполохами света, какое человек переживает (так говорят) в тот момент, когда перерезают оптический нерв. И крошечный, удивительно пронзительный голосок пискнул: «Да, да, да!» Если все кругом твердят про осторожность, может, и ей тоже следует быть осторожной? Не совсем осторожной, конечно. Только настолько, чтобы Тристрам не узнал. Известно ведь, что противозачаточные не всегда срабатывают.
– Извини, милый, я не то хотела сказать. – Она обняла его за шею. – Сейчас, если хочешь.
Если бы только это можно было сделать под анестезией! Тем не менее долго терпеть не придется.
Тристрам жадно ее поцеловал.
– Давай я приму таблетки, – предложил он.
С самого рождения Роджера (надо признать, в благословенно нечастных случаях, когда он вспоминал про свои супружеские права) он всегда настаивал, что сам примет меры предосторожности. Ведь на самом деле он Роджера не хотел.
– Я приму три. Для верности.
Крохотный голосок на это тихонько хмыкнул.
Глава 13
Беатрис-Джоана и Тристрам, чересчур поглощенные каждый своим, не видели и не слышали выступления премьер-министра по телевидению. Но в миллионах других домов с потолков спален (поскольку в других помещениях не хватало места) стереоскопическая проекция одутловатого, обвислого лица достопочтенного Роберта Старлинга мигала и хмурилась, точно готовая перегореть лампа. Это лицо сурово предостерегало о страшной беде, какая будет грозить Англии, всему Англоговорящему Союзу и даже земному шару в целом, если не принять, пусть и с сожалением, неких репрессивных мер. Дескать, идет война. Война против безответственности, против тех элементов, которые саботируют – и подобный саботаж очевидно недопустим – сам механизм Государства, против полномасштабного пренебрежения разумными и либеральными законами, в особенности законом, который на благо общества стремится ограничить численность населения. Уже сегодня вечером, самое позднее завтра, торжественно вещало сияющее лицо, по всей планете главы государств выступят со сходными обращениями к своим гражданам: весь мир объявляет войну самому себе. Жесточайшее наказание ждет за упорство в безответственности (подразумевалось, что карающим будет больнее, чем караемым) … выживание в масштабах планеты зависит от равновесия между населением и научно исчисленным минимальным запасом продовольствия… затянуть пояса… добиться победы… зло, с которым они станут сражаться… укрепить свой дух… да здравствует король…
Беатрис-Джоанна и Тристрам пропустили также увлекательные стереоскопические ролики с репортажем об окончании забастовки на заводах «Нэшнл синтелак»: полицейские, уже получившие прозвище «серомальчики», пускают в ход дубинки и карабины и все время смеются, комок хроматических мозгов шлепается на линзу камеры.
Пропустили они и последовавшее затем объявление об учреждении службы под названием «Полиция популяции», а ведь ее новоиспеченный глава, столичный комиссар, был хорошо знаком им обоим – брат, предатель, любовник.
Часть вторая
Глава 1
Во всех государственных учреждениях действовала система трех восьмичасовых рабочих смен. Но в школах и колледжах день (любой день, поскольку каникулы и выходные тоже распределялись посменно) делился на четыре, по шесть часов каждая. Приблизительно через два месяца после наступления Промфазы Тристрам Фокс сидел за полуночным завтраком (его смена начиналась в час), а в окно косо светила полная летняя луна. Он пытался съесть немного бумажного вида овсянки, политой синтелаком, но обнаружил, что, хотя и ходил последнее время круглые сутки голодным, поскольку пайки существенно сократили, через силу заталкивает в себя эту сырую волокнистую гадость: словно собственные слова пытаешься съесть. Пока он прожевывал очередную бесконечную ложку, синтетический голос из «Ежедневного новостного диска» (выпуск в 23 часа) пищал как мультяшная мышь. Сам же черный поблескивающий диск медленно вращался на стенной подставке-игле.
– … беспрецедентно низкий улов сельди, объяснимый, по сообщением Министерства рыболовного хозяйства, только с точки зрения необъяснимого пробела в воспроизведении…
Потянувшись левой рукой, Тристрам его выключил. Что, теперь и у рыб есть контроль рождаемости? Тристрам выудил из подсознания обрывок генетической памяти: плоскую круглую рыбину выкладывают на тарелку… корочка коричневая, хрустящая… острый соус… Но всю рыбу, какую сейчас вылавливали, конвейеры перемалывали, превращая в удобрения или преобразуя в многоцелевые питательные брикеты (которые потом подавали на стол в виде супа или котлет, хлеба или пудинга) и которые Министерство естественного питания выдавало как основной ингредиент еженедельного рациона.
В тишине, без маниакального синтетического голоса и жутковатого журналистского сленга, Тристраму лучше стало слышно, как жену тошнит в ванной. Бедняжка, последние дни ее регулярно тошнит. Возможно, дело в еде. От такого кого угодно стошнит. Встав из-за стола, он заглянул к ней. Вид у нее был усталый и измученный, точно тошнота ее высушила.
– На твоем месте я бы сходил в больницу, – доброжелательно сказал он. – Узнал бы, в чем дело.
– Со мной все в порядке.
– Я бы так не сказал.
Он перевернул наручное микрорадио: стрелки на циферблате с обратной стороны показывали чуть больше половины первого.
– Надо бежать. – Он поцеловал ее во влажный лоб. – Береги себя, милая. Надо все-таки сходить в больницу.
– Пустяки. Просто желудок шалит.
Ради мужа Беатрис-Джоанна постаралась принять веселый вид.
Тристрам же вышел (просто желудок шалит?), чтобы присоединиться к группе соседей у лифта. Старый мистер Эртроул, Фиппс, Артур Спрэгг, мисс Рантинг – мешанина рас сродни пищевым брикетам: Европа, Африка и Азия, перемолотые и поперченные Полинезией, отправляются на рабочие места в министерствах и на государственных фабриках. Олсоп и бородатый Абазофф, Даркинг и Хамидун, миссис Гоу, мужа которой забрали три недели назад, готовы к смене, которая закончится на два часа позже, чем у Тристрама.
– Все совсем не так, как надо, на мой взгляд, – говорил дрожащим старческим голосом мистер Эртроул. – Неправильно, что копы все время за тобой наблюдают. В моей юности было по-другому. Если хотел покурить в туалете, шел и курил, и никто не приставал к тебе с вопросами. А теперь не так. Да, не так. Эти копы круглые сутки тебе в затылок дышат. Так неправильно, скажу я вам.
Он продолжал ворчать, а бородатый Абазофф кивал, пока они входили в лифт, слушая безобидного и не слишком умного старика, ввинтителя большого винта в задние панели телевизоров, которые в бесконечном преумножении ползли мимо него по ленте конвейера.
– Есть новости? – тихонько спросил в лифте у миссис Гоу Тристрам.
Она подняла на него глаза – длиннолицая женщина сорока с чем-то лет, с кожей серой и прокопченной как у цыганки.
– Ни словечка. Думаю, его расстреляли. Расстреляли! – внезапно выкрикнула она.
Остальные пассажиры прикинулись глухими.
– Глупости. – Тристрам потрепал ее по худому плечу. – Он никакого серьезного преступления не совершил. Вот увидите, он скоро вернется.
– Сам виноват, – сказала миссис Гоу. – Пил алк. Раскрывал рот где попало. Я всегда ему говорила: рано или поздно он слишком далеко зайдет.
– Будет, будет. – Тристрам продолжал похлопывать.
Правда заключалась в том, что, строго говоря, Гоу рта вообще не разевал: он просто издал детский неприличный звук при виде группки полицейских возле какой-то забегаловки для буянов на задах Гатри-роуд. Его уволокли среди всеобщего веселья, и больше его не видели. Теперь от алка лучше держаться подальше. Пусть уж лучше его серомальчики пьют.
4-3-2-1. Тристрам, шаркая, вышел из лифта. На запруженной улице его встретила подернутая луной, сизая, как слива, ночь. А в вестибюле стояли представители Полпопа, иначе говоря – Полиции популяции: черные мундиры и фуражки со сверкающими козырьками, на кокардах и значках сверкает взрывающаяся бомба, которая при ближайшем рассмотрении оказывается разламывающимся яйцом. Невооруженные, не столь скорые на применение силы, как серомальчики, подтянутые и вежливые, они по большей части делали честь своему комиссару. Влившись в поток людей, направляющийся на ночную смену («кто бы мог подумать, что смерть унесла столь многих»), Тристрам вслух произнес «брат» в серебристое небо над ночным Ла-Маншем. В последнее время это слово приобрело исключительно бранный оттенок, что было нечестно по отношению к бедному безобидному Джорджу, самому старшему из трех братьев, упорно трудящемуся на сельскохозяйственной станции под Спингфилдом, штат Огайо. Джордж недавно прислал одно из своих редких писем, сухое и полное фактов об экспериментах с новыми удобрениями, недоуменных фраз о странной рже, заболевании зерновых, распространяющейся на восток через Айову, Иллинойс и Индиану. Милый надежный старина Джордж.
Тристрам вошел в огромный старый небоскреб, приютивший Унитарную школу (для мальчиков) Южного Лондона (Ла-Манш), отделение четыре. Смена Дельта выбегала, и один из трех заместителей Джоселина, самодовольный хлыщ с вечно приоткрытым ртом по фамилии Кори наблюдал за мальчишками, стоя в большом вестибюле. Смена Альфа сигала и ввинчивалась в лифты, неслась вверх по лестницам, по коридорам. Первый урок Тристрама был на втором этаже – начальная историческая география для двадцатого потока первого класса. Искусственный голос отсчитывал: