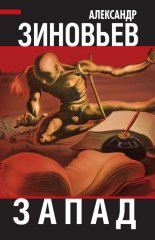Расстояние между мной и черешневым деревом Перетти Паола

Я уже в пижаме, лежу в кровати, прижав к себе Оттимо Туркарета. Обычно я никогда не закрываю глаза без надобности, если только не гуляю во дворе с повязкой. Мне не хочется закрывать глаза: нужно, чтобы они запаслись светом на всю оставшуюся жизнь. Но сейчас я лежу с закрытыми глазами.
Когда гости разошлись, папа снял с потолка шарики, но я выпросила у него один и затолкала под кровать. Когда я поселюсь на дереве, шарик может пригодиться. Вдруг я не выдержу холодов или состарюсь и не смогу спуститься.
Сегодня моим глазам нужно отдохнуть. В отличие от них, сама я совсем не устала. Я протягиваю руку к лампе, нащупываю кнопку выключателя. Мама заходит в комнату, и я слегка приоткрываю один глаз, чтобы посмотреть, как она выглядит в темноте. Сначала до меня долетает ее мятный запах. Потом я вижу ее продолговатую тень, длинные волосы и темные складки одежды, которые без света кажутся еще темнее.
Как странно. Раньше я думала, что темнота – это когда все черное. Но мамы, оказывается, могут разглядеть тебя даже в самой кромешной темноте. Наверное, они видят, как кошки. Все видят, чтобы найти детенышей в случае опасности. Если это правда, то я тоже могу стать мамой.
Я немного приподнимаюсь на локте:
– Мам, а если я потеряюсь, ты сможешь разглядеть меня в темноте?
– Разглядеть, может, и не смогу, но я все равно тебя найду, что бы ни случилось. Давай выключай свет, уже поздно, – отвечает она, гладя меня по голове.
Наклонившись, мама целует меня, и ее длинные волосы падают на подушку, как волны сахарной ваты, только черной. Я глажу их, а потом мама встает и выходит из комнаты. Мамины волосы такие мягкие. Я не стала уточнять, про какую я темноту. Мама ведь все равно найдет меня где угодно.
Сегодня мне не хочется разговаривать ни с тобой, Козимо, ни с бабушкой. Вам-то хорошо вместе, вы перебираетесь с ветки на ветку, читаете книжки и совсем не подозреваете о том, что до черешни осталось всего шестьдесят шагов.
Козимо, ты слышал? Всего тридцать метров! Это не так уж много. Помнишь, твой брат говорил с мудрецом и тот сказал ему, что ты живешь на дереве, потому что на землю нужно смотреть с определенной высоты, чтобы видеть все в правильном свете? Но с какого расстояния мне тогда нужно смотреть на черешню?
17. Кидать в мусорную корзину бумажные шарики
У доктора Ольги зеленые глаза, я запомнила. Я пытаюсь их разглядеть, но вместо ее лица вижу лишь серое пятно. Вот почему я все еще сижу перед доктором, а папа с мамой сидят рядом на все тех же неудобных стульях. Доктор кладет мне в руки длинную гладкую палочку. Карандаш. Я прикасаюсь к нему и нащупываю на кончике знакомую фигурку – динозавра.
– Прости, с египетскими богами не нашла.
Ничего. Я все равно не люблю ластики. Они для меня совсем не главное. Но я благодарю доктора и с довольным видом беру карандаш. Вежливость – это важно.
У доктора на столе блок листков для записей, которые она дает детям во время приема. На них можно рисовать. Я беру листок и принимаюсь водить по нему карандашом. Взрослые говорят вполголоса, а я делаю вид, что не слушаю. Как часто мне теперь приходится «делать вид», особенно после дня рождения. Делать вид, что не плачу; делать вид, что не подслушиваю… Когда я вырасту, мне придется постоянно притворяться, как делают мои мама и папа. Даже сейчас они притворяются, что говорят о чем-то не важном.
– Ну как она? – спрашивает папа.
– Не так плохо.
Взрослые никогда не говорят «плохо», «ужасно» – любую фразу они начинают с «не». Придется и мне так делать, когда вырасту.
«Не так плохо» означает, что все очень плохо. Примерно так же бывает, если наша учительница спрашивает у ребят, идет ли ей новая стрижка. Я уверена, что мальчикам она совсем не нравится, но они отвечают «неплохо», чтобы выглядеть вежливыми и не оказаться у доски.
– Вы уже учите шрифт Брайля?
– Конечно, – отвечает папа. – Мы занимаемся, и немало!
Ну вот, снова это «не». Я прочла одну-единственную книжку – «Маленького принца». Правда, она мне очень понравилась.
– Доктор, нельзя ли что-то придумать? – спрашивает мама, и ее голос подрагивает.
– Бывают очки со встроенной камерой, которые позволяют распознавать картинку и помогают при нарушениях зрения…
Снова очки? Ну уж нет. По-моему, это перебор, да и вряд ли от них будет польза.
– …Но в данном случае они бесполезны. Не будем переутомлять девочку.
Пронесло. Наверняка эти очки просто ужасные, и я вовсе не хочу, чтобы мне на голову приделывали камеру. В школе надо мной будут смеяться.
– Какой прекрасный рисунок, Мафальда! Это же звездное небо, как у Вангога! – замечает доктор Ольга после долгого молчания, заставляя меня подскочить.
Я смотрю на рисунок, где нарисовано несколько серых кружков. Если этот Вангонг рисовал так, как я, – неважный из него художник.
И все же к врачу мы сходили не зря: теперь у меня есть карандаш с ластиком-динозавром и план, как его использовать для дела.
В классе стоит полная тишина: идет контрольная по геометрии. Я уже все сделала, Фернандо поставил мне «отлично» (как обычно, с минусом) и, устроившись на последней парте, уткнулся в свою китайскую книжечку. Он всегда ставит мне «отлично» с минусом. «„Отлично“ за старания, а минус – потому что „отлично“ ты пока не заслужила», – говорит он.
Я оборачиваюсь назад. Кевин корпит над осью симметрии: он так и не понял эту тему.
– Эй!
Кевин приподнимает голову, но тут же утыкается в свой листок. Нужно отвлечь учительницу. Поскольку моя работа готова, я спрашиваю, не принести ли ей кофе. Учительница отрывается от игры в телефоне:
– Спасибо, Мафальда. Я сама схожу. Если услышишь, что кто-то шепчется, запиши фамилии.
Она кладет на мою парту листок, берет сумку и выходит из класса. Самое время действовать. Развалившись, как медведь, Кевин корябает ручкой краешек парты. Оси симметрии ему никак не даются. Стараясь не выпускать из виду Фернандо, который сидит на последней парте, я облокачиваюсь на парту Кевина и шепчу:
– Слушай, хочешь динозавра?
Кевин обожает рептилий. Он просто тащится от змей, игуан и всякого такого. При слове «динозавр» он тут же оживляется.
– Смотри, какой у меня карандаш!
– Клевый!
– Давай меняться!
– Ш-ш-ш, – шипит сзади Фернандо, не отрываясь от книги.
Я кладу карандаш перед Кевином.
– Хочешь, подарю? Но мне нужно кое-что взамен.
– И что же?
– Плащ, в котором ты ездил на ферму. Давай меняться, а?
– Нетушки. Карандаш можно купить в любом киоске.
– В киосках таких не продают – такой есть только у меня. Можем все-таки поменяться, если захочешь.
– Тогда давай еще и лупу.
Карандаша Кевину оказалось мало – мой план не сработал. Но времени на раздумья нет. Все равно лупа мне скоро уже не понадобится.
Я вынимаю из кармана лупу и, пряча руку под партой, протягиваю ее Кевину. Кевин тут же сует ее в портфель.
– Завтра принесешь плащ?
– Размечталась!
В этот момент учительница возвращается в класс. Обычно мне нравится запах горячего кофе, но сегодня от него щиплет глаза и из правого даже катится слеза. Такое бывает, когда я сильно хочу спать. И тут во мне просыпается такая злость, что уже не жалко ни карандаша, ни лупы, а просто хочется закрыть глаза и поставить на всем большой жирный крест. Вычеркнуть из своей жизни всех, кроме Эстеллы и Оттимо Туркарета. Всех и все, кроме моей черешни. Моего дерева.
Иногда я представляю себе, как устроюсь на дереве. Сооружу домик из листьев, а вокруг него будут птичьи гнезда. Их на черешне немало. А если взгрустнется, я просто постучу по стволу черешни и услышу бабушкино «Кто там?».
– Это я, Мафальда, – отвечу я.
Черешневый великан качнет головой, и с веток полетят белые и розовые лепестки, а мы с бабушкой соберем их и будем складывать фигурки и картины. Правда, у меня не будет лупы, без нее будет сложновато. Лишиться лупы довольно неприятно, к тому же это папин подарок. Глядя на нее, на дереве я могла бы вспоминать папу.
Когда звенит звонок, все выбегают в коридор. Кевин вскакивает с места и бежит в туалет.
Я прислоняюсь к двери и сползаю вниз по стене. Я видела в фильме такую сцену. Как давно я не смотрела телевизор, не была в кино! Кажется, я не успею посмотреть ни одного фильма. Очень скоро я окажусь в темноте. И тогда тем более ничего не увижу. Почему все это происходит именно со мной?
Я плачу, уткнувшись лицом в колени.
– Эй, ты чего?
На меня падает несколько хлебных крошек. Открыв глаза, я вижу перед собой черные кроссовки и голубые джинсы. Филиппо садится рядом, и я быстро выкладываю все, что произошло на уроке.
Я давно заметила, что Филиппо не умеет слушать долго, поэтому стараюсь уложиться в несколько предложений. Не дожидаясь финала истории, Филиппо комкает салфетку и закидывает ее в ближайшую мусорную корзину. Довольный тем, что попал точно в цель, он направляется в наш класс.
Я подбегаю к нему и хватаю за руку. Входить в чужой класс на перемене у нас не разрешается.
– Ты что задумал?
Филиппо решительно отстраняет меня и устремляется вперед:
– Я помогу тебе вернуть вещи. Стой и следи, чтобы никто не вошел.
Я умоляю его остановиться: ведь в любой момент нас могут застукать, но Филиппо уже носится от парты к парте и роется в чужих рюкзаках.
Я стою у двери и чувствую, как холодею от ужаса.
– За моей партой, под столом!
Что именно под столом, можно не договаривать – Филиппо уже несется к парте Кевина. И тут я чувствую, как кто-то кладет руку мне на плечо.
– Что здесь происходит?
Застыв от страха, я обнаруживаю, что за моей спиной стоит незнакомая учительница и смотрит в класс. Еще несколько человек подходят посмотреть, что за шум.
– Ты что делаешь? – спрашивает учительница у Филиппо.
Филиппо прячется за партой, но уже слишком поздно.
– Он роется в моих вещах! Это мое! – вопит Кевин что есть мочи и, оттолкнув меня, летит к своему рюкзаку. Он хватает Филиппо, стараясь отнять у него лупу и карандаш, но тот не сдается.
– Нет, не твое! Это ее вещи!
– Она мне подарила! Теперь это мое!
– Ты ее обманул!
Пока мальчишки кричат и дерутся, приходит завуч, которая их разнимает и начинает выяснять, кто устроил этот бардак.
Кевин все сваливает на Филиппо и заявляет, что тот хотел его обокрасть; тогда я вмешиваюсь и кричу, что Кевин присвоил мои вещи.
– Ты сама мне их подарила, дура!
Я кидаюсь к Кевину и принимаюсь молотить его кулаками, да так, что с меня слетают очки. И хотя в основном мои руки рассекают воздух, несколько раз я попадаю во что-то мягкое, что оказывается лицом Кевина. Значит, драться можно, даже не видя противника. Нужно не забыть записать это в тетрадке, в мой новый список.
Кресла в коридоре перед кабинетом директора такие же неудобные, как в кабинете врача. Но на этот раз рядом нет ни мамы, ни папы. Только Филиппо. Нам сделали предупреждение и выдали по бумаге, где описали все наши злодеяния. Ее нужно подписать у родителей.
Меня первый раз вызвали к директору. И я впервые украла. Я в этом году сделала много того, что в воскресной школе обещала никогда не делать. Но так было нужно – я этого не хотела. Я не планировала бить Кевина или сбегать из дома. На самом деле бить Кевина оказалось даже приятно: он ведь меня обманул, а я ненавижу, когда обманывают.
– Я знаю, ты не любишь, когда врут, но мне сейчас придется немного соврать, а ты сиди и молчи, ладно? – говорит Филиппо, дотрагиваясь до моей руки.
Раньше он никогда не касался меня вот так, просто так. Но зачем ему врать? И о чем? Эстелла часто повторяет, что нужно говорить только правду.
– Если я не совру, тебе тоже достанется, так что молчи.
– Ты о чем?
– Ни о чем. Просто молчи, и все.
Филиппо болтает ногами под стулом и вдруг предлагает:
– А давай кидать бумажные шарики в корзину?
Он мнет листок с замечаниями директора, делает из него шарик и бросает в дальний угол, где стоит ксерокс. Наверное, там мусорная корзина. Я слышу, как бумага падает на дно корзины.
– Теперь ты.
Я мну свой единственный листок, тот самый, что нужно подписать у родителей, делаю из него шарик и кидаю в угол. Все равно нас накажут. Я слышу, как шарик попадает в стену и потом катится по полу. Мимо. Филиппо бежит на звук, подбирает шарик и протягивает мне:
– Давай еще раз.
Когда я готовлюсь к шестому броску, дверь в кабинет отворяется и на пороге появляется директор:
– Вы что это делаете?
Нетрудно догадаться, что он очень-очень зол. Моя смелость улетучивается, пока шарик летит в сторону корзины. Я открываю рот, чтобы извиниться и признаться в содеянном (ведь когда нарушаешь правила, это считается преступлением), но не успеваю сказать ни слова.
– Это мой! – тут же кричит Филиппо.
Наш директор – худой и высокий мужчина с редкими волосами и голубоватыми венами на висках. Я хорошо помню его лицо. Он не злой – просто редко выходит из кабинета и совсем не общается с нами, детьми. Он напоминает того охранника, что вечно перепачкан томатной пастой. Как знать, может, они большие друзья и часто попивают вместе кофе и обсуждают учеников? Впрочем, нет, слишком уж они не похожи. Хотя мы с Филиппо тоже совсем не похожи и все-таки дружим.
Кажется, директор хорошо знает Филиппо.
– Простите, это все я. Я вошел в ее класс, Мафальда хотела меня остановить, но я не слушал, а потом я отобрал у нее листок и стал кидать.
Но ведь все это неправда! Я открываю рот и встаю со стула, но директор отворачивается и, вздыхая, открывает дверь в свой кабинет.
– Плохо, очень плохо! Нам с тобой надо поговорить. А вы, барышня, можете идти!
Филиппо даже не смотрит в мою сторону, и, когда я хватаю его за руку, он вырывается и шепчет: «Уходи!»
Я вижу, как закрывается дверь. Кажется, он улыбается. Филиппо – мой герой, мой защитник. Мой Гарроне.
Похоже, директор не понял, что Филиппо соврал ради меня.
Надо бежать.
Давно я не носилась, как другие дети. Не бегала ни в парке, ни на уроке физкультуры. Смотрю по сторонам – никого. Ни у входа в школу, ни в коридоре ни малейшего признака жизни. Где-то скрипнула дверь и раздался смех; в коридоре показалась женщина в узкой черной юбке с бумагами в руке. Она направилась к ксероксу.
Мне слышно, как она жмет на кнопки и открывает крышку, а зеленый огонек ксерокса виден даже отсюда. В моих глазах замелькали разноцветные звездочки, и я отвернулась.
– Ты что-то хотела? – обращается ко мне незнакомка.
Я направляюсь к своему классу. Все равно Филиппо уже попался. Женщина собирает листы и возвращается в кабинет. Теперь я совсем одна. Стараясь не шевелиться, я считаю до десяти. Никого. Никто меня не ищет. Тогда я иду в комнатку Эстеллы. Для этого нужно миновать зал, где проходят школьные праздники.
В моей школе все стены выкрашены в серый, двери серо-голубые, полы тоже голубоватого цвета. Такое ощущение, что ты в космосе. Я упираюсь всем телом в дверь, открываю ее и быстро захлопываю за собой. Сердце бешено бьется, как барабан бонго, на котором иногда играет Андреа.
Чтобы успокоиться, я оглядываюсь по сторонам, хотя стекла очков грязные и перед глазами только грязные пятна, как на стеклах маминой машины. Кто знает, на стеклах эти пятна или в моих глазах? Мне бы не помешали дворники, как у машины. Они бы смыли все пятна, всю грязь. Но дворники для глаз пока еще не изобрели.
В будке охраны темно, сегодня никто сюда не заходил, жалюзи опущены. Лишь небольшая полоска света проникает через форточку, которая выходит во двор. Я подставляю руку под солнечные лучи и разгоняю кружащуюся пыль, сжимаю и разжимаю ладонь, смотрю на белую кожу и тонкие прямые тени от пальцев на стене. Свет и тень я различаю неплохо, особенно когда они рядом. Не опуская руки, я пытаюсь разглядеть в полутьме обстановку комнатки: кресло на колесиках, письменный стол, тумбочку, в которой Эстелла хранит чипсы… Я совсем забыла про свой подарок! Эстелла же сказала, что оставила его здесь!
Я наклоняюсь под стол и открываю секретный ящичек, куда она прячет вещи, отобранные у учеников. Там я нащупываю бумажный сверток, завязанный лентой, и кладу его на стол. Пакет очень мягкий и довольно странный. Уже второй раз я получаю мягкий и странный подарок! Я стараюсь раскрыть его, не порвав бумагу, но мне не хватает терпения, и она рвется.
Первое, что бросается в глаза, – звезда. Большая и белая, из ткани. Звезда эта напечатана на футболке черного цвета. Очень похожей на те, что продаются в магазине у мамы Филиппо. Может, Эстелла ее там и купила? Приятно думать, что у Эстеллы и Филиппо есть что-то общее.
Я прижимаю футболку к лицу и чувствую приятный запах порошка: прежде чем завернуть подарок, Эстелла постирала и погладила футболку. Так пахнут вещи, в которых она ходит на работу. Звезда на футболке немного светится – я чувствую это даже руками. Руки нащупывают и вторую звездочку, поменьше, на другой стороне футболки. Я прикладываю футболку к телу, и маленькая белая звездочка оказывается прямо напротив сердца.
18. Никто не стрелял
У мамы в машине всегда очень жарко. А сегодня мне еще жарче, потому что я должна рассказать, что мне написали замечание и что я скомкала и выкинула листок, который ей нужно подписать. Но мама, как обычно, очень много говорит, и я не перебиваю. Прислонившись лбом к стеклу, я дышу на него и рисую маленькую звездочку. Она так быстро исчезает, что я даже не успеваю ее разглядеть. Но это не важно. В моем рюкзаке лежит новая футболка, на которой целых две звезды: маленькая – моя, большая – Эстеллы. Когда мы приходим домой, я прячу подарок под кровать. Так я не забуду его взять, когда перееду на дерево, а когда наступит весна, я надену новую футболку, и у Эстеллы будет уже три звездочки, ведь ее имя тоже означает «звезда».
Поднимаясь по ступенькам, я думаю о том, что, прежде чем рассказывать неприятные новости маме и папе, надо позвонить Эстелле и поблагодарить за подарок, а то потом мне не позволят говорить по телефону.
Обычно на лестнице я стараюсь сосредоточиться, чтобы не упасть, особенно если место мне незнакомо: никогда не знаешь, какие там ступеньки. Но дома ноги сами бегут наверх: по этим ступенькам я бегала с самого раннего детства, так что по ним я могу подняться и с закрытыми глазами. Думаю, даже темнота мне не помешает. Вот что нужно записать в тетрадке, точно!
– Осторожно, девочка! Дорогу, дорогу! – кричит кто-то. Я отпрыгиваю в сторону, вцепившись в перила, и вижу, что на меня надвигается целый шкаф. Говорящий шкаф вышел из нашей квартиры!
– Ты куда?
Из-за шкафа высовывается голова вспотевшего незнакомца, который опускает шкаф на ступеньку. Теперь я зажата между перилами и шкафом. Вспотевший незнакомец стоит так близко, что я чувствую исходящий от него жар. Он роется в кармане.
– Виа Грамши, дом двадцать три – вот куда, – отвечает он, снова приподнимает шкаф и с неимоверным усилием принимается тащить его вниз. Но ведь это наш шкаф! Я вбегаю в дом и натыкаюсь на кучу коробок.
– Мама, что это?
– Осторожно, солнышко!
– Что случилось?
Держа в одной руке крышку от сковородки, а в другой – сумочку, мама выходит из кухни.
– Ты что, забыла? Ты же ездила с нами смотреть новую квартиру. Пора отвозить вещи, дорогая! Через неделю мы переезжаем.
Я протягиваю руку и ощупываю стену, но на месте маминой и папиной свадебной фотографии ничего нет. Мне так нравилась эта фотография, а теперь на ее месте серая пустота. Фотографию положили в коробку и унесли. Надеюсь, ее не разобьют. Она мне очень дорога, хотя теперь я вижу совсем плохо.
Очки запотели. Я направляюсь в свою комнату. Весь коридор заставлен некрасивыми серыми коробками, на которые я стараюсь не наткнуться. Отвратительный цвет, как у самой дешевой туалетной бумаги из макулатуры.
Мама идет за мной, не выпуская крышку из рук. Я смотрю на нее снизу вверх, и в какой-то момент мне начинает казаться, что это не она.
– Мам, можно, я сама дойду?
– Ну ладно, хорошо. Осторожно, не наступи на что-нибудь. Я тебя позову, когда обед будет готов.
Я стою на пороге. В комнате совсем темно. Я протягиваю руку к выключателю и в то же самое время закрываю глаза. Делаю шаг вперед, потом другой, пока не оказываюсь в центре комнаты. Потом плавно поворачиваюсь. Я знаю. Я знаю, что в моей комнате все на местах, что еще ничего не унесли. Я чувствую это лицом и руками. Нужно верить: все на своем месте, все так, как всегда. Сюда они придут в последнюю очередь.
Я направляюсь к своему шкафу и ощупываю его. Я помню, что он из светлого дерева. Еще два шага, и я уже у стола. Так вот где моя точилка – на уроке я никак не могла ее найти. В одном месте на полу плитка немного отошла от пола. Нащупываю ее ногой. Если на нее наступить, то послышится легкий звон хрусталиков люстры. Именно с этого места я последний раз смотрела на себя в зеркало. Я открываю глаза. И ничего не вижу. Я делаю шаг вперед. Ничего. Еще. И еще один. Наверное, зеркало уже увезли. Я хочу вытянуть руку, проверить, на месте ли зеркало, но не успеваю, потому что раздается какой-то выстрел и зеркало разлетается на тысячи осколков. Оно было на месте, на том самом месте. Я порезалась. Запах крови похож на запах ключей от нашей квартиры.
– Мафальда, что случилось? – громко спрашивает мама из кухни. – Стой, где стоишь, я сейчас перевяжу рану! – кричит она при виде разбитого зеркала и бежит в ванную.
Я слышу, как она роется в оставшихся ящиках. Значит, это я разбила зеркало. Никакого выстрела не было. Я просто врезалась в него, и оно разлетелось. Значит, до зеркала осталось ноль шагов.
Сегодня среда. А в понедельник мы переезжаем на новую квартиру. Точнее, они переезжают, а не я. Потому что я поселюсь на дереве и больше с него не слезу.
Я просыпаюсь, потому что из кухни доносятся громкие голоса и чей-то плач. Раннее утро, и серый туман в глазах еще не сгустился; нужно этим воспользоваться и пойти посмотреть, кто пришел в такую рань. Я сразу надеваю тапочки – вдруг на полу остались мелкие осколки, не хотелось бы порезаться еще раз! – и медленно иду в кухню, стараясь не наткнуться на ящики.
– Привет, Мафальда. Прости, я тебя разбудила, – доносится голос Равины из-под копны черных волос.
– Что ты здесь делаешь?
Мама усаживает меня за стол и протягивает чашку чая и печенье.
– Равина зашла с нами попрощаться. Она на какое-то время возвращается в Индию.
Печенье выпадает у меня из рук и едва не оказывается в чашке. Я поправляю очки и смотрю на Равину с разинутым ртом:
– Зачем? И когда ты вернешься?
Равина только вздыхает в ответ. Под глазами у нее огромные черные круги. У мамы такие, когда она забывает стереть макияж, и потом она с утра похожа на панду, которую я однажды видела в зоопарке. Кажется, они появляются, если взрослые женщины плачут.
– Мы с Андреа расстались! Мне нужно вернуться домой. Буду помогать дедушке с бабушкой, побуду пока с ними.
Бульк! И мое печенье все-таки падает в чай.
– Но почему? Почему вы расстались?
– Мафальда, не уверена, что Равина хочет об этом говорить.
Равина гладит мою руку и отвечает, что все в порядке и что она пришла побыть со мной.
– Не нужно ее лишний раз тревожить, – говорит мама и включает воду, чтобы помыть посуду.
Я еще не привыкла к тому, что мама все время дома. Кажется, она вот-вот уйдет на работу, но она не уходит и все время за мной присматривает.
Равина говорит, она сама рассталась с Андреа, потому что он никогда не говорит, что любит ее. Я не очень понимаю, почему это так важно. Любить можно родителей, бабушку, друзей и даже животных, а парня любят другой любовью, в итальянском это даже разные слова, это только на английском говорят «ай лав ю» всем подряд. Мне рассказала об этом девушка-практикантка.
– Да, так и есть, но он не говорит мне ни одного из этих слов.
– Даже на английском не говорит?
– Даже на английском. А я сказала ему, что люблю его, раз сто, не меньше.
Вот это да! Равина сказала «Я тебя люблю» сто раз! Нужно скорее предупредить ее.
– Ты знаешь, что у тебя вот-вот родятся сто детей? – спрашиваю я.
– Что еще за дети, Мафальда? – с ужасом оборачивается мама.
– Просто если один человек говорит другому, что его любит, у него рождается ребенок, – отвечаю я.
– Кто тебе такое сказал?
– Никто.
Я не хочу подставлять Эстеллу, потому что, кажется, я не совсем правильно поняла, откуда берутся дети. Равина уверяет, что завести ребенка совсем не так просто и сказать «Я тебя люблю» для этого недостаточно.
– Как раз наоборот: если ты не говоришь человеку о своей любви, ты потеряешь его, как Андреа потерял меня. И уж конечно, от признания в любви детей не бывает.
Мама варит кофе, и, пока они с Равиной пьют его, я умываюсь и одеваюсь. Папа помогает мне надеть рюкзак и открывает дверь. Равина крепко меня обнимает. От нее пахнет церковью, водою и пляжем. Значит, она недавно плакала. У каждого человека от слез возникает особенный запах – так вот, от Равины пахнет водою и пляжем. Она берет мое лицо в свои ладони и заглядывает мне прямо в глаза, так что я даже могу ее разглядеть. У нее темно-коричневые глаза. Не черные.
– Не сдавайся, Мафальда. Запомни! Никогда не сдавайся.
– Ладно. Не буду.
– Ты храбрый лягушонок!
Я выхожу на лестницу. Мои очки совсем запотели от слез. Я машу рукой Равине и понимаю, что больше никогда ее не увижу. Она уедет в Индию, и даже если вернется… мы больше не встретимся. Ведь я уже буду жить на черешне в полной темноте.
19. Это интересно
– Смотри, сколько цветков на черешне, Мафальда.
Я иду в школу, а папа крепко держит меня за руку. Я смотрю на черешню и стараюсь думать о цветках. Об этом рассказывала Равина, которая умеет хорошо медитировать. Нужно думать сильно-пресильно, изо всех сил. Это значит «медитировать над черешней».
На самом деле мы еще слишком далеко. Иногда папа может сказать: «Ты это видела? Посмотри» – и так далее, и мне его немного жаль, потому что он хочет что-то мне показать, а я молчу в ответ, и тогда он понимает, что снова забылся, и становится очень грустным. Кажется, он хочет попросить у меня прощения. «Подожди, давай подойдем поближе», – отвечаю я, и тогда и ко мне, и к папе возвращается хорошее настроение.
Однако с недавнего времени этот трюк не работает, потому что я не могу разглядеть почти ничего, что показывает папа, даже когда мы подходим очень близко.
Сегодня на черешне должны раскрыться первые весенние цветочки. Равина советовала мне закрыть глаза и глубоко вдохнуть – так я и делаю. Ноздри сразу же чувствуют холод, но, как только ветер доносит до меня запах черешни, я понимаю: пришла весна. Моя весна пахнет бабушкиными конфетами с начинкой из ревеня, полевыми цветами – не теми, что продаются в киосках и от которых пахнет кладбищем, а настоящими, которые растут в полях и в садах аккуратных старушек.
Пора начинать считать: кажется, я уже вижу что-то большое, напоминающее дерево. Здание школы скрыто от меня серым пятном, но я уверена, что в школьном дворе меня ждет мое дерево, покрытое цветами. Я их прекрасно помню: они как маленькие шарики, похожи на тысячи белых мотыльков, присевших на макушку великану, проснувшемуся после зимней спячки.
В общем, хоть я и не уверена, что вижу дерево, я считаю про себя: раз, два, три… Чем ближе мы подходим к школе, тем сильнее становится нежный и свежий весенний запах с нотками карамели. Весна, словно милая улыбающаяся девушка, окутывает мое лицо и волосы шелковым голубым шарфом. Один локон выбивается и щекочет нос, но я терплю, считаю шаги и дохожу до пятидесяти двух. Осталось двадцать шесть метров. Даже меньше: ведь я немного сжульничала – не разглядела дерево, а представила. Ну и что! Это почти то же самое, что увидеть.
Нужно хорошо все обдумать. Равина сказала, очень важно быть честным с собой. Хоть я и не совсем понимаю, что это значит, но думаю, что правда – это главное в жизни. Нельзя обманывать даже в мыслях.
Я смотрю в землю и думаю о правде и лжи, как вдруг слышу слабый свист, который заставляет меня поднять голову и посмотреть в сторону школы. Кажется, это Эстелла, вот только свистит она не так громко и не так длинно. Я отпускаю папину руку и бегу к воротам мимо своего дерева. Я чувствую свежесть мокрой коры, даже не касаясь ее руками.
– Эстелла! Ты вернулась!
– Да!
Подняться по ступенькам в школе для меня совсем не сложно – это так же просто, как дома; но вдруг я чувствую, что рядом совсем никого: ни папы, ни Эстеллы, – и сбиваюсь со счета. Всего семнадцать ступенек, и обычно я даже перескакиваю через одну, кроме самой первой, потому что так удобнее, а иначе остается одна наверху, и от этого ноги заплетаются.
В общем, школьной лестницы я обычно не боюсь. Однажды я случайно забыла очки у мамы в машине и бабушка принесла мне их только ко второму уроку, но мне было совсем не страшно. А вот сегодня я испугалась. И хотя я прекрасно помнила, какой высоты каждая ступенька и как нужно поставить ногу, мне вдруг показалось, что тело обо всем забыло и что подо мной не ступеньки, а бурлящая лава, полная крокодилов, так что я вот-вот упаду, сварюсь и меня съедят. Я почувствовала, что теряю равновесие и падаю на спину. Даже вскрикнуть не успела.
Неприятно чувствовать, что ты вот-вот упадешь в темноту. Но все-таки я не упала. Меня подхватили руки Эстеллы, и я неловко приземлилась на верхней, самой высокой ступеньке, где и стояла Эстелла. Я уткнулась очками и носом в ее надушенную блузку и замерла. Впервые мы стояли вот так, обнявшись. Мама часто меня обнимает, и бабушка тоже любила меня обнимать и приподнимать на руках, хотя они у нее были больные. Но в объятиях Эстеллы чувствовалось что-то другое.
У мамы очень мягкие руки, и, когда она меня обнимает, я лежу на ней, как на подушке. И с бабушкой я чувствовала тоже самое. Она была вся мягкая, как тесто. Но там, где у мамы и бабушки была мягкая подушка, я чувствую у Эстеллы лишь пустоту и слышу стук сердца: тук-тук-тук!
Я поднимаю голову вверх, чтобы спросить Эстеллу, что с ее подушкой, но тут раздается голос папы. Он спрашивает, все ли в порядке, и Эстелла отпускает меня и разворачивает к нему, чтобы он не волновался и увидел, что я цела. Мы заходим в школу. Эстелла больше не обнимает меня, а я от удивления не осмеливаюсь заговорить с ней. Мой третий глаз подсказывает мне: лучше забыть об этом до большой перемены.
– Эстелла, можно, я зайду к тебе в обед?
В ответ Эстелла нежно гладит меня по голове, словно она вовсе не Эстелла, королева амазонок, а та улыбающаяся дама с голубым шарфом, недавно летавшая в весеннем воздухе.
– Почему ты чуть не упала на лестнице? Что случилось?
– А что ты делаешь? – отвечаю я вопросом на вопрос, потому что вся комнатка охраны перевернута вверх дном. Повсюду летает пыль, и куда ни положи руку – везде что-то валяется. Даже мои ноги натыкаются на что-то твердое – видимо, книги.
Эстелла вытирает мой нос платком, от которого пахнет стеклоочистителем, таким же, какой использует мама.
– Да ты у нас и впрямь принцесса? Только тебе можно задавать вопросы, а на вопросы других отвечать не обязана?
– Прости, пожалуйста. Но что ты делаешь?
Эстелла со вздохом откладывает тряпку и пододвигает ко мне кресло. Я залезаю в него и, держась за ручки, принимаюсь крутиться.
– Я просто убираюсь, дорогая. Иногда приходится убираться, представляешь?