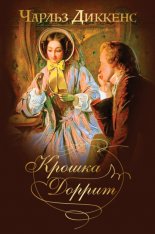Аквамарин Эшбах Андреас

Andreas Eschbach
Aquamarin
© 2015 by Arena Verlag GmbH, Wrzburg, Germany. www.arena-verlag.de
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2019
1
Они ждут меня, я вижу сразу. Вот они стоят на том конце длинного, сверкающего на солнце бассейна для рыб перед Тоути-холлом, ну а зачем бы еще им там стоять? Больше всего мне хочется развернуться и уйти. Всё во мне кричит, что именно так и надо поступить. Но это было бы самой большой ошибкой, ведь тогда Карилья поняла бы, что она меня победила. Поэтому я иду дальше как ни в чем не бывало, иду прямо к ней и ее свите. Сегодня четверг, на часах чуть больше половины одиннадцатого – или сорок четыре тика, как принято говорить за пределами Зоны. Четверг, 4 ноября 2151 года, если быть совсем точной. На небе ни облачка. Будет жаркий день, предвестник грандиозного лета, до которого уже рукой подать. Воздух полон запаха водорослей. Из порта доносятся скрип погрузочных кранов и голоса работающих там мужчин, но сейчас эти звуки лишь подчеркивают неестественную угрожающую тишину, навстречу которой я иду.
У меня всё сжимается внутри. Они, как обычно, будут издеваться надо мной. Я не знаю, что именно ожидает меня сегодня. Знаю только, что мне это не понравится. Другого пути нет, их не обойти. Здание школы, как осадная башня, возвышается у подножия скалы, отделяющей порт от города, и попасть на школьный двор можно только через ворота. Через ворота и по выложенной плиткой тропинке между городской стеной слева и Тоути-холлом справа.
И вот я иду вдоль бассейна для рыбы, который пугает меня с самого первого дня в этой школе. Я могу разглядеть в нем стайку рыб-клоунов в красную, черную и белую полоску; кажется, они с интересом следят за тем, что сейчас произойдет. Может быть, не произойдет ничего. Я делаю вид, будто в торчащих здесь Карилье и ее верных друзьях нет ничего необычного, и, едва взглянув, пытаюсь молча пройти мимо. Как только доберусь до школьного двора, я буду спасена, потому что там сейчас все остальные, да и учителя тоже, которые за всем следят.
Но у меня, конечно же, ничего не выходит. Карилья встает у меня на пути и спрашивает:
– Ну? Хорошо спалось?
Что я могу на это ответить? Она спрашивает не потому, что ее волнует мое самочувствие, – оно ее интересует меньше всего на свете. Всё дело в том, что по четвергам у Карильи и всех остальных первые три урока физкультуры (плавание или что-то еще, связанное с водой), а я освобождена от них по медицинским показаниям. Я могла бы отсыпаться до десяти утра, если бы хотела. На деле же встаю по четвергам как и в любой другой день и в свободное время повторяю что-нибудь к урокам. Сегодня с утра я готовилась к контрольной по китайскому, которая ожидает нас на следующей неделе. Я всё еще надеюсь избежать открытого конфликта и, пробормотав «Ничего так», пытаюсь протиснуться слева от Карильи. Она снова преграждает мне путь.
– Стой спокойно, когда я с тобой разговариваю, Рыбья Морда!
Не Саха. Только учителя называют меня по имени. Мои одноклассники называют меня Рыбьей Мордой. Если вообще замечают. По мне, лучше бы не замечали. Я делаю шаг назад и прижимаю к груди планшет, хотя прекрасно понимаю, что он никак не защитит. Но больше у меня ничего нет. Что вообще происходит? Почему именно сегодня? Неужели Карилья завидует тому, что ей нужно на физкультуру, а мне нет? Ну, она не настолько тупа, чтобы ей потребовался целый учебный год, чтобы это заметить. Двое парней из ее свиты делают шаг вперед и встают рядом с ней: Бреншоу, ее герой-любовник, и Раймонд, ее верный паж. Остальные окружают меня сзади. Ни единого шанса на побег.
– Чего ты хочешь? – спрашиваю я.
Губы Карильи искривляются в усмешке.
– Чего я хочу? Не видеть каждый день твою противную рожу!
Если бы сказал кто-то другой, это было бы смешно – и не более того. Но из уст Карильи Тоути это звучит угрожающе. На деньги ее деда был построен Тоути-холл, ее отец что-то вроде короля Сихэвэна. Карилья считает себя наследной принцессой и уверена, что город принадлежит ей. Город как минимум.
– Если тебе так не нравится мое лицо, – всё же отвечаю я, – просто смотри на что-нибудь другое.
Карилья не только дочь богатых родителей, она еще и выглядит как ангел, со светлыми волосами ниже пояса и телом, от которого сходят с ума все парни. Она уже дважды становилась королевой красоты Сихэвэна, и в обозримом будущем у других девушек может появиться шанс, только если Карилья не будет участвовать в конкурсе. От всего этого ее хищная ухмылка выглядит еще опаснее.
– Я бы рада, представь себе, – говорит она. – Но я слишком часто вынуждена находиться с тобой в одном помещении. К тому же стоит мне посмотреть по сторонам, как того и гляди попадется на глаза твоя стремная тетушка.
Она начинает размахивать руками, передразнивая язык жестов. Тут она попала в мою болевую точку и прекрасно об этом знает. И я знаю, что она знает, но всё равно не могу не огрызнуться в ответ:
– Оставь мою тетю в покое!
Она продолжает размахивать руками. Свита хохочет.
– Нормальные люди такое лечат.
– В случае с моей тетей это невозможно, – отвечаю я, хотя отлично понимаю бессмысленность своих слов. – У нее отсутствуют необходимые для этого проводящие нервы. Это врожденный дефект.
Карилья прекращает жестикулировать.
– Ах, врожденный дефект, – передразнивает она меня. – Похоже, это у вас семейное – врожденные дефекты…
Хохот нарастает. Я по-прежнему не понимаю, что всё это означает. И тут Карилья внезапно становится совершенно серьезной.
– Слушай меня внимательно, Рыбья Морда, – говорит она. – Мы решим эту проблему, причем раз и навсегда.
Она достает свой планшет, ищет в нем что-то, а потом делает в мою сторону смахивающее движение, каким пересылают файлы. Мой планшет, который я по-прежнему прижимаю к груди, издает булькающий звук, сигнализирующий о том, что пришло сообщение. Я заглядываю в планшет. Карилья прислала мне две анкеты.
– Что это? – спрашиваю я.
– Это заявления для поступления в профессиональные училища в Уэйпе и Карпентарии, – отвечает Карилья. – Можно уйти после второго класса старшей школы. Так многие делают. Тебя возьмут, у тебя же хорошие оценки.
Она говорит так презрительно, как будто хорошие оценки – это что-то совершенно неважное. Впрочем, в ее случае так и есть. При желании Карилья могла бы спать хоть целый год и всё равно закончила бы школу с аттестатом, который ей никогда в жизни не понадобится.
– С чего бы мне это делать? – озадаченно спрашиваю я. Что Карилья с легкостью упускает из виду при планировании моего будущего, так это то, что таким образом я лишила бы себя малейшего шанса когда-нибудь в этой жизни поступить в университет.
В университет попадают только закончив все четыре класса старшей школы.
– С чего бы тебе это делать? – Карилья приближает свое ангельское личико к моему. – Потому что я тебе велю. Потому что я не хочу больше видеть твою рыбью рожу. Потому что мы все не хотим больше видеть твою рыбью рожу. – Она презрительно морщит нос. – Потому что так ты избежишь кучи неприятностей.
Раньше, чем я успеваю понять, что происходит, она отталкивает меня от себя. Я налетаю на Раймонда, который тоже толкает меня, и вот они уже перебрасывают меня друг другу, и я ничего не могу с этим сделать. Все смеются и кричат. А потом я вдруг спотыкаюсь, и там, куда наступаю, почему-то не оказывается земли. Я падаю, лечу в пустоту, в воду. В ту самую воду, в которую мне ни в коем случае нельзя попадать.
Вода обхватывает меня, холодная и мокрая, беспощадно тянет меня в глубину. Синее небо над головой сменяется кипящим серебром, издевательский хохот тонет в неясном бульканье и шорохе. Я не умею плавать, беспомощно загребаю руками, чувствую, как пузырики воздуха поднимаются у меня изо рта. Я опускаюсь на дно, и меня парализует внезапная боль в боку, как будто бы там что-то разорвалось. Над собой я вижу неясные контуры фигур, которые склоняются над водой, а потом отворачиваютсяи исчезают.
Они бросили меня. Они отлично знают, что я не умею плавать, но это их не волнует.
Я должна бояться смерти, но мне почему-то не страшно. Мне кажется, что я могла бы дышать под водой. Парочка рыб-клоунов проплывает перед лицом и с интересом рассматривает меня. Я пытаюсь что-то сказать, но это плохая идея, потому что вода тут же устремляется в рот и в нос, и наступает темнота.
Когда снова прихожу в себя, я лежу в постели, надо мной голубой потолок. Комната непривычно пуста, при этом она кажется мне знакомой. В окнах матовые стекла. И всё же мне требуется некоторое время, чтобы осознать, что это амбулатория в боковой пристройке Тоути-холла, сюда можно быстро добежать и со школьного двора, и со спортплощадки. Я лежу под тонким белым одеялом, пахнущим чистотой и химией. Под одеялом я совершенно голая. Инстинктивно натягиваю одеяло до подбородка. Кто меня раздел? И где мои вещи?
Я копаюсь в своей памяти, которая, похоже, еще не совсем проснулась. По всей видимости, я была без сознания, но как долго – не имею ни малейшего понятия. Помимо этого, помню, как меня хватают и тащат наверх сильные руки, как кто-то кричит – возможно, это я сама и кричу, – а кто-то говорит «Ой, это, похоже, было всё-таки чересчур». И как я снова погружаюсь в темноту.
Я ощупываю себя. Всё на месте. На простыне пара мокрых пятен, один из моих пластырей отклеился. Я прижимаю его изо всех сил, но это, конечно, не помогает, дома придется наклеить новый.
Тут открывается дверь. Это доктор Уолш протискивает в комнату свое внушительное тело. Одетый в белый халат, он добродушно улыбается.
– Ну, Саха Лидс, – произносит он и выключает какой-то прибор на стене надо мной. – Вернулась к жизни?
Доктор Уолш не очень-то хороший врач, иначе для него нашлась бы работа получше. Но он уверенно излучает прекрасное настроение и надежность. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы оказать помощь практически в любой ситуации, которая может возникнуть в школе.
– Как долго я отсутствовала? – спрашиваю я, всё еще подтягивая одеяло к подбородку.
– Отсутствовала? – весело переспрашивает он. – Ты не отсутствовала. Ты всё время была здесь.
– В смысле, сколько я была без сознания?
– Ты просто спала. Я вколол тебе успокоительное, на которое ты среагировала сильнее, чем я ожидал.
Он достает из кармана стетоскоп.
– Я, конечно, немало утопленников повытаскивал, но столько воды, сколько из тебя, ни из кого еще не выливалось. Это было впечатляюще.
Он делает жест своей мясистой рукой.
– Хочу проверить, не осталось ли еще чего внутри. Ну-ка сядь.
– Я без одежды, – возражаю я голосом, который мне самой кажется на редкость жалобным.
– Естественно, – отвечает доктор Уолш, и кончики его рыжеватых усов весело подрагивают. – Ты же промокла до нитки. Миссис Альварес тебя раздела и отправила твои вещи сушиться.
Я нервно сглатываю.
– А кто меня спас? Мистер Альварес?
Мистер и миссис Альварес – школьные завхозы. Оба, скажем прямо, довольно непонятные личности. Не хотелось бы быть обязанной им жизнью. Доктор Уолш кивает.
– Он тебя вытащил, да. Но, на твое счастье, один мальчик видел, как ты упала, и нажал кнопку экстренного вызова.
– Мальчик? – продолжаю спрашивать я. – Какой?
– Имя я забыл. – Доктор Уолш надевает стетоскоп. – Дай-ка я послушаю. Повернись спиной.
Я обреченно сажусь на кровати, продолжая прижимать к себе одеяло, и послушно следую указаниям: глубоко вдыхаю и выдыхаю через рот. Он внимательно слушает мои легкие. Это продолжается так долго, что у меня от всех этих вдохов-выдохов начинает кружиться голова. Я испытываю большое облегчение, когда он наконец произносит: «Хорошо. Всё чисто». Облегчение в первую очередь потому, что мне не придется при нем оголять свою грудь. При этом, по сути, смотреть там особо не на что. Моя грудь не стоит упоминания, а тетя Милдред говорит, что если она до шестнадцати толком не выросла, то и дальше существенно ничего не изменится. Тут Карилья права: я довольно страшная.
Доктор Уолш вытаскивает из ушей стетоскоп и дотрагивается до одного из аэрозольных пластырей, украшающих мою грудную клетку. Сейчас они выглядят как длинные полупрозрачные червяки на коже.
– А вот это, – говорит он, – и есть те раны, про которые написано в твоей справке?
Он убирает стетоскоп в карман.
– Я почитал твое дело.
Мне неприятно говорить об этом. Я и без того имею достаточно неприглядный вид. Киваю и говорю «да».
– И они не заживают? – спрашивает доктор Уолш с любопытством.
– Нет. Каждый раз после душа мне приходится снова заклеивать их жидким пластырем. – На самом деле я меняю только те, что отклеились. Пластырь ужасно дорогой.
– Дай-ка гляну.
Я неохотно поднимаю левую руку и убираю одеяло так, чтобы он увидел во всей красе пять прорезей на расстоянии в два пальца друг от друга, от спины до груди наискосок, с небольшим уклоном вниз.
– На другой стороне такие же, – объясняю я. – Симметричные.
На самом деле моей груди никак нельзя вырастать больше, иначе ей будут мешать разрезы. И как это может выглядеть, я даже представлять себе не хочу.
– В справке написано, что это был несчастный случай, – говорит доктор Уолш. – Как это произошло?
Я пользуюсь моментом, чтобы снова прикрыться одеялом. Терпеть не могу пересказывать эту старую историю, но никуда не денешься.
– Когда я была совсем маленькой, я попала под робота – косильщика газонов. Мама вовремя успела меня вытащить, иначе он бы меня на кусочки порезал.
Я сама этого не помню, но столько раз слышала эту историю, что сейчас мне уже кажется, что это мои собственные воспоминания.
– У робота ножи были из кобальта. Раны, нанесенные им, практически не заживают.
– Кобальт? – Доктор Уолш явно впечатлен. – Я такого никогда не слышал. – Он добродушно хмыкает. – Удивительная история. И что, никто никогда не пытался зашить эти раны?
– Пытались, конечно, – отвечаю я. Если внимательно посмотреть, то вдоль разреза на моей коже видны маленькие белые точки, оставшиеся от этой попытки. – Но это ничего не дало. Внутри что-то воспалилось. И детский врач, наблюдавший меня, решил, что лучше будет заклеивать их жидким пластырем. И запретил залезать в воду.
Дверь снова открывается. Входит миссис Альварес, тощая, беззвучная, в развевающихся черных одеждах – в общем, пугающая. Она принесла мои вещи, высушенные и сложенные аккуратно, мне бы в жизни так не удалось сложить. Наверху стопки лежит мой планшет. Миссис Альварес замечает мой встревоженный взгляд.
– Он тоже побывал в воде, – говорит она высоким голосом, который звенит так, будто вместо связок у нее стальная проволока. – Я его тоже высушила, он работает.
– Как это случилось? – хочет знать она.
По выражению лица доктора Уолша можно предположить: он как раз осознал, что совершенно забыл задать мне этот вопрос.
У меня было достаточно времени, чтобы сообразить: жаловаться на Карилью совершенно бесполезно. Поэтому я говорю:
– Даже и не знаю. Я просто упала.
– Что значит «просто»? – строго переспрашивает доктор Уолш. – У тебя голова закружилась? Ты, может, сидишь на какой-нибудь из этих модных нынче диет?
– Нет, – честно отвечаю я. – Я прекрасно понимаю, что, если похудею, краше не стану.
– Точно нет? У нас тут такое часто встречается. Девочки думают, что они слишком толстые, перестают есть, а потом в самый неподходящий момент падают в обморок.
– Моя тетя говорит, что я ем как не в себя, – утверждаю я.
– Ну и отлично, – отвечает доктор Уолш. Они с миссис Альварес переглядываются и дружно кивают, как будто им нужно подтвердить, что они этим очень довольны.
– Тогда сейчас мы оставим тебя одну, чтобы ты могла спокойно одеться. Потом ты пойдешь домой и отдохнешь.
Я киваю.
– Получается, я прогуляла китайский и математику?
Доктор Уолш улыбается так доброжелательно, как умеет только он один.
– Я уже проинформировал твоих учителей о произошедшем и предупредил их, что тебя не будет. Можешь по этому поводу не переживать.
– Спасибо, – говорю я, но, конечно, всё равно переживаю.
– Да, кстати, если тебе сегодня вечером станет нехорошо или голова начнет кружиться, ты мне сразу же позвонишь, поняла?
Я обещаю позвонить, если что, и они уходят. Уже в дверях доктор Уолш еще раз оборачивается и спрашивает:
– Кобальт, верно?
– Что? – удивленно переспрашиваю я.
– Те ножи ведь были из кобальта?
– А, да, – говорю я.
Он с улыбкой кивает.
– Век живи, век учись.
И закрывает за собой дверь.
Я покидаю школьный двор незадолго до конца уроков. Еще пара минут, и они повалят из главного здания, смеясь и вопя, тысяча школьников, согнанных вместе на целый день. Многие из них приезжают на велосипедах или свишерах, припаркованных плотными рядами под навесом у ворот. Они разъедутся по всему городу, они быстрее меня, и мне совсем не хочется встречаться с кем-то из них. Поэтому, выйдя за ворота, я сразу же поворачиваю направо, перелезаю через невысокий парапет, идущий вдоль набережной, и ныряю в кусты между забором школьного двора и обрывом. Там я нахожу укромное местечко, где меня никто не заметит, зато оттуда хорошо виден пляж. Хотя меня и научили держаться от моря подальше, я его очень люблю. Смотреть, как волны набегают и уходят, слушать шум прибоя – всё это оказывает на меня почти магическое действие. Успокаивает мою душу – а мне это сейчас необходимо.
Я нахожу пятачок, на котором растет хоть какая-то трава и нет того мусора, который некоторые кидают через забор несмотря на строжайшие запреты, и усаживаюсь. Только сейчас я замечаю, что меня трясет. Приходит запоздалый ужас оттого, что Карилья и ее свита бросили меня на произвол судьбы, несмотря на то что отлично знали: я не умею плавать. Можно ли более явно продемонстрировать свою враждебность? Очевидно, что Карилья была бы совершенно не против увидеть меня мертвой.
Я накрываю голову руками и закрываю глаза. Всё мое тело дрожит, и я чувствую, что вот-вот заплачу. Я уже не в первый раз после нападения забиваюсь в какой-нибудь угол и плачу. Но сегодня вместо этого мысленно возвращаюсь к моменту под водой – за секунду до того, как потеряла сознание. К тому мигу, когда мне показалось, что я могу дышать водой. И к тому, какое я тогда испытала умиротворение, почти что радость. У меня было чувство, будто больше никто не сможет сделать мне ничего плохого.
Когда я думаю об этом, мне становится не по себе. Была ли я так близка к смерти, что у меня начались галлюцинации? А может быть, в тот момент я радовалась приближающейся смерти? Было ли это чем-то вроде зова? Желанием смерти? Мои собственные мысли ужасают меня, я поднимаю голову и делаю глубокий вдох. Нет! Я ни за что не выберу этот путь, который бы вполне устроил Карилью! Я тру уголки глаз, но там всё еще никакого намека на слезы. Вместо этого я замечаю доктора Уолша, который летящей походкой идет по набережной в белом льняном костюме и плетеной шляпе от солнца.
Доктор Уолш не женат и, похоже, наслаждается своим положением, как, впрочем, и всей своей жизнью. Сейчас он направляется в клуб, где каждый день обедает, а после позволяет себе выкурить сигару, что нетрудно почувствовать, если встретить его после обеда. Его клуб – клуб Принцессы Шарлотты – назван в память о старом названии залива, на берегах которого расположен Сихэвэн. Когда-то давно, когда Австралия еще была так называемым «государством», а правил ею король в далекой Англии, Эквилибри так и назывался: залив Принцессы Шарлотты.
Здание клуба видно отсюда. Это неприметная постройка над пляжем, стоящая на темных сваях для того, чтобы противостоять приливам, которых уже давно не бывает. На террасе полно зонтиков от солнца, белых, синих и красных, по цветам флага Великобритании. Клуб очень внимательно относится к поддержанию традиций. Хотя в нашей зоне традициям вообще придается огромное значение, но здесь на них буквально помешаны. Взять хотя бы тот факт, что здание клуба старше, чем сам город: это военный пост, построенный в те времена, когда эта местность называлась Северным Квинслендом и была практически не населена. Здесь были непролазные джунгли, сплошные москиты и болота – конечно же, до того, как в прошлом веке климат резко изменился.
Я лишь смутно представляю себе, где вообще находится Великобритания и какая она. Мы лишь слегка коснулись темы «Европа» в школе. Мне вспоминается только, что времена года в Северном полушарии должны быть не как у нас, а в точности наоборот. Что там у людей в декабре зима, а у некоторых так даже со снегом и льдом! Поверить в это трудно, хотя фотографии оттуда я, конечно, видела. А лето там в июле, когда у нас сезон дождей.
Здание клуба выглядит невзрачным на фоне всех этих роскошных, белоснежных, сияющих на солнце вилл на Среднем мысе, выступающей оконечности берега залива на противоположной стороне от городского пляжа, которую все называют не иначе как Золотой горой, а на самой макушке ее возвышается феодальная твердыня Тоути. И всё же клуб – сердце окрестностей, потому что виллу на Золотой горе можно купить, а вот членство в клубе нет: для этого необходимы рекомендации других членов клуба. Доктор Уолш очень гордится своей принадлежностью к кругу избранных. Он не богат и не красавец, а всё равно входит в этот круг. А я не вхожу. Я никуда не вхожу, ни к чему не отношусь. В этом моя проблема.
Меж тем вокруг стало тихо. Все разошлись, на школьном дворе удивительно спокойно. Моя внутренняя дрожь улеглась. Я встаю, отряхиваю пыль со штанов. Хорошо было посидеть здесь, послушать шум моря и дать волю собственным мыслям. Но теперь пора домой.
2
Когда я прихожу домой, тетя Милдред порхает по кухне и буквально лучится хорошим настроением. Ее жесты так хаотичны, что я почти ничего не понимаю. Похоже, сегодня хорошее настроение у всех, только не у меня. В конце концов я топаю ногой и кричу:
– Да что случилось-то, черт возьми?
Она хоть и не может меня услышать, но чувствует вибрацию пола. Затем замирает, глядя на меня, и я повторяю руками:
– Что случилось?
– Я сделала жаркое из ягненка, – объясняет тетя Милдред на языке жестов. – С картошкой и дикими лимонами. И десерт!
Теперь я чувствую запах. Жаркое из ягненка? Посреди недели? Мы редко можем позволить себе мясо, один-два раза в месяц, не чаще, и в любом случае не ягненка.
– У кого-то день рождения? – спрашиваю я.
Тетя Милдред, улыбаясь, качает головой.
– Нет. Но нам есть что отпраздновать.
– Это что же?
– Сегодня шесть лет, как мы приехали в Сихэвэн.
«Ох», – вырывается у меня. Ну отлично. Карилья выбрала идеальный день для своего нападения. Одна мысль о том, чтобы рассказать тете Милдред о случившемся, приводит меня в ужас.
Но когда-нибудь придется, никуда не денешься, потому что миссис Альварес наверняка заведет разговор об этом, когда они в следующий раз увидятся. И тот следующий раз может наступить уже сегодня вечером, когда моя тетя снова будет мыть школьные туалеты, как она это делает каждый чертов будний день все шесть лет. Но не сейчас. Не сейчас, когда у нее такое отличное настроение.
– А помнишь? – говорит она, когда мы уже сидим за столом. Ее пальцы радостно приплясывают. – Помнишь, как мы переезжали? Каждую неделю в новом месте, сегодня здесь, завтра там? У тебя был рюкзак, у меня чемодан. И всё. Ты сменила столько школ, нигде не задерживалась подолгу. И всё равно у тебя хорошие оценки. Чудо!
Я пожимаю плечами. Для меня это никакое не чудо. Мне всегда было легко учиться, а то, что там, снаружи, в свободных зонах, считается уроками, – просто смех один. Вот наконец тетя Милдред снимает крышку со сковородки. Жаркое и пахло-то замечательно, а выглядит еще лучше. Она прекрасно готовит, в отличие от меня, но важнее всего то, что она умеет сделать многое из малого. Единственный ее недостаток, от которого я, правда, очень страдаю, – это то, что тетя Милдред не ест рыбу. А также никаких ракообразных, водорослей, моллюсков – ничего морского. А мне иногда безумно хочется порции хороших суши.
Тетя Милдред, как обычно, наваливает мне на тарелку гору из самых больших и вкусных кусков. В какой-то момент приходится закрыть тарелку руками и заявить, что она, видимо, хочет откормить меня на убой, чтобы она хоть что-то оставила себе.
Тетя Милдред слишком хороша для этого мира. В этом ее проблема. К тому же кроме нее у меня никого нет. Единственный человек, который принимает меня такой, какая я есть, единственная моя родная душа. Как-то это неправильно, что у нас такой пир после того, что сегодня произошло. Но я вдруг понимаю, что голодна как медведь после лечебного голодания. Я набрасываюсь на еду и уминаю за обе щеки так, что слезы из глаз – это, конечно, можно списать на острые приправы.
Тетя заботится обо мне с тех пор, как умерла моя мама, то есть уже довольно давно. Если бы мне нужно было описать ее одним словом, то это было бы слово «усталая». В любой случайной группе людей она казалась бы самой изможденной. Она стройная, я бы даже сказала, слишком худая, выше меня всего на полголовы. А ведь и я не слишком высокого роста. У нее неприметная стрижка средней длины – такая, чтобы не нужно было слишком часто ходить в парикмахерскую. Раньше ее волосы были темно-каштановыми, но сейчас половина из них уже поседела. На ее лице появились глубокие морщины, которые уже никогда не исчезнут. Ей сорок с небольшим, но выглядит она сильно старше. Только в ее глазах иногда загорается счастливый огонек, который делает ее снова юной. Сейчас как раз такой момент.
Ее хитрость в том, что она отказывается признавать: большинство жителей Сихэвэна смотрят на нее сверху вниз и друзей у нее практически нет. Что, конечно, ужасная глупость, если задуматься: уборщицу невероятно сложно найти, и многие мечтают ею обзавестись – и всё равно им плохо платят, да еще и считают людьми второго сорта. И это здесь, в Сихэвэне, центре крупнейшей неотрадиционалистской зоны Австралии, где все вечно разглагольствуют о человеческом достоинстве, правах человека и достойной жизни!
Такие люди, как мы, не живут вблизи пляжей. Нас держат поодаль, чтобы привыкшим к богатству и красоте жителям Сихэвэна не приходилось слишком уж часто выносить наш вид, не чаще, чем того требует необходимость. Мы живем в поселке, который так и называется «Поселок», имеет форму клина и состоит из пары рядов невзрачных двухэтажных построек, спрятанных за широкой полосой непролазных кустов и пальм. Мы слышим, как шумит трасса, ведущая в город. К югу от нас находится очистная станция, а это означает, что, когда дует южный ветер, нам приходится держать окна закрытыми, и не важно, какая на улице жара. А на западе забор с колючей проволокой отделяет нас от природоохранной зоны, откуда то и дело пробираются крысы, змеи и прочая живность.
Я подозреваю, что ни один из моих одноклассников никогда не бывал в Поселке. Они все думают, что жить здесь ужасно. Но это не так. На самом деле такие домики очень уютные. Или, по крайней мере, могут быть очень уютными: тетя Милдред так славно всё обустроила внутри, что, если бы не школа, не было бы вообще никаких причин выходить из дома. Поскольку нас только двое, у каждой есть своя собственная комната. Чего еще желать? Ну да, моя комната совсем крошечная, но зато она моя собственная, и это единственное, что имеет значение. Соседи тоже хорошие. Возможно, это потому, что они все в том же положении, что и моя тетя: обслуживающий персонал, работники, которые нужны жителям Сихэвэна, но которых эти жители не ценят.
Всё началось с работы тети Милдред в школе. Она отозвалась на объявление, и ее сразу же взяли. Мыть туалеты – это такая работа, которую и мистер, и миссис Альварес считают недостойной себя. Пока тетя Милдред берет это на себя, я могу посещать школу, которая считается лучшей из лучших. Такой уговор. Помимо школы, у тети Милдред есть еще частные клиенты, у которых она прибирается в течение дня. Четверг – единственный день, когда она готовит днем, а мне не нужно есть в школьной столовой. Сегодня я этому очень рада.
– У меня новая клиентка, – рассказывает тетя Милдред, когда мы приступаем к десерту, шоколадному пудингу. – Миссис Бреншоу сосватала ее мне сегодня утром.
Мне приходится сделать глубокий вдох. Ну да, точно. Утром в четверг она всегда убирается у Бреншоу, которые живут в одной из огромнейших вилл Золотой горы. Тетя Милдред в большом восторге от семейства Бреншоу. Какой у них сказочный дом! Какой потрясающий вид на оба пляжа! Какой утонченный вкус! Какие обходительные манеры! Манеры. Ну как же. Сегодня Джон Бреншоу вместе с пятью другими учениками столкнул в бассейн для рыб не умеющую плавать одноклассницу, а затем благородно удалился. Очень благородно.
Я пытаюсь улыбнуться.
– Отлично.
– Ее зовут Нора Маккинни. Она недавно приехала в Сихэвэн, живет на той улице, которая у городского парка.
Я киваю. Она имеет в виду улицу Джулии Гиллард, просто не хочет мучиться с ее названием. Названия на языке жестов нужно показывать по буквам, это утомительно.
– Она с января будет руководить бюро начальника порта. И представь себе – она играет в го!
Теперь я понимаю причину воодушевления тети. Китайская настольная игра го – это настоящая страсть тети Милдред.
– Ты ей сказала, что тоже играешь в го?
– Ну конечно! Мы договорились сыграть партию. В субботу.
– Отлично.
Я радуюсь за свою тетю. Может, так у нее появится кто-то вроде подруги. И тут я снова вспоминаю о Карилье. Как удар под дых. Что мне делать? Если бы нам пришлось уехать из Сихэвэна, это разбило бы тете Милдред сердце, понятное дело. С другой стороны, она бы в жизни не отпустила меня одну в другой город. То есть я должна остаться. Вот только я не понимаю, как продержаться эти два года, которые мне еще остались до окончания школы.
Мытье посуды после еды, как всегда, на мне. Конечно, тетя Милдред и это делала бы сама, если бы я ей позволила. Но она и так достаточно всего моет, я не смогла бы на это спокойно смотреть. Поэтому делаю вид, что просто обожаю мыть посуду. И вот что интересно: с тех пор как начала притворяться, я и правда стала иногда получать удовольствие.
Сегодня я прямо по-честному наслаждаюсь. Есть что-то успокаивающее в том, чтобы окунать тарелки, вилки и сковородки в горячую воду и тереть, пока они не станут чистыми. При этом можно спокойно предаваться размышлениям. А мне сегодня много о чем нужно подумать. В первую очередь о том, как рассказать тете Милдред историю с бассейном так, чтобы она не сошла с ума от ужаса. Я как раз добралась до глубокой сковороды и отдираю пригоревшие остатки еды, когда она входит в кухню и объявляет:
– Я сегодня пойду раньше. Альваресов после обеда не будет. Они вернутся только завтра утром. На мне сегодня коридоры и классы.
Я стряхиваю с рук мыльную пену и спрашиваю:
– Уехали? Куда это?
– В гости к его матери, в Куктаун вроде бы. А на неделе они могут уезжать только по четвергам.
Всё так. В другие дни после уроков всегда еще что-то есть, чаще всего кружки. Но вечером в четверг школа закрыта. Традиция, корни которой покрыты мраком, но ее всё равно все тщательно соблюдают. На радость школьникам.
– Ага, понятно, – сигнализирую я. В моей голове проносятся две мысли. Во-первых, то, что тетя Милдред не получит ни цента за дополнительную работу. Все знают, что ее можно использовать, и используют. Во-вторых, я чувствую облегчение: значит, сегодня мне ничего не нужно ей рассказывать. Я убеждаю себя, что это удачное стечение обстоятельств, чтобы не портить ей радость от годовщины нашего приезда в город. Но в глубине души знаю, что просто струсила.
После этого тетя Милдред усаживается на крошечной терраске перед входной дверью в разваливающийся шезлонг, который я год назад спасла с городской свалки. Он занимает почти всё свободное место.
Я иду к себе в комнату делать уроки. Включаю планшет и скачиваю задания. По математике ничего не задано, но мистер Блэк оставил мне сообщение о том, какие главы мне нужно прочесть, чтобы наверстать пропущенный сегодня материал. Речь идет по-прежнему о логарифмах, с которыми я уже давно разобралась. Через десять минут всё сделано. Зато по китайскому меня ждет целая гора заданий. Я вздыхаю. Китайский – важный язык, необходимый для торговли, политики и прочего, понятно. Но почему китайцам обязательно нужно всё усложнять? Ведь это мог бы быть самый простой язык на земле – язык, который обходится практически без грамматики, – если бы не две вещи: странные ударения, которые мы никак не осилим даже после пяти лет обучения, чем регулярно доводим до ручки миссис Ченг, – ну и, конечно же, эти жуткие иероглифы. А ведь те, которые учим мы, – уже реформированные! Страшно даже представить, как трудно всё это было лет сто назад.
По другим предметам я стараюсь не получать слишком хороших отметок за контрольные, чтобы не прослыть ботаничкой. Но по китайскому приходится стараться. Плохие отметки могли бы стать поводом выгнать меня из школы. А так огорчить тетю Милдред я не могу. Но есть у всего этого один плюс: домашние задания требуют от меня столько сил, что я забываю обо всём на свете, даже о том, что произошло сегодня утром. Я поднимаю голову от учебника, только когда тетя Милдред сначала стучит в дверь, а потом заглядывает в комнату. Она поднимает правую руку и показывает, что ей пора.
– Ага, давай, – отзываюсь я.
Она улыбается, по всей видимости, всё еще радуясь тому, что уже шесть лет живет в Сихэвэне, городе красивых и богатых. Городе, который, по мнению Карильи, принадлежит ей одной.
– Как насчет партии в го сегодня вечером? – спрашивает тетя Милдред. – Мне нужно потренироваться к субботе!
– Конечно, – отвечаю я, хотя мы обе прекрасно знаем, что я ей не соперница. Если бы она действительно хотела потренироваться, она бы посоревновалась с компьютером в специальной программе у себя на планшете.
После того как за ней захлопывается дверь, я обращаю внимание на покалывание в правом боку. Задираю рубашку, чтобы посмотреть, что там, и без всякого удивления обнаруживаю: отклеился еще один пластырь. Наверно, они теперь все отклеятся. Тут можно только принять душ и, вытершись, всё переклеить. Я иду в ванную, которая у нас размером с платяной шкаф, раздеваюсь и отрываю пластыри. Сегодня их отрывать совсем не больно, наоборот, розовые клейкие полоски практически отваливаются сами. Я смотрю на себя в зеркало и дотрагиваюсь до разрезов. На ощупь они совершенно не похожи на раны. Они не болят, и я не могу припомнить, чтобы они болели вообще когда-нибудь, за исключением той попытки их зашить. Вот тогда действительно было больно, и потом тоже, когда снова разрезали швы и промывали от гноя – или что там было. Но это было давно. Тогда мама еще была жива.
Я рассматриваю себя в зеркале и пытаюсь сравнить то, что я вижу, с моими воспоминаниями о маме. Кажется, у меня ее волосы. Они каштановые и свободно падают на плечи, совсем как у нее. А еще я думаю, что унаследовала ее глаза. Я помню этот странный темно-серый цвет, у меня такие же. На фотографиях это трудно рассмотреть, но я помню. Ну а остальное? Этот приплюснутый нос? Это крепко сбитое, мускулистое тело? Хотелось бы, конечно, узнать, кого моя мама себе тогда нашла… Тетя Милдред, ее старшая сестра, только растерянно пожимает плечами, когда я спрашиваю о моем отце.
Я встаю под душ, промываю прорези, а потом уже мою всё остальное. Вода, текущая по моему лицу, вызывает во мне воспоминания о сегодняшнем утре. И снова появляется это мощное ощущение, будто бы я могу дышать водой. Я выключаю воду, мокрая вылезаю из душа и набираю раковину до самых краев. В зеркале еще раз заглядываю себе в глаза, пытаясь понять, заметно ли внешне, что у меня потихоньку едет крыша. Но я выгляжу как обычно. Тогда окунаю голову в раковину как можно глубже. Вода переливается через край, плещет мне на ноги, но меня это не волнует. Я пытаюсь дышать под водой. Конечно же, ничего не выходит. Вода ударяет в нос, почти душит меня, я резко вытаскиваю голову, кашляя и отплевываясь. Тяжело дыша, опираясь на борта раковины руками, я остаюсь стоять, пока не проходит головокружение. Зачем я это делаю? Да что со мной такое? Я вытираюсь и вытираю пол. Потом достаю из выдвижного ящика пластырь и заклеиваю порезы особенно тщательно.
На следующее утро моя стратегия определена: мне нужно стать еще незаметнее, чем раньше. Я хочу стать настолько незаметной, что остальные просто забудут о моем существовании. Тогда со мной ничего не сможет случиться. Я преследую эту цель с тех пор, как мы поселились в Сихэвэне. Других целей у меня нет. Если это не работает, значит, я просто должна еще сильнее стараться. У меня в голове есть образ того, какой я должна быть: как дым. Я хочу двигаться как едва заметный, рассеивающийся в воздухе дымок – неудержимо, незаметно, беззвучно. Сегодня я дополняю эту стратегию: буду приходить в школу раньше всех остальных. В старших классах у них такой вид спорта – по возможности входить в класс в самый последний момент. Мне это как раз на руку.
Я стою на школьном дворе за целых полчаса до начала первого урока, на мне самые неприметные серые штаны и растянутая черная футболка. Я жду, пока мимо меня пройдет весело галдящая стайка учеников средних классов. После чего выхожу из тени пальмы, под которой я выжидала, и следую в кильватере этой группы. Я дым, я проскальзываю мимо, никто меня не замечает. Позднее в школьном дворе я держусь в стороне, по темным углам. Я не делаю резких движений, ничего не говорю, стараюсь не встречаться ни с кем взглядами.
Легко прожить день ни с кем не переглядываясь: достаточно сфокусироваться на своем планшете. Учителям такое нравится. Правда, тем, что нравится учителям, лучше тоже особо не выделяться, иначе прослывешь выскочкой. Быть невидимой непросто.
И всё же мне удается попасть в класс так, что по дороге никто не приставал, не дразнил. Никто мне даже слова не сказал – возможно даже, что никто и не заметил моего присутствия. Так, как надо. Мое место за последней партой с краю у окна, там, где днем жарит солнце и никто не хочет сидеть. Я дым, мне всё равно.
По пятницам у нас первым уроком ОЗИ, обществознание и история, у миссис Дюбуа. В школах неотрадиционалистских зон принято каждый день начинать с перечисления Принципов неотрадиционализма. Большинство учителей справляются с этим легко и безболезненно, но миссис Дюбуа, которая очень серьезно относится к своему предмету, не менее основательно подходит и к Принципам. Как по учебнику, она задает классические вопросы и вызывает по одному ученику, ожидая, что тот выпалит ответ как из пистолета.
– Что такое традиция? – начинает она тем высокопарно-патетическим тоном, в который неизбежно впадает во время этой церемонии. – Моран?
– Традиция – это сумма опыта каждой культуры.
Брант Моран этого не знает и что-то бормочет, запинаясь. Карлин Хардин, староста класса, сидящая с ним за одной партой, помогает выйти из затруднительного положения.
– Что это значит – «блюсти традиции»? Морено?
Лиза Морено отвечает, не без запинки, но правильно:
– Не оберегать пепел, но подпитывать огонь.
Меня миссис Дюбуа не вызывает. Она знает, что я могу дать ответ на любой из вопросов. К тому же, я подозреваю, ее смущает, что при этом прекрасно слышно, насколько мне плевать на их дурацкие Принципы.
– Почему мы должны блюсти традиции? Стивенсон?
– Чтобы каждое новое поколение не совершало снова всех ошибок, – отвечает Люсинда, широко раскрыв глаза. Она всегда ужасно боится ошибиться.
– Что есть техника? Линвуд?
– Часть человеческой жизни с тех пор, как человек впервые потянулся за камнем.
Я все их знаю, эти ответы из учебника, и считаю ничего не значащей пафосной болтовней. Линвуд может вспомнить только первую часть ответа – возможно, оттого, что всё еще не протрезвел со вчерашнего вечера.
– Что значит соблюдать человеческую меру? Орр?
Данило Орр наконец-то отвечает так резво, как ей хотелось бы. Данило свято чтит каждую букву неотрадиционалистского учения.
– Человеческая мера соблюдается, когда техника служит человеку, а не наоборот.
– Где проходит грань, за которой техника больше не служит нам?
– Там, где она изменяет нас вместо того, чтобы быть инструментом, при помощи которого мы можем быть самими собой.
Мои мысли уплывают вдаль. Я смотрю в окно, за ним море. Наш класс находится на четвертом этаже, из окон отлично видно не только Золотую гору, но и мыс Весткап, ограничивающий Большой пляж и обозначающий начало природоохранной зоны. А еще видна Развалина. Так его все и называют – «Развалина».
С момента моего приезда прошло три года, прежде чем я впервые услышала от кого-то название корабля: он назывался «Прогресс», огромный калифорнийский круизный лайнер, который больше сорока лет назад налетел напротив Сихэвэна на риф и перевернулся. Тогда утонуло около пятидесяти человек.
Какое-то время были споры, можно ли поднять Развалину и если да, то как и в особенности за чей счет. Это тянулось лет десять, не меньше, ну, по крайней мере, достаточно долго, чтобы оставшаяся под водой часть корабля была плотно заселена кораллами и рыбами. По правилам неотрадиционалистских зон Развалину не стали поднимать. С тех пор это своего рода остров из стали, который ржавеет себе потихоньку в море, огромная металлическая скала, обиталище птиц, которые гнездятся в ее поднимающихся высоко к небу ржавых руинах и покрывают коричневые рассыпающиеся борта ровным слоем помета.
Однако если послушать наших учителей, то можно решить, что этот корабль был установлен исключительно в назидание нам, чтобы помнили, что будет с каждым, кто пренебрегает Принципами неотрадиционализма.
Не проходит и недели, чтобы кто-то из учителей не указал нам на Развалину и не напомнил о том, что всё это случилось лишь потому, что корабль был слишком большой, а управляла им смехотворно малочисленная команда, которая к тому же была под воздействием веществ. Капитан, его штурман и все остальные приняли тогда новое средство, чтобы обходиться без сна, – по приказу судоходной компании, что впоследствии избавило их всех от тюремных сроков. Их заставляли работать сменами по девяносто шесть часов, нон-стоп, тут они и потеряли связь с реальностью. Говорят, в метрополиях такие средства принимают до сих пор. Они стали еще лучше. Теперь у людей не едет крыша, и они могут бодрствовать и работать хоть по сто двадцать часов, если есть такая потребность. Что, правда, не имеет никакого отношения к человеческим возможностям.
Миссис Дюбуа всё еще спрашивает о Принципах. Сейчас речь идет о том, какие технические средства следует отвергнуть и почему. Хорошо, значит, конец ритуала уже близок. Джудит Карденас как раз подробно рассказывает, что технические импланты и генетические манипуляции, целью которых не является борьба с болезнями, категорически запрещены. Но она не говорит, что из-за этого мы существенно ограждены от гостей из других зон. Тем, у кого есть такие импланты – скажем, мозговой интерфейс или кожный дисплей, – вообще запрещено пересекать нашу границу. Это же касается и людей с синей кожей, перьями вместо волос или кошачьими ушами.
С наркотиками всё сложнее. Алкоголь и табак считаются традиционными наркотическими веществами, потому что они не первое тысячелетие присутствуют в жизни людей и, стало быть, разрешены, пусть и только совершеннолетним. Все остальные наркотики, особенно синтетические, запрещены. Нельзя ввозить даже сенсорные камеры – такие штуки, в которых тело неделями может лежать, пока сознание блуждает по виртуальным мирам. Тут, правда, еще идут споры о том, почему, собственно, нельзя.
Ну вот наконец-то опрос позади и миссис Дюбуа переходит к новому материалу. Речь идет о роли охраны природы в неотрадиционализме. На дом задавали сочинение на эту тему, не менее пятисот слов. У меня пятьсот двадцать. Когда миссис Дюбуа скачивает сочинения с наших планшетов, она обнаруживает, что у Майрона Картера не написано и десяти слов. Один заголовок, и всё. Сейчас у кого-то будут проблемы.
– Вот мне любопытно, – начинает она свою тираду. В ее голосе появляются нотки, от которых хочется скорее искать укрытие. Но Майрон ничего такого не делает, напротив, он развалился за партой, как будто бы ничего не происходит. – Я-то надеялась, что ты хотя бы к концу года возьмешься за ум. Но, судя по всему, эта надежда была напрасной.