Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
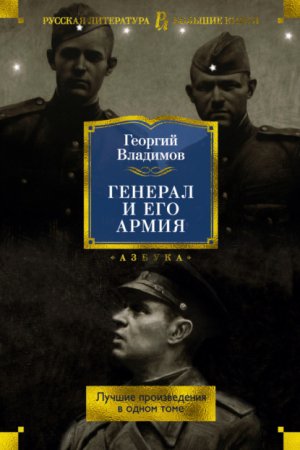
Кандей ему подал то же, что и нам, только не в миске, а на тарелке, как он штурманам подает и «деду». Граков это заметил, вернул ему тарелку в руки.
– Что за иерархия? Ты меня за равноправного члена команды не считаешь?
Вася пошел за миской. Тоже кандею мороки прибавилось. А Граков глядел на нас, откинувшись, улыбался, вертел ложку в ладонях, как будто прядину сучил.
– Приуныли, носы повесили. А ведь слабая же погода, моряки!
Шурка сказал, не подняв головы:
– Это она в каютке слабая.
– Намек – поняла. А на палубу попробуй выйди? Это хочешь сказать? А вот пообедаю с тобой – и выйду. Тогда что?
Шурка удивился.
– Ничего. Выйдете, и все тут.
Пришел «дед». Мы подвинулись, он тоже сел с краю, против Гракова.
– Как думаешь, Сергей Андреич, – спросил Граков, – поможем палубным? Все вместе на подвахту, дружно? Животы протрясем, я даже капитана думаю сагитировать. А то ведь у этой молодежи руки опускаются перед таким уловом.
«Дед» молча принял тарелку, молча стал есть.
– Ну, тебе-то, впрочем, не обязательно. С движком, поди, забот хватает?
«Дед» будто не слышал. Нам тоже не по себе стало. Хоть бы он поморщился, что ли. Граков все улыбался ему, но как-то уже через силу. Потом повернулся к нам – лицо подобрело, лоб посветлел от улыбки.
– Бука он у вас немножко, «дед» ваш. Все мы помалу в тираж выходим. Так не замечаешь, а посмотришь вот на такие молодые рыла, на такую нахальную молодость – грустно, признаться… Да-а. Но вы такими не будете, каким он был. Ах какой лихой!.. Ты ведь с лопатки начинал, кочегаром, не так, Сергей Андреич?.. С кочегаров, я помню. Так вот, однажды колосники засорились, а топка-то еще горячая, но полез, представьте, полез там штыковочкой[76] шуровать, только рогожкой мокрой прикрылся. И никто не приказывал, сам. Говорят, там подметки у тебя на штиблетах трещали, а?.. Скажете, глупо, зачем в пекло лезть, неужели нельзя лишний час подождать, пока остынет? Да вот нельзя было. Вся страна такое переживала, что лишнюю минуту дорого казалось потерять. Вы-то, пожалуй, этого не поймете. Да и нам самим иной раз не верится – неужели такое было?.. А – было! Вот так, молодежь. А вы – чуть закачало: «Ах, штормяга!.. Лучше переждем, перекурим это дело…»
«Дед» лишь раз на него взглянул – быстро, из-под бровей, тусклыми какими-то глазами, – но что-то в них все же затеплилось как будто. Точно бы они там оба чем-то повязаны были, в свои молодые, чего и вправду нам не понять.
Ввалился мотыль Юрочка – в одних штанах, в шлепанцах, с платком замасленным на шее. Граков к нему повернулся – с добрым таким, мечтательным лицом – и только руками развел и засмеялся: уж такая это была нахальная молодость, рыло такое смурное, взгляд котиный.
– Вот, поговори с таким… энтузиастом. Про юность мятежную. Поймет он что-нибудь? Когда в таком виде в салон считает возможным явиться. Ох, распустил вас Сергей Андреич…
– А чо? С вахты… – Юрочка побурел весь, заморгал.
«Дед» ему сказал угрюмо:
– Масла не подливай больше. Я замерял перед пуском, там на ладонь лишку.
Юрочка вытянулся – с большой готовностью.
– Щас отольем немедленно.
– На работающем двигателе не отливают. Масло – в работе. Сегодня, я думаю, дрейфовать придется, тогда и остановим.
– А может, и не придется дрейфовать? – Граков уже не «деда» спрашивал, а всех нас. – Выберем и снова – на поиск?
«Дед» отставил тарелку, выпил единым духом компот и пошел. Граков ему вслед глядел – то ли с печалью, то вроде бы жалостно.
– Как все ж Бабилов-то сдал. Слышит, наверно, плохо. Ну и мнение, конечно, трудно переменить, раз оно сложилось и высказано. – Опять он к нам повернулся с улыбкой. – Так как, моряки? Выйдем или перекурим это дело?
– Я – как прикажут, – сказал Шурка.
– Все ты мне: «Как прикажут»! А сам?
Мы вставали по одному и вылезали – через его колени. Встать да пропустить нас – это он не догадался.
– Так ты меня жди на палубе, – сказал он Шурке. – Ты меня там увидишь, матрос.
Мы его увидели на палубе. С «маркони» он вышел, с механиками, со старпомом, только доспехи ему подобрали новые, ненадеванные. Предложили на выбор – гребок или сачок: не сети же начальству трясти. Он взял – сачок. Сдуру как будто – на гребок нет-нет да обопрешься в качку, а сачком надо без задержки вкалывать, по пуду забирать в один замах, тут в два счета сдохнешь. Да он-то не затем вышел, чтобы сдыхать, – так размахался, что мы только очи вылупили. И еще покрикивать успевал, хоть и с хрипом:
– Веселей, молодежь, веселей! Неужто старичков поперед себя пустим? И-эх, молоде-ожь!..
Уже ему чешуя налипла на брови, и всего залепило снегом, уже кто вышел с ним – понемногу сдохли, только чуть для виду гребками ворочали, – а у него замах такой же и оставался широченный, как будто он вилами сено копнил, и никакая же одышка его не брала. Честное слово, даже нам это передалось, хоть мы и с утра были на палубе. Васька Буров и то сказал с восхищением:
– Вона, как мясо-то размотал! Первый раз такого бзикованного вижу.
Потом не стало его видно, Гракова, заряд повалил стеной, и хрипенья его за волной не слышно. И Жора-штурман скомандовал:
– Обрезайсь!
Но это еще не конец был, еще мы два раза выходили и пробовали выбирать. И он исправно с нами выходил и все нам доказывал, что погода слабая и что он бы за нас, нынешних, за сто двоих бы не отдал – тех, прежних. И мы себе знай трясли, вязли в рыбе, мокрые, мерзлые до костей, и все понапрасну – все равно ее смывало в шпигаты, не успевали ее отгребать у нас из-под ног, а подбора то и дело застревала в барабане и рвала сети – одну за другой.
– Утиль производим, ребята, – сказал нам дрифтер. Он держал в руках сетку: сплошные дыры, не залатать. Вытащил ее из порядка и надел себе на плечи, как рясу. – Сейчас вот так вот к кепу пойду, покажу ему, чего мы спасаем.
Когда вернулся, на нем лица не было, из глотки только хриплый лай слышался:
– Кончился я, ребята.
– Да кеп-то, кеп чо говорит?
– Обрезайсь! Крепи все предметы по-штормовому. Больше десяти обещают.
Крепили в темноте уже, при прожекторах. Пальцы не гнулись от холода, а ведь узел голой рукой вяжешь, в варежках это не получается, когда они сами колом стоят. Да и не греют они, брезентовые, лучший способ – пальцы во рту подержать. А мне еще пришлось стояночный трос волочить да скреплять с вожаком… Когда добрались до коек, уже и согреться не могли, хоть навалили сверху все, что было.
Пришли кандей Вася с «юношей», притащили чайник ведерный, поили нас, лежачих, из двух кружек. И мы понемножку начали оживать. Наверное, лучше этого нет на свете – когда горячее льется в тебя после снега, после ветра и стужи, и понемногу ты отходишь, уже руки и ноги – твои, все тело к тебе возвращается из далекого далека, уже говорить можешь и улыбаться, уже подумываешь – не встать ли? Не сползать ли куда? Ну хоть в салон, фильмы покрутить…
Первый Шурка вспомнил:
– А что у нас там за картину «маркони» притащил?
– Спи давай, – сказал Митрохин. – Какое теперь кино? Теперь бы сон хороший увидеть.
Васька Буров пообещал:
– Я тебе сказку расскажу, только не шебуршись.
– Про чего?
– Про то, как король жил. В древнее время. И было у него два верных бича.
– Это как они царевну сватали? – Шурка полез из койки. – Травил уже.
– И вовсе не про то. А как они рыбу-кит поймали и живого ко дворцу доставили.
– Быть этого не может. У меня их братан в Индийском океане каждый день по штуке ловит. Дак он, как вытащат его, тут же от своего веса гибнет. Айда в картину, бичи!
Шурка уже портянки наматывал на столе. Двужильные мы, что ли? Ведь только что помирали!
Из соседнего кубрика тоже пошли, представьте. На палубе ужас что делалось – выглянуть страшно. Но побежали, нырнули в снег и ветер…
А я – задержался. Про Фомку я вспомнил – что надо ему на ночь еды оставить. Не знаю, едят они по ночам или нет, но ведь в трюме сидит, для него там все сутки – ночь. Рыбу всю смыло, но я в шпигатах нашарил ему пару селедин. Потом отдраил люковину, откатил ее. В трюме черно было, глупыша я не увидел.
– Фомка! Рыбки хочешь?
Я хотел кинуть ему, да побоялся – еще по больному крылу попаду, лучше слазить.
И я сел на комингс, опустил ноги в люк. А рыбу переложил под мышку и прижал локтем. Волна меня ударила в спину и прокатилась дальше, вторая ударила, а я все не мог нащупать ногой скобу. Тогда я решил спрыгнуть. Оно высоко, конечно, но я-то помнил – там все-таки бухта вожака уложена, ноги не отобьешь, лишь бы на лету за скобу не задеть. Я лег животом на палубу и сполз пониже, пока не протиснулись локти, потом оттолкнулся и полетел.
Я ни за что не задел и не стукнулся, не отбил ног. Потому что упал – в воду.
2
Я рванулся и заорал с испугу, но тут же сообразил, что всего-то мне – по пояс. Ну, может, чуть повыше, дальше-то была куртка, я же в ней пошел. Но сердце чуть не выпрыгнуло. Я и про люковину забыл – что надо ее задраить сперва, а сразу полез искать, откуда просачивается.
Одна переборка была – с грузовым трюмом, легкая, дощатая, сквозь нее и просачивалось. Я полез по скобам, ухватился за верхнюю доску и подтянулся. А протиснуться не смог, пришлось две доски вынимать из пазов.
Дальше шли бочки. Они утряслись уже, и я полез прямо по ним по-пластунски. Темень была хоть глаз выколи, и бочки подо мной разъезжались, я больше всего боялся, что руку зажмет или ногу. А бояться-то нужно было другого – если в трюм хорошо натекло, то ведь бочки всплывут, они ж пустые, и так меня прижмут, что я вздохнуть не смогу. Но этого я как-то не сообразил, иначе б, конечно, не полез.
Наконец я добрался-таки до борта, то есть просто башкой в него стукнулся. Примерно я знал, где может быть шов, я как раз полтрюма прополз. Раздвинул две бочки, лег между ними, пошарил рукою внизу – руку обожгло струей. Так и есть, шов разъехался, не знаю – повыше или пониже ватерлинии. Но уж какая тут, к чертям, ватерлиния, когда пароход переваливает с борта на борт и при каждом крене вливается чистых три ведра в трюм.
Те две бочки, между которыми я лежал, я понемногу оттиснул назад, сполз пониже. Вода просачивалась с шипением, с хлюпом, и мне жутко сделалось: влезть-то я влез, а как теперь выберусь? Бочки мои опять сошлись и наползли на меня. Ну, это, вообще-то, можно было и предвидеть, но я же сначала делаю, а потом думаю.
И зачем, собственно, я сюда лез? Ну, нашел я эту дыру, а чем ее заткнешь? Хотя бы подушек натащил из кубрика. Я еще пониже опустился и прижался к щели спиной, а ногою нашарил пиллерс и уперся. Хлюпать как будто перестало, но холодило здорово сквозь куртку. А про штаны и говорить нечего. Но все-таки я неплохо устроился, жить можно, и вливалось по полведра, не больше.
Только я успел это подумать, как меня бочкой шарахнуло по лбу. Хорошо еще – донышком, не ребром, но гул пошел будь здоров! Вот это дела, думаю. Так и менингит можно заработать, психом на всю жизнь заделаешься.
Я уже локти выставил, пускай по ним бьет, рукава все же на меху. А бочки – только и ждали. Тут же мне руки зажали, не вытащишь. И пока одни держат, другие – лупят. Все стратегически правильно.
В общем, я хорошо вляпался. И что же, так я и буду всю картину сидеть? Жди, покуда хватятся. Ну, хватятся-то скоро, на судне, если человека в шторм полчаса не видно, его уже ищут. По трансляции вызывают, в гальюны стучатся. Но ведь подумают – меня за борт смыло, станут прожекторами нашаривать. Это на час история, а потом, конечно, в скорбь ударятся по поводу безвременной моей кончины. Кто ж догадается, что я под палубой сижу, с бочками воюю?
Вдруг слышу: пробежал кто-то – по брезенту, по трюмному. Как будто по голове у меня пробацали. Мимо люка пробежал – и не заметил, что он отдраен, вот олух! – скатился в кубрик. За ним еще один. А первый уже вернулся и говорит ему – как раз над люком:
– Ни в кубрике, ни в гальюне.
– Где ж еще? За бортом?
А я вам что говорил? Сперва в гальюне поискали, теперь – за бортом.
Позвали унылыми голосами:
– Сень, ты где прячешься? Сень, мать твою, отзовись!..
Я и хотел отозваться, но тут проклятая бочка меня снова шарахнула по лбу. А эти двое куда-то ушли, не слышно их, только ветер воет и волна заливает вожаковый трюм.
Но тут опять чьи-то шаги над головой, медленные, грузные, и вдруг звон – споткнулся обо что-то.
– Кто люковину оставил?
По голосу – «дед».
– Какую?
– Такую, от вожакового… Судить вас мало!
– Да она задраена была.
– Я, значит, отдраил?
Поволокли люковину. Вот те раз, думаю, только я и ждал, когда вы меня закупорите.
Я заорал что было сил:
– Эй, на палубе! Здесь я, живой!
«Дед» наклонился над люком.
– В трюме! Кто там есть?
– Я!
– Кто «я»?
– Да я же, «дед»!
– Ты чего там делаешь? Вылазь.
– Не могу, бочками придавило.
– Черти тебя туда занесли?
«Дед» полез в трюм, сапоги его застучали по скобам.
– «Дед», не лезь дальше!
Но он уже плюхнулся в воду. Выругался, полез ко мне, стал раздвигать бочки.
– Сильно льет, Алексеич?
– Сейчас помалу. Я спиной держу.
– Так, – сказал «дед». – Затычку изображаешь? Ну, потерпи, милый. Да поберегись – шов дышит, может тебя защемить.
– Ага, спасибо. Буду знать.
«Дед» вылез и закрыл люковину. Опять мне стало страшно. Но там уже какая-то беготня пошла. Пробили водяную тревогу – протяжными гудками и колоколом. Вся палуба загремела от беготни. А я уже совсем закоченел, уже под куртку просочилось до плеч, и локти сплошь избило.
Кто-то опять люковину отдраил:
– Сень, жив там?
Шурка Чмырев.
– Жив, но бедствую.
– Хреново, значит, тебе живется? Курить небось охота?
Вот, самый верный вопрос задал человек. А я и не знал, отчего мне так хреново.
– Сейчас покуришь. Смена тебе идет.
Шурка спрыгнул в воду и охнул. За ним еще кто-то. Вытащили несколько бочек из-за переборки, пошвыряли в воду. Кто-то начал ко мне протискиваться.
– Сень, ты там особо не расстраивайся, ладно? Все починим, все наладим… – Это Серега Фирстов. – Э, ты там не молчи. Нам твой голос очень даже необходим, Сеня.
– Ладно, ползи давай.
У меня уже язык к зубам примерз. А он все полз и расспрашивал:
– И чего это ты сюда забрался? Удивляюсь я, как ты только такие места находишь?
Сто лет он ко мне полз. Но, правда, ему тоже нелегко приходилось. Он языком-то молол, а сам бочки из-под себя выбирал и подавал назад Шурке.
Дополз наконец, ткнулся мне головой в зубы.
– Извини, Сень. Как твое мнение, полчаса выдержу?
– Я час сидел, не умер.
– Какой час! Полбобины только успели прокрутить.
Еще одно столетие он бочки раздвигал. Потом закурить решил, сделал пару затяжек и сунул мне в рот «беломорину».
– Давай отвались.
Борт поднялся, и вода схлынула, и я тогда отодвинулся от дыры. Серега упал на нее спиной. Потом борт пошел вниз.
– Ой, – говорит он, – холодно!
– А ты думал.
– Рокан прожигает. Ну, Сень, ты озверел! Придумал чего – дыры задницей затыкать. Это же нам никаких задниц не хватит, придется из-за границы выписывать. Ты б мне подстелил чего-нибудь…
– Что я тебе подстелю?
– А в чем ты сидел? – Он протянул руку и нашарил куртку. – Во, курта своего подстели…
Тут-то я и призадумался.
Мне не куртки было жалко, с ней-то чего могло случиться. Но в ней еще письма были, от Лили. И последнее, и те, что она мне в прошлые рейсы присылала. Письма она любила писать, это просто редкость в наше время, и – большие, подробные. Я их каждое по двадцать раз читал, все протер на сгибах. И даже сейчас я их помню, когда от них ничего не осталось. Вот, например, такое место: «Ты гораздо больше предполагаешь во мне, чем есть на самом деле. Я обыкновенная, душой давно очерствевшая, пошлая, с одной мечтой – как-нибудь сносно выйти замуж, нарожать детей и успокоиться. Почему я тебе кажусь загадкой – это так просто объясняется!.. Мы все – дети тревоги, что-то в нас все время мечется, стонет, меняется. Но больше всего нам хочется успокоиться, на чем-то остановиться душой, и мы не знаем, что, как только мы этого достигнем, прибьемся к какому-то берегу, нас уже не будет, а будут довольно-таки твердолобые обыватели. Ты – совсем другое…» Ну и дальше – про то, что она во мне увидела, чем я ее поразил в первую нашу встречу. Может, на самом деле ничего этого и не было во мне, я, во всяком случае, не замечал, но читать интересно было, никто до нее со мной так не говорил. И может быть, никто никогда так не напишет мне. И даже когда почувствовалось, что расходимся в общем и целом – там, на «Федоре», – я все же решил эти письма сохранить. Где ж было знать, что теперь придется их в кулаке переть через залитый трюм. А не вынуть их, оставить в куртке… Не в том дело, что Серега мог их там нащупать, а просто – суеверие, понимаете? Как будто что-то случилось бы с ними, вот я такой толчок почувствовал в душе.
– Чего ты? – спросил Серега. – Куртку жалеешь? Не жалей. Мы, может, вообще отсюда не выберемся.
– Брось, не паникуй.
– Да я-то чувствую.
Я снял куртку, сложил ее внутрь подкладкой. Серега отодвинулся, и мы ее уложили на шов.
– Теперь порядок, иди грейся. Шурку через полчасика пришли.
Я выполз – и тут вспомнил про Фомку. Нельзя птицу в мокром трюме оставлять, мало ли что дальше будет.
Фомка сидел тихо в гнездышке, совсем сухой, но в руки сразу пошел, как я только позвал его: «Фомка, Фомка». И пока я лез по скобам, он весь распластался у меня на ладони, свесил больное крыло. Я хотел его в кубрик отнести, но вдруг он спрыгнул и побежал от меня, вскочил на планширь. Сидел на нем нахохленный, отставив крыло.
– Ну что, Фомка, – сказал я ему, – иди, штормуйся, как можешь.
Волна накатила, захлестнула планширь, а когда схлынула – Фомки уже не было. Я испугался, пробрался к фальшборту. Фомка лежал на крутой волне, сложив крылышки, клювом и грудкой к ветру – как настоящий моряк. Все-таки он выбрал штормящее море, а не трюм, где ему и сытно было, и тепло. Плохи, должно быть, наши дела, я подумал. Потом заряд налетел, и больше я Фомки не видел.
Под кухтыльником кто-то отвязывал помпу, тащили шланги. Я в гальюне напялил чей-то рокан, выскочил им помогать. Шурка тут был, Васька Буров и Алик.
– А где ж другие?
– Где надо, – сказал Шурка. – В кубрике у механиков натекло. По колено, шмотки плавают. Вот до чего картины доводят. Еще не дай бог в машину просочится.
– Не дай бог, – сказал я.
– А чего особенного? Вполне могло и в машину.
– Погибаем, но не сдаемся, – сказал Алик.
Васька на него заорал:
– Плюнь три раза, салага. Плюнь сейчас же!
Алик плюнул.
– Не соображаешь, так помалкивай.
Потащили помпу к вожаковому трюму. Под ногами елозили доски, рыбодел, каталась пустая бочка. Мы спотыкались, падали и снова тащили. Потом опустили шланг и стали качать прямо на палубу – двое на одном плече, двое на другом.
Васька покачал, покачал и спросил:
– Бичи, а бочки-то – со шкантами?[77]
– Это к чему ты? – спросил Шурка.
– Дак если они заткнутые, они и держать будут, воду не пустят.
Мы бросили качать.
– Это у бондаря надо спросить, – сказал Шурка. – А где он, бондарь? У механиков там качает. Хрен знает. Которые со шкантами, а которые и без шкантов.
– Они же все равно немоченые, – сказал Алик.
И верно, немоченая бочка, хоть и заткнутая, все равно пропускает.
– Немоченые, дак теперь намочились, – сказал Васька. – Зря качаем.
Шурка подумал и заорал на него:
– А ну тя в болото, сачок! Я лично тонуть не собираюсь. – И сам закачал как бешеный.
В это время из рубки крикнули:
– Помпу – к машине!
До нас это как-то не сразу дошло.
– А трюма?
– Сказано вам – к машине!
– Дождались, – сказал Васька. – Доехали. А все ты, салага, накаркал: «Погибаем, погибаем…»
Шурка уже тащил помпу от люка. Я выбрал шланг, крикнул туда, в темень:
– Серега, жив там?
Ответа никакого. Я испугался до смерти – захлебнулся он там? Или бочками задавило?
– Серега, гад полосатый!
– Ау! – как из могилы донеслось. – Скоро вы там?
У меня от сердца отлегло.
– Какой скоро! – сказал я ему радостно. – Только начинается.
– Мне сидеть?
– Вылазь.
– Пластырь не будете заводить?
– Вылазь, в машине вода.
Он загромыхал там бочками.
– Зачем же мы с тобой сидели, Сеня?
– Выберешься один?
– Да выберусь… Но сидели, спрашивается, зачем?
– Ладно тебе… Люковину задраишь?
– Да уж задраю. Но учти, Сеня, так ты мне и не ответил.
Я побежал помогать с помпой. Мы ее протащили в узкости, между фальшбортом и рубкой, отдраили дверь в коридор. Комингс тут – чуть не до колена, и пока мы эту дуру перетаскивали, все руки себе пооборвали. Но сразу же и забыли про них.
Из шахтной двери пар валил, а сквозь пар мы увидели воду – черную, в мазутных разводах. Пайолы кое-где всплыли и носились с волной. Именно с волной – море разливанное бушевало в шахте: то кидалось на переборку, а то накатывало на фундамент, и тогда из-под машины пыхало паром. Даже дико было, что она еще работает, стучит…
Выходной шланг вывели за дверь, на палубу, а входной опустили в шахту. До воды он не доставал.
Из пара выплыл Юрочка – по колено в воде, но, как всегда, полуголый.
– Олухи, шланг наростить не сообразили?
– Чем его наростишь? – спросил Шурка. – У тебя запасные есть?
– А нечем – так на хрена тащили? От главного покачаем.
– А что ж не качаете?
– Как это не качаем? Сразу и начали, как потекло.
«Где же ты был, сволочь? – хотелось мне его спросить. – Где ты был, когда „потекло“? Сидел небось на верстаке, вытачивал какую-нибудь зажигалку, пока тебе уже пятку не подмочило. А когда спохватился, так „деда“ позвать духу не хватило, сам решил откачать, а сам ты толком не знаешь, как водоотлив включается».
– Чего ж теперь с помпой-то? – спросил Васька. – Опять двадцать пять, назад волоки?
– А кто вам ее велел сюда переть?
– Бичи, – сказал Васька, – лучше я спать пойду.
Из-за машины вышел «дед» – тоже весь в пару, но в пиджаке, с галстуком.






