Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
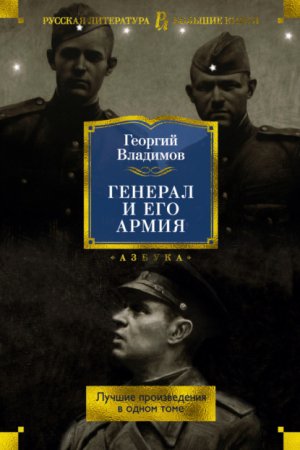
Серега сказал:
– Алушта еще есть, получше твоего Гурзуфа.
– Не знаю. Я в Алуште не был. А Гурзуф – это хорошо, я там целый месяц прожил. Только я там с бабой был и с пацанками, вот что хреново. Хату снимать, харч готовить на четырех. А одному – ничего мне не надо. Валяйся день целый брюхом к солнышку. И был бы я – Вася Буров из Гурзуфа.
– Так и писать тебе будем, – сказал Серега. – Васе Бурову в Гурзуф.
– Не надо писать. Вы лучше в гости ко мне приезжайте. Я всех приму, пляж-то большой. Я вам, так и быть, сообщу по-тихому, как меня там найти. Только бабе моей не сообщайте. А то она приедет и опять меня в Атлантику загонит. А в Гурзуфе я прямо затаюсь, как мыша, нипочем она меня не разыщет. И будем мы там жить, бичи, без баб, без семей. А рыбу ловить – исключительно удочкой. Я там таких лобанов ловил закидушкой, на хлебушек. А барабулька, а? Сколько выловим, столько и съедим. Здесь же, у костерочка.
– Это ты самую лучшую сказку сочинил, – сказал Митрохин.
Васька удивился:
– Почему же это сказка? Думаешь, люди так не живут?
– А разве не сказка? – спросил Серега. – Это как же, без баб? Без них не обойдется.
– А тогда все пропало. Нет, бичи. Уж как-нибудь своей малиной, одни мужики.
– Нет, – сказал Серега. – Все-таки нельзя, чтоб без баб. Баба – она самая главная ловушка, никуда от нее не убежишь. И все мы это знаем. И все равно не минуем.
– Уж так ты без них не можешь?
– Я-то? Да хоть год! Это они без нас не могут. Так что – разыщут, не волнуйся. Разобьют малину.
Васька вздохнул.
– Это точно. Поэтому-то, бичи, жизни у нас не получится. Ну, дней десять продержимся, а ради них ехать не стоит, лучше уж сразу и бабу с собой брать, и пацанок.
Мы помолчали, закурили еще по одной.
– Кого-то несет, – сказал Серега.
Старпома к нам принесло. Как раз его вахта кончилась вечерняя. А может, и пораньше его прогнали кеп с Жорой – все равно они там сейчас заправляли, в рубке. Но пришел он – как будто большие дела с себя сложил и теперь отдохнуть можно заслуженно – уже и безрукавку свою меховую надел, и волосы примочил, и зачесал набок. Кандей пошел на камбуз за борщом. Старпом сидел, постукивал ложкой по столу и глядел на нас насмешливо. Отчего – непонятно.
– Ишь, расселись, курцы!
– А тебе-то что? – спросил Васька. – Мы свое дело сделали. Теперь ты нам не мешай, мы тебя не тронем.
– Да по мне, хоть спите, хоть песни пойте.
Опять же – все с каким-то презрением, как будто это мы загубили пароход, а он его только спасал.
– Ну как там, на мостике? – спросил Митрохин. – Что слышно?
– Все хотите знать?
– Я нет, – сказал Васька. – Я и так все знаю. «SOS» дали, теперь подождем, чего мы из него высосем.
– Ну да, у тебя забота маленькая.
– А у тебя – большая?
Старпом хмыкнул, принялся было за борщ. Но при этом еще такую рожу состроил – таинственную, значительную.
– Идет к нам кто-нибудь? – спросил Серега. – Хоть один пароходишко? Только ты не кривляйся, мы тебя как человека спрашиваем.
Старпом покраснел до самых волос. Серега смотрел на него спокойно, даже как будто с жалостью.
– А какой бы ты хотел пароходишко?
– Опять ты кривляешься, – сказал Серега.
– Ну, база к нам повернула. Доволен? Только ей, базе, знаешь, сколько до нас идти?
– А поближе никого нету?
– Ну, есть один. Из рижского отряда. Это уж сам думай – поближе он или подальше, если ему лагом переть[79].
– Понимаю. Лагом бы и я не пошел при такой погоде. Да уж, как не повезет, так на все причины есть.
– А думаешь, мы одни такие невезучие? Иностранец вон еще бедствует, шотландец. Ему еще хуже, под самыми Фарерами болтается.
– Помоги ему Бог, – сказал Васька. – Чего ж он, дурак, промышлял, в фиорде не спрятался?
– Вот не спрятался.
– А сколько ж все-таки ей идти, базе-то? – спросил Митрохин.
– Сколько, сколько! Семь верст – и всё лесом.
– Опять ты за свое, – сказал Серега. – И что ты за пустырь, ей-богу! Человек тебя спрашивает, потому что жизнь от этого зависит. Он у тебя любую глупость может спросить, а ты ему обязан ответить, понял?
Старпом кинул ложку.
– Ну что привязались? Пожрать не дадут. Подите всё у кепа спросите.
– А тебе он не отвечает? – спросил Васька.
Старпом, уже около двери, повернулся было огрызнуться – и застыл с открытым ртом. Толчок был еле слышный, только зазвякали миски. И «юноша», который на лавке спал, вздрогнул и проснулся.
– А?.. Куда идти?
– Никуда, – сказал Васька. – Теперь уж все. Оборвали трос…
Старпом бухнул дверью, побежал.
– Да он и ненадежный был, – сказал Серега. – Трос-то.
Наверху затопали, заорали, и мы только успели докурить, как послышалась тревога. Уже не водяная, а шлюпочная – один длинный гудок, шесть коротких.
«Юноша» спросонья кинулся к двери – как был, в тельняшке, в берете, – потом спохватился, стал напяливать белую свою куртку, полотняную.
– Очухайся, – сказал Серега. – Так в шлюпку и сядешь? Рокан твой вспомни где. И телогрейка.
– А успею? Ребята, вы не спешите, я – мигом.
– Чего нам спешить, – сказал Васька Буров. – Уж посидим перед дорожкой.
Хотелось нам в последнем тепле еще побыть, побольше его захватить с собою, так вот и повод был – покуда «юноша» одевался, а кандей мешок собирал с аварийным питанием – галеты, консервы, сухофрукты. Вздумал еще термос взять с борщом, да мы отсоветовали, как его там похлебаешь – из ладоней, что ли?
Телогрейка у «юноши» ссохлась над плитой, теперь на груди не сходилась, а на рокане половины пуговиц не было, да хоть догадался он – посудным полотенцем опоясался. Так, под белым кушаком с кистями, и пошел за нами на ростры.
Уже кто-то возился около шлюпки, человек пять или шесть, стаскивали с нее брезент. Старпом в рокане бегал вокруг них и орал:
– Не ту! Другую! Кто же наветренную вываливает? Надо – подветренную!..
Из-за шлюпки фигура высунулась, по голосу – дрифтер.
– Сам-то ты смыслишь – какая щас на ветру будет? Пароход-то – рыскает.
– Ты на колдунчик посмотри!
– Сам ты колдунчик. Уйди, без тебя тошно!
– Скородумов, я на тебя управу найду!
– Вот найди сперва. А покамест я буду командовать.
Снежный заряд перестал, луна блеснула в сизых лохмотьях, и море открылось до горизонта – черные валы с оловянными гребнями. Ветром их разбивало в пылищу. Пароход обрывался вниз, катился по ледяному склону, и новый вал вырастал над мачтами. Не приведи бог видеть такое море. Лучше не смотреть, а делать хоть какое-то дело, пока еще душа жива, хоть что-то в ней теплится.
А шлюпку все же вот эту и нужно было вываливать первой. Только подгадать бы точно, спустить ее как раз, когда ветер с другого борта зайдет. Шарахался он ужасно, бедный наш пароход. Сети его опять развернули – кормою к волне, это не то что носом, удары куда сильнее.
Мы налегли на шлюпбалки. Дрифтер с размаху наваливался плечом, хрипел:
– Повело, ребята, повело!
Шлюпбалки скрипели, не поддавались, потом сами пошли с креном. Шлюпка вывалилась и закачалась. Волна прошла гребнем под нею и лизнула в днище.
– Стой! – кричал дрифтер. – Садись трое! Фалинь[80] трави, фалинь!
– А где он, фалинь?
Трое уже пересели в шлюпку и разбирали весла, а фалинь все не могли найти. Вдруг я увидел – Димка стоит спокойненько, держит его в руках.
– Он же у тебя, салага!
– Это и есть фалинь?
– Да он у него не срощенный! – Серега в темноте разглядел.
Я в это время держал шлюпталь, обе руки у меня были заняты.
– Сращивай! – сказал я Димке. – Учили тебя.
– А чем?
– В боцманском ящике штерт возьми. Знаешь где?
Он метнулся куда-то. Я уже пожалел, что послал его. Но он тут же вернулся с бухточкой.
– Брамшкотом вяжи.
Он скинул варежки, заложил под мышку.
– Брамшкот – это двойной шкот?
– Двойной. Только не спеши.
– Быстрей! – орал дрифтер.
Димка его не слушал. И правильно, фалинь наспех не сростишь, так всю шлюпку можно загробить. И мне понравилось, что руки у него не дрожат. И он не торопится в шлюпку.
– Хорош! – сказал я ему. – Я сам потравлю. Иди вниз.
– Зачем?
– Садиться, «зачем».
– Вот так, как есть, без шмоток? – Он поглядел кругом. – Алик, ты где?
– Садись иди, Алик уже там небось.
На рострах осталось нас четверо, по двое на каждую шлюпталь. Эту, я знал, мы не для себя спускаем. Пока сойдем, там уже будет полно. А нам вторую вываливать – для «голубятника». И хорошо, подумал я, как раз будем с «дедом». Если что случится с нашей шлюпкой, мы все-таки вместе.
Дрифтер кричал снизу:
– Трави помалу, майнай!
Вот тут мы замешкались, одну шлюпталь отчего-то заело, а когда пошла она – то не вовремя, тут бы ее, наоборот, попридержать. Как раз пароход вышел из крена и начал заваливаться на другой борт. И шлюпка с размаху стукнулась. Те, кто в ней был, попадали на дно. Но как будто никого не зашибло, никто не крикнул.
– Трави веселей! – орал дрифтер. – Ничего! Не соломенная!
Вдруг я почувствовал, как ослабли лопаря. Это волна подхватила шлюпку. Теперь уже поздно было в нее садиться, а нужно скорее отпихиваться – багром или веслом. А кто-то еще лез через планширь и не мог перелезть… Шлюпку приподняло и ударило об фальшборт с треском.
Мы навалились на шлюпталь, повели обратно. Шлюпка приподнялась, мы чувствовали ее тяжесть.
– Вылазь! – орал дрифтер. – Я удержу!
И правда, удержал ее у планширя, пока все не вылезли, потом перескочил сам и отпихнул.
– Вир-рай!
Пока мы ее поднимали, она еще два раза треснулась. Весь борт у нее раскололся, от штевня до штевня, и сквозь трещины ливмя лило. А сверху ее и не успело залить, я видел, это она набрала днищем.
Мы ее поставили опять в кильблок и закрепили концами лопарей. Но с таким же успехом ее можно было и выкинуть.
Пошли вниз. Старпом стал у нас на дороге:
– Куда? Почему шлюпку оставили?
Я шел первым. Я ему сказал:
– Успокоили шлюпку. Можно кандею отдать на растопку.
– Мореходы, сволочи! А ну – назад, вторую вываливать! Эту – чинить!
Я прошел мимо.
– Кому говорю? Назад!
Кто-то ему сказал:
– Вот и займись ремонтом. Починишь – тогда позовешь.
Мы уже до капа добрались, а тифон все ревел, звал на ростры.
В кубрике Шурка укладывал чемоданчик. Я сразу как-то почувствовал, что не вышло у них с машиной. И он тоже понял, что у нас не вышло со шлюпкой.
– Заварили? – спросил Серега.
Шурка закрыл чемоданчик и закинул его на койку.
– Трещина-то что, а вот три поршня прогорело, «дед» через форсунки прощупывал. Это не заваришь.
– Сколько там, девять осталось? – сказал Серега. – На них можно идти.
– Далеко ли?
Тифон в кубрике все надрывался.
– Выруби его, – сказал Шурка. – Только расстраивает.
Я подошел и сорвал провод.
– Так лучше. – Шурка почесал в затылке, опять потянул чемоданчик, достал из него карты.
Серега сел против него за стол.
– Какой у нас счет? – спросил Шурка. – И в чью пользу, я что-то забыл?
– Сдавай!
Пришел Димка и сел в дверях на комингс. Смотрел, как они играют, приглаживал мокрую челку, и скулы у него темнели. Вдруг он сказал:
– Все-таки вы – подонки. Не обижайтесь… Я думал – вы хоть побарахтаетесь до конца. Еще что-то можно сделать, а вы уже кончились, на лопатках лежите.
Серега сказал, глядя в карты:
– Плотик есть, на полатях. С веслами. Хочешь, мы тебе с Аликом его стащим? Может, вы, такие резвые, выгребете?
– Я разве о себе? Мне за вас обидно. Хоть бы вы паниковали, я уж не знаю…
– Это зачем? – спросил Шурка. Он поглядел на Ваську Бурова. – Мы с тобой плавали, когда сто пятый тонул?
– Ну!
– Так у них же лучше было. И нахлебали поменьше нас, и движок хоть не совсем скис. А все равно не выгребли. Так об чем же нам беспокоиться?
– Не об чем, так ходи, – сказал Серега.
– Отыграться надеешься? – Шурка спросил злорадно. – Не отыграешься.
– Просто слушать вас противно! – сказал Димка.
– А не слушай, – ответил Шурка.
Васька Буров вздохнул – долгим, горестным вздохом, – встал посреди кубрика, ни за что не держась, стащил промокший свитер, нижнюю рубаху. Он, верно, был когда-то силен, а теперь плечи у него обвисли, мускулы сделались как веревки, когда они много раз порвались, а их снова сплеснивали. Васька обтерся полотенцем – с наслаждением, как будто из речки вылез в июльский день, – потом из чемодана вынул рубаху – сухую, глаженую, – примерил на себя.
Димка на него глядел сощурясь и скалился.
– Пардон, кажется, состоится обряд надевания белых рубах?
– Ох, – сказал Васька. – Белая, серая… лишь бы сухая. А у тебя что – своей нету чистой? А то могу дать.
– О нет, спасибо.
Васька надел рубаху – она ему была чуть не до колен, – откинул одеяло и лег. Вытянулся блаженно. Димка встал с комингса, глядел на него, держась за косяк.
Васька сложил руки на груди, сплел пальцы.
– Бичи, кто закурить даст?
Шурка ему кинул пачку.
– Ох, бичи, до чего ж сладко! – Васька глотнул дыма и выдохнул медленно в подволок. – Я так думаю, мы носом приложимся. Оно и лучше, если носом. Никуда бежать не надо, ни на какую палубу.
Димка сплюнул, пошел из кубрика, грохнул дверью.
А я смотрел на Васькино лицо, такое успокоенное, на Шурку с Серегой, на четыре переборки, где все это с нами произойдет. Вон та, носовая, сразу разойдется – и хлынет в трещину. Из двери еще можно выскочить, но это если у двери и сидеть, – из койки не успеешь. Нет, нам не очень долго мучиться. Может быть, мы и подумать ни о чем не успеем. У берега волна швыряет сильнее, скала в обшивку входит, как в яичную скорлупу…
Так, я подумал, ну а зачем все это? За что? В чем мы таком провинились?
Я даже засмеялся – со злости: Шурка с Серегой взглянули на меня – и снова в карты.
А разве не за что? – я подумал. Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам? Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. Мы – шваль, сброд, сарынь, труха на ветру. И это нам – за все, в чем мы на самом деле виноваты. Не перед кем-нибудь – перед самими собой. За то, что мы звери друг другу – да хуже, чем они, те – если стаей живут – своим не грызут глотки. За то, что делаем работу, а – не любим ее и не бросаем. За то, что живем не с теми бабами, с какими нам хочется. За то, что слушаемся дураков, хоть и видим снизу, что они – дураки.
В кубрике все темнее становилось – уже, наверно, садились там аккумуляторы, – а Шурка с Серегой все играли, хотя уже и масть было трудно различить.
– Ничего, – сказал Шурка. – Сейчас у тебя нос будет свечой, хоть совсем плафон вырубай.
Он скинул карту и спросил:
– Васька, тебе кого жалко? Кроме матери, конечно.
Васька, с закрытыми глазами, ответил:
– Матери нет у меня. Пацанок жалко.
– Бабу не жалко?
– Не так. Да она-то мне не родная. Маялась со мной, так теперь облегчится. А пацанки мне родные и любят меня. Вот с ними-то что будет?.. Но вы не спрашивайте меня, бичи. Я молча полежу.
– А мне бабу жалко, – сказал Шурка. – Что она от меня видела? Только же расписались – и уже лаемся. Перед отходом – и то поругались.
Серега скинул карту и сказал:
– Ну, это по-доброму. Это ревность.
– Да и не по-доброму тоже хватало… А тебе – кого?
– Многих, – Серега ответил мрачно. – Всех не упомнишь.
– А тебе, земеля?
Кого же мне было жалко? Если мать не считать и сестренку. Корешей я особенных не нажил… Нинка, наверно, заплачет, когда узнает. Хоть у нас и все кончилось с Нинкой, и, может быть, ей с тем скулатеньким больше повезло – все равно заплачет, это она умеет. Вот Лиля еще погрустит. Но утешится быстро: я ведь ей ничего не сделал – ни хорошего, ни плохого. Лишь бы эти письма не всплыли, в куртке. Ну, простит она мне, раз такое дело, да и ничего там не было особенного, в этих письмах, не о чем беспокоиться. Клавке – и то я больше сделал: нахамил, как мог… Чего-то мне вдруг вспомнилась Клавкина комната – шкаф там стоял с зеркалом, полстены занимал – и высоченный, чуть не до потолка, и еще картинка была из журнала – как раз над кушеткой, где она этой Лидке Нечуевой постелила. Что ж там было, на этой картинке? Женщина какая-то на лошади – вся в черном, и лошадь тоже черная, глазом горячим косит, слегка на дыбы привстала, даже чувствовалось, что храпит. А к этой женщине тянет руки девчушка – с балкончика или с крыльца, но в общем через каменные перила, – славная девчушка, и вся она в белом, а волосы – черные, как у матери. Да, скорее всего, это мать и дочка – уж очень похожи. Вот все, что вспомнилось, – больше-то сама Клавка меня тогда занимала. Такая она уютная была в халатике, милая, все так и загорелось у ней в руках, когда мы к ней вломились. Другая б выставила, а она – Лидкину постель тут же скатала, быстро закусь сообразила и выпить и еще мне стопку поднесла персонально, когда я на пол сел у батареи… Бог ты мой, а ведь эта комнатешка, где мы гудели, одна и была – ее, она ж еще шипела на нас: «Тише, черти, соседей перебудите!» – и все, что я видел, вот это она и нажила. Экая же, подумаешь, хищница, грабительница!.. Да, неладно все как получилось с Клавкой! Мне вдруг стыдно стало, так горячо стыдно, когда вспомнил, как она стояла передо мной на холоде с голыми локтями, грудью. Что, если она и вправду не виновата ни в чем? А если и виновата – никакие деньги не стоили, чтобы я так с нею говорил. Что же она про меня запомнит?..
– Девку мне одну жалко, – я сказал. – Обидел ее ни за что.
– Сильно обидел? – спросил Шурка.
– Да хуже нельзя.
– Не простит она тебе?
– Не знаю… Может, и простит. Но забыть – не забудет.
– А хорошая девка?
– И этого не знаю…
Я встал, пошел из кубрика.
У соседей дверь была полуоткрыта, и там тоже лежали в койках, под одеялами, одетые в чистое, и курили. Ко мне головы никто не повернул.
5
Наверху, в капе, Алик выливал воду из сапога. Димка его держал за локоть. Я к ним поднялся. Димка взглянул на меня и оскалился.
– Тоже деятели, а? Комики!
– Не надо, – попросил Алик. – Кончай.
– Что, у самого коленки дрожат?
– Ну, дальше? Что из этого?
– Ничего, – сказал Димка. – Как раз ничего, друг мой Алик. Все естественно. Когда есть личность – ей и должно быть страшно. У нее есть что терять. Вот китайцам, наверное, не страшно. Они – хоть пачками, и ни слова упрека.
– Кончай, говорю.
– Нет, но где же все-таки волки? Я думал, они будут спасаться на последнем обломке мачты.
– Ты погоди, – сказал я ему, – до обломков еще не дошло.
– Ах, еще нужно этого дожидаться!
Что мне было ему ответить? Я и сам так же думал, как он.
– С тобой это было уже? – спросил Алик меня.
– Ни разу.
– Поэтому ты и спокоен. Не веришь, да?
– Какая разница – верю я или нет? Чему быть, то и будет.
– А я все-таки до конца не верю.
– Счастливый ты. Так оно легче.
Его будто судорогой передернуло. Я пожалел, что сказал ему это. Ведь такое дитя еще, в смерть никак не поверит. Я-то вот – верю уже. Меня однажды в драке, в Североморске, пряжкой звезданули по голове – я только в госпитале и очнулся. И понял: вот так оно все и происходит. Мог бы и не проснуться. Смерть – это не когда засыпаешь, смерть – это когда не просыпаешься. Вот с тех пор я и верю.
– Идите в кубрик, ребята, – сказал я им. – Пока вас на палубу не выгнали, мой вам совет: падайте в камыши.
– Эту философию мы тоже знаем, – сказал Димка. – Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. А все само собой образуется?
– Конечно, – говорю. – Само собой.
Алик улыбнулся.






