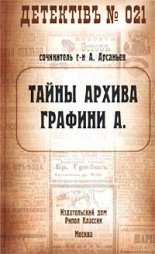Судьба Грин Саймон

И июня он снова написал: «король не выносит никаких деловых разговоров, а его отношения с женой настолько натянуты, что он считает, будто она действительно замышляет его убийство».
И вот через неделю, 18 июня 1698 г., отцу Аргельесу было поведано, что нужно написать имена короля и королевы на листке бумаги, которую он должен запечатать и спрятать у себя на груди, когда он будет освобождать от злых духов одержимых монахинь. Если представится возможность, он должен прямо спросить сатану, околдован ли кто-нибудь из двух, названных на кусочке бумаги, что у него на груди. Дьявол не отказался сотрудничать. Король действительно был околдован, «и это для того, чтобы разрушить его детородные органы и сделать его неспособным управлять королевством».
Король был заколдован зельем, подмешанным в питьё, при лунном свете, особенно действенном в новолуние, когда ему было четырнадцать лет. Отец Аргельес доложил о своих открытиях по команде, рекомендуя, чтобы король ел пищу и переваривал её медленнее, чтобы перед потреблением еду и питьё освящали, и ещё обязательно надо выпивать пинту оливкового масла в день. Без сомнения, это были здравые и выполнимые советы. Духовник и главный инквизитор продолжали заниматься этим делом, тщетно пытаясь выследить ведьму по имени Касильда, которая приготовила зелье. Аргельес обнаружил, что он всё глубже втягивается в проблему, которую уже не мог решить. Он сообщал своим корреспондентам, что у него начались трудности с монахинями и что дьявол, недаром называемый Вельзевулом, сам признался, что многое из сказанного им было паутиной лжи. Всё, что мог посоветовать добрый отец, — это тщательно соблюдать ранее данные рекомендации, а именно сменить у короля бельё, мебель, одежду и устранить всех врачей. Вероятно, все эти советы были безвредными. Он добавил, что было бы очень полезно сменить резиденцию. Назначили новых врачей, и король отправился поклониться мощам св. Диего в Алькале.
На протяжении всего лета 1698 г. английский посол Станоп, который регулярно сообщал о здоровье короля, подтвердил слух, что считалось, будто король умрёт очень скоро. Газеты, сообщал он своему сыну Джемсу 25 июня, пытаются создать впечатление, что король совершенно здоров, но это просто уловка, чтобы одурачить публику.
«Это правда, что он на людях каждый день, но „сбоку нависла смертоносная стрела“, лодыжки и колени у него снова в порядке, глаза огромные, веки красные, как пурпур, а всё остальное лицо зеленовато-жёлтое. Язык у него заплетается, то есть он так невнятно произносит слова, что его близкие его почти не понимают, на что он иногда сердится и спрашивает, не оглохли ли они».
Через восемнадцать дней, 29 июня, Станоп сообщил, что доктора поставили ему диагноз «неразумная эпилепсия». Вечером в тот день, гуляя с королевой в саду, он почувствовал, что голова у него кружится. Когда он удалился для молитвы, то крикнул своему камергеру, герцогу Уседа, что падает, и рухнул без сознания на руки герцога, «лишённый всякого чувства». Последовало ещё два припадка. «Нет ни малейшей надежды, — сообщал Станоп канцлеру Ирландии Метьюэну, — что этот король поправится, и мы каждый вечер ожидаем услышать, что утром он умер, хотя королева каждый день вытаскивает его на люди, чтобы люди думали, что он здоров, пока она не осуществит все свои козни».
Все эти беспорядочные происшествия надо рассматривать в свете международного положения, так как именно в 1698 г. великие державы пытались прийти к согласованному решению — не обращаясь к помощи дьявола — о будущем Испанской империи, если Карл II умрёт. По первому из этих договоров, участниками которого были великие державы, обсуждённому в Вене в 1668 г., было решено, что в случае смерти Карла император получит Испанию, заморские территории и испанские владения в Северной Италии, а французы — Нидерланды, Франш-Конте, Филиппины, Наварру и Неаполь. Когда равновесие сил в Европе сместилось, особенно после того, как враг Людовика XIV, голландский правитель Вильгельм, взошёл на английский престол, это решение стало менее приемлемым, особенно для французов.
По мере того, как здоровье короля ухудшалось, стали обсуждать ещё один договор о разделе, но без участия испанского короля. По этому соглашению принц-курфюрст Баварии Иосиф Фердинанд, который был внуком сестры испанского короля Маргариты, наследовал испанские владения за пределами Европы, эрцгерцог Карл, второй сын императора, получал Милан, а дофин, наследник Людовика XIV, — королевство обеих Сицилий и кое-какую территорию в Италии. Если бы Иосиф Фердинанд стал испанским королём, это, по всей вероятности, предотвратило бы опасность вхождения Испанской империи во владения либо французского короля, либо австрийского императора. Чего в договоре не было, так это учёта личных желаний самого Карла. Тем временем сам испанский двор стал ареной борьбы между приведёнными в боевую готовность двумя партиями: проавстрийской, руководимой послом графом Гаррахом, при помощи и попустительстве королевы, и профранцузской во главе с кардиналом Портокарреро, и оба они пытались пробраться к уху истощённого монарха.
Пока великие державы торговались, исповедники короля всё ещё прилагали усилия для избавления его от бесовской одержимости. Королева, из которой уже изгоняли бесов в декабре 1698 г., чтобы повлиять на её плодовитость, была разгневана слухами, утверждавшими, что это она околдовала короля. Смерть главного инквизитора в июне 1699 г. дала ей возможность избавиться от её врагов при дворе. Она ухитрилась добиться, чтобы послушный ей священнослужитель Балтазар де Мендоса, епископ Сеговии, был назначен главным инквизитором, а отца Диаса в конце концов сместили с поста королевского духовника. Последовало бесконечное расследование его поведения, которое наконец-то закончилось оправданием отца Диаса через четыре года после смерти Карла. И ещё больше усложнило ситуацию то, что герцог Савойский направил капуцинского монаха отца Мауро Тенду, у которого была репутация изгоняющего дьявола, для проведения дальнейшего расследования предполагаемого колдовства над королём. Он отправился в Мадрид, где вскоре оказался замешанным в серию странных случаев, которые подчёркивают суеверные представления короля и его жены, поскольку он обнаружил, что у них обоих имелись тайные мешочки с заговорами, волосами, срезанными ногтями и тому подобными предметами, которые они держали у себя под подушками. Отец Тенда, очевидно, уверенный в себе священник, сумел завоевать доверие Карла, и его здоровье тоже как будто улучшилось. Станоп в отчёте 1699 г. заявил, что король кажется здоровым и энергичным. Когда он и королева посетили гробницы в Эскориале, королева удивительно усердно молилась у тела матери короля. «Говорят, — добавила она, — что знаменитый изгоняющий бесов приехал из Германии, и он снял несколько заклинаний, которыми король был опутан ещё с детства; пока ещё не все из них, но есть великая надежда относительно остальных, и тогда у него будет не только великолепное здоровье, но и наследник». «Мне многие говорят, — признался сам король кардиналу Кордовскому, — что я околдован, и я тоже так думаю; это то, что я чувствую и от чего мучаюсь».
Но вскоре самоуверенность изгоняющего померкла, частично вследствие странного эпизода, который произошёл, когда какая-то сумасшедшая неизвестно как проникла во дворец и приблизилась к королю. Карл, встревоженный необычным видением, вытащил кусочек святого креста, который он всегда носил с собой, чтобы отгонять злых духов. Королевскому секретарю, дону Хосе де Ольмо, было поручено узнать, где живёт женщина. Он обнаружил, что она жила с двумя другими женщинами, такими же сумасшедшими, как она, и они шептали, что король у них заперт в маленьком ящичке в их комнате. Прибегли к помощи отца Тенды, и вместе с отцом Диасом они отправились допросить женщин и, если надо, изгнать из них бесов.
Задолго до того, как произошли эти события, здоровье короля стало резко ухудшаться. Вскоре после его рождения о нём писали, что у него «исключительно красивые черты лица, большая голова, тёмная кожа и он пухленький», но накануне своего тридцать девятого года он превратился в истощённую фигуру, страдающую от смертельной болезни. С самого рождения он фактически был инвалидом, вероятно, у него была болезнь костей, акромегалия, результат наследственной эндокринной дисфункции, усиленной опухолью гипофиза. Эта болезнь объясняет его странную внешность, громадную голову, преувеличенный габсбургский подбородок, природу его конечностей, а также его импотенцию. Эта болезнь вызывала приступы головокружения и то, что принимали за эпилептические конвульсии.
Хотя в его дегенеративной болезни случались периоды ослабления, у него не хватало ни ума, ни желания управлять своей империей, даже о географии которой он удивительно ничего не знал. Природа его воспитания, недостаточность его образования, строгий этикет двора, зависимость от матери, психология религиозных представлений способствовали созданию умственно отсталого и сверхчувствительного монарха, который был всего лишь номинальной фигурой в громадной империи, главой которой он официально являлся; единственное, что он принимал близко к сердцу — это целостность его владений после его смерти. Описывая впечатление, которое производил король, участвуя в процессии праздника тела Христова, Станоп писал:
«Все, кто его видел, говорили, что он не мог сделать ни одного верного шага, но всю дорогу спотыкался; и ничего другого нельзя было и ожидать, если он уже два раза упал в тот день и два в предыдущий, гуляя в своём собственном жилище, когда его ноги под ним сгибались из-за своей слабости. Во время одного падения он повредил глаз, который сильно распух и почернел, это было видно во время процессии; а другой совсем провалился в голову; говорят, что нервы сокращаются в результате паралитического волнения».
Управление Испании находилось в более хаотическом состоянии, чем когда-либо раньше, ослабленное процессом децентрализации, которому король способствовал, создав огромное количество новых аристократов, а также бюрократической некомпетентностью. «Торговля, — докладывал иностранный дипломат, — мертва. 40000 ремесленников остаются без работы, нищие умирают от голода, и на улицах ежедневно совершаются преступления из-за нехватки хлеба».
За этим рушащимся фасадом двор представлял собой арену борьбы за власть между королевой и её австрийскими союзниками с одной стороны, и профранцузской партией, возглавляемой кардиналом Портокарреро. Хрупкое равновесие сил было нарушено смертью от оспы семилетнего принца-курфюрста в феврале 1699 г. После его смерти Людовик XIV и английский король Вильгельм III заключили 11 июня 1699 г. новый договор о разделе. Второй сын императора Священной Римской империи Леопольда Карл должен был получить большую часть Испанской империи, а сын Людовика, дофин, получал то, что ему гарантировалось по первому договору вместе с герцогством Лотарингия. Соглашение было непрочным и неудовлетворительным, так как два главных участника не доверяли друг другу; император, который его не подписывал, назвал его несправедливым, а с испанским королём не посоветовались.
Несчастный король был на последней стадии своей болезни. 28 сентября 1700 г. его соборовали, а через пять дней, с помощью кардинала Портокарреро, он продиктовал своё завещание, оставив империю в её целостности, «не допуская ни малейшего расчленения Монархии, столь славно основанной моими предками», внуку Людовика XIV Филиппу, герцогу Анжуйскому. Это был, вероятно, самый решительный и определённо самый важный шаг во всей его жизни. Совсем незадолго до 3 часов дня в день всех святых в 1700 г. Карл II умер. Через несколько недель Филипп Анжуйский был провозглашён королём как Филипп V, договор о разделе был разорван, и Европа погрузилась в тринадцатилетний кровавый и дорогостоящий конфликт, прежде чем его титул был полностью подтверждён{5}.
Не бесспорно, что Карл II имел только косвенное и поверхностное влияние на историю Испании. Первые четырнадцать лет своего правления он был несовершеннолетним, а в последующие два десятилетия жизни был почти полностью номинальной фигурой. Даже если бы он не был так болен, он всё-таки не смог бы решить тех экономических и политических проблем, которые были частью полученного им наследства. И всё же если бы физически и умственно он был энергичнее и не в такой степени под башмаком у своей матери, он был бы лучше вооружён для того, чтобы сломить власть аристократической олигархии и даже начать такие нужные реформы в управлении страной. Его единокровный брат дон Хуан проявил некоторую проницательность в краткий период своего правления. Но задание было геркулесово, и оно могло бы обескуражить и монарха с гораздо большими возможностями, чем Карл II. А на деле его слабое здоровье и умственная отсталость оказались катастрофой для его империи и в каком-то смысле для Европы в целом.
Последующая история испанского королевского дома показывает, что относительно меланхолии, замедленного умственного развития и слабого здоровья наследие Карла II было не только патологическим и психологическим, но и территориальным. Ибо это безусловно ирония судьбы, что после тридцати лет правления полутрупа Карла II Испания на сорок шесть лет получила в качестве короля Филиппа V, внука сестры Карла II Марии Терезы, которая вышла замуж за французского короля Людовика XIV, и таким образом он был правнуком испанского короля Филиппа IV. В его жилах текли, образно говоря, скопившиеся «отравленные» гены и хромосомы династий Габсбургов и Бурбонов. Понятно, что у Филиппа V периодически случались приступы маниакально-депрессивного психоза и это лишало его возможности править эффективно или, временами, хоть как-нибудь. Если бы у него не было исключительно талантливой жены, Елизаветы Фарнезе, и у него на службе не находилось несколько компетентных министров, правление Филиппа могло бы оказаться катастрофой для его огромной империи. И с его смертью в 1746 г. положение не изменилось, поскольку его сын и наследник Фердинанд VI страдал от всё той же изнурительной психической болезни. Поэтому в Испании целое столетие не было монарха, физическое и психическое здоровье которого отвечало бы потребностям управления государством.
Понадобилось тринадцать лет кровавой войны, прежде чем завещание Карла II могло быть выполнено; должны были погибнуть и покалечиться тысячи солдат на полях великих битв в Европе — у Бленима, Рамийи, Ауденарда, Мальпляке; Гибралтар захватили британцы; финансы были истощены и накопились громадные государственные долги, прежде чем великие державы по Утрехтскому миру в 1713 г. в конце концов признали внука Людовика XIV королём Испании.
Филипп V был мрачным, серьёзным и религиозным человеком. Он не был, как выразился Сен-Симон, «рождён с каким-нибудь интеллектуальным превосходством и не обладал ни малейшим намёком на воображение. Он был холоден, молчалив, печален и трезв, не знал никаких удовольствий помимо охоты, боялся общества, боялся даже себя, редко привлекал внимание, редко привязывался к другим людям, по привычке и складу характера предпочитал одиночество и уединение, Он был необычайно тщеславен и не мог терпеть никакого противоречия». Но он был также чрезвычайно сексуален, так что постоянно и неуместно убегал из исповедальни в постель своей жены. Его первая жена, живая, молодая Мария Луиза Савойская на время отвлекала его от серьёзной и скучной рутины, уговаривая играть в такие игры, как «прятки» и «кукушка», но она рано умерла в возрасте двадцати шести лет в феврале 1714 г. «Испанский король, — писал Сен-Симон, — очень переживал, но в несколько королевской манере. Его уговорили пойти пострелять и поохотиться, чтобы подышать свежим воздухом. На одном из этих выездов он оказался на месте, откуда видна была процессия, которая везла тело королевы в Эскориал. Он поглядел ему вслед, проводил его глазами и вернулся на охоту. Особы королевской крови, люди ли они?»
Период его вдовства был коротким, и уже в 1715 г. он женился на Елизавете Фарнезе, дочери Пармского герцога, вызывающей уважение и очень умной женщине, которая фактически заменила своего вялого мужа в качестве истинного правителя Испании. Её новые подданные её никогда не любили, так как она изменила общепринятую внешнюю политику своей новой страны, чтобы продвинуть интересы семьи Фарнезе, а в особенности детей, которые у неё были от Филиппа. Но её муж совершенно не мог жить без неё, они редко расставались друг с другом и всегда спали вместе в «маленькой кроватке». Похоже, что она приобрела власть над своим мужем не без помощи сексуального шантажа. «Собственная натура короля, — замечает Сен-Симон, — была самым сильным её оружием, которое она временами использовала против него. Случались ночные отказы, которые вызывали бурю; король визжал и угрожал, иногда поступал и хуже. Она держалась твёрдо, плакала, время от времени защищалась».
Происхождение короля вызывало психологическую тревогу. Его дед Людовик XIV сообщал ему:
«Никто другой не расскажет тебе того, что могу сказать я. Ты сам можешь наблюдать нервные расстройства, проистекающие от праздности королей, твоих предшественников: научись на их примере и исправь противоположным поведением губительные последствия, которые они навлекли на испанскую монархию. Но я с озабоченностью признаюсь тебе, что тогда как опасностям войны подвергнуться легко, нужна смелость, чтобы побороть этот гнусный порок, который одолевает тебя и мешает (самому) заняться делом».
Будущее показало, что опасения Людовика были обоснованы.
Филипп оказался жертвой глубокой меланхолии, от которой его трудно было отвлечь. Первый действительно серьёзный приступ случился, очевидно, осенью 1717 г., когда он жаловался, что чувствует, как будто его пожирает яростный внутренний огонь, как будто солнце било ему в плечо и посылало острый луч в самый центр его тела. Когда его осмотрели врачи, они не нашли ничего угрожающего и предположили, что это бред. Король стал ещё более исступлённым, объявив, что только смерть докажет, кто прав, он или его врачи. Он был убеждён, что умирает в смертном грехе. Французский посол несколько более реалистично приписал его неприятности тем непомерным требованиям, которые он предъявлял своей жене. «Король, — докладывал он, — явно истощает себя тем чрезмерным вниманием, которое он уделяет королеве. Он совершенно измотан». Ипохондрический бред, который его мучил, а также убеждение, что теперешние несчастья являлись божественным наказанием за его личные недостатки — это симптомы маниакально-депрессивного психоза. «Последние восемь месяцев, — замечает его главный министр Альберони, — он проявляет симптомы ненормальности, его воображение заставляет его думать, что ему суждено немедленно умереть, и он считает, что болен самыми разными болезнями».
Филипп был убеждён, что вот-вот умрёт, и вызывал духовника в свою спальню в любое время дня и ночи. Его министры предложили ему составить завещание, назначив регентом свою жену, Елизавету Фарнезе. Слухи о его болезни проникли в иностранные дворы, побудив великие державы принять меры к защите своих интересов, если жена короля станет регентом или он умрёт. «Три хитрых и ловких француза» были внедрены в качестве обслуживающих медиков, а королева, желая уравновесить французское влияние, уговорила своего отца, герцога Пармского, прислать своего собственного врача, доктора Черви, чтобы он лечил её мужа. И только начало войны с Францией и Англией, когда эти две страны в необычном согласии договорились действовать совместно против Испании, пробудило короля от его летаргии.
Но интроспективная меланхолия Филиппа скоро вернулась, вызвав внутренний политический кризис, который подверг испытанию возможности самой королевы. Религиозное рвение короля ещё больше усилило его уверенность, что несчастья, поражающие Испанию, были божественной карой за его собственные недостатки. В смутных закоулках своего разума он пришёл к заключению, что его святая обязанность — отречься от престола. Он не годился для управления страной — это заключение, для которого, наверное, и не требовалось руководства свыше, несомненно было верным.
Ещё до конца 1723 г. слухи поползли по Парижу, что у Филиппа религиозная мания и что он собирается отказаться от престола. Те, кто был настроен более скептически, раздумывали, не было ли для такого решения более веских причин. В глубине души он жаждал вернуться в свою родную Францию, а слабое здоровье молодого французского короля Людовика XV пробуждало в нём непрекращающиеся надежды на наследование французского престола. Но он не мог быть королём и Франции, и Испании. Если бы он перестал быть королём Испании, его шансы сменить Людовика были бы больше.
10 января 1724 г. Филипп объявил о своём решении отречься от престола в пользу его сына Людовика. «Я решил, — объявил он, — отказаться от тяжёлой ноши управления этой монархией, чтобы в оставшееся мне время сосредоточить свой разум на смерти и молиться о спасении в другом более постоянном королевстве». «Слава Богу, — сказал он, — и остаток своих дней я проведу в служении Богу и в уединении».
Отречение Филиппа напоминало фарс. Хотя он любил надевать одежду францисканского монаха и объявил о некотором сокращении домашних расходов он выбрал своей резиденцией в отставке роскошный новый дворец Ла-Гранха в Сан-Ильдефонсо, строительство которого было тяжёлым бременем для испанской казны, так как уже обошлось приблизительно в 24 миллиона песо. И практически Сан-Ильдефонсо продолжал оставаться местом заседаний правительства, так как ни Филипп, ни его честолюбивая жена не переставали интересоваться государственными делами.
Так или иначе, новые король и королева были безнадёжно неопытны. Людовика несомненно любил простой народ, он был отличным спортсменом и танцором, но в других отношениях это был молодой головорез, плохо образованный, бесцеремонный с женщинами, любивший бродить по ночным улицам и даже с удовольствием обирающий свои собственные сады. Он врывался без предупреждения в личные покои фрейлин своей жены. Его больше привлекал спорт, чем управление страной, а жена его отличалась такими же фривольными вкусами и столь вульгарными манерами, что Людовик даже подверг её временному заключению.
Легко представить себе смятение в Сан-Ильдефонсо, вызванное поведением новых короля и королевы, так что Филипп, как всегда щепетильный, начал думать, уж не прогневал ли он Бога, передав корону неподходящему преемнику. Он осуждал инфантильное поведение своего сына, а ещё больше невестки, и даже наводил справки, нельзя ли объявить брак недействительным, если он не был завершён близкими отношениями. К счастью, от решения этой дилеммы его избавила внезапная смерть сына от оспы в конце августа 1724 г.
Но теперь перед Филиппом стояла другая дилемма. Согласно акту об отречении, престол теперь переходил к младшему брату Людовика, Фердинанду, с этим мнением соглашался даже духовник Филиппа. Но это был нежелательный выход, по крайней мере для Елизаветы Фарнезе, которая никогда не хотела отказываться от власти, а именно это следовало из отречения её мужа. При её сильной поддержке и с подсказки папского нунция, Альдобрандини, Филипп объявил, что он снова наденет корону.
Филиппу предстояло править ещё более двадцати лет, но именно Елизавета Фарнезе определяла внешнюю политику своей страны с сильным уклоном в пользу её итальянских интересов, особенно интересов её сына, будущего испанского короля Карла III. Внутренняя экономика страны в сильной степени оставалась застойной. Тем временем у её мужа по-прежнему случались маниакально-депрессивные припадки, которые на самых серьёзных стадиях легко могли скатиться к безумию. Он снова серьёзно заболел весной 1727 г., временами был апатичен, временами нервным и беспокойным, буйно вёл себя с врачами и с духовником. Если королева пыталась ограничить его религиозное рвение, он в ответ пытался её побить. Он визжал и пел и даже кусал сам себя. Его также мучила острая бессонница и потеря аппетита, он ел только сладости. Ранее тучный, он похудел. Его начал мучить бред, он воображал, что не может ходить, потому что ноги у него разной величины, не хотел стричься, из-за чего трудно было носить парик, и бриться. Королева уговорила двор переехать из Мадрида в Андалузию, где он оставался пять лет с 1728 по 1733 г. в Алькасаре в Севилье.
Филипп всё ещё навязчиво осознавал неспособность выполнять свои обязанности и продолжал рассматривать возможность дальнейшего отречения, и эта перспектива очень сильно тревожила королеву. Он послал письмо председателю совета Кастилии, не посоветовавшись с женой, и объявил, что хочет отказаться от престола в пользу своего сына Фердинанда. Совет не принял решения. Король, считая, что совет согласился с его решением, рассказал Елизавете, что он сделал, когда они были на охоте. Елизавета Фарнезе, сильно озабоченная, настояла на том, чтобы он отозвал заявление, объясняя, что, как она считает, нужно исправить пункты, относящиеся к ней и к её детям. Когда заявление об отречении попало к ней в руки, она разорвала его на мелкие кусочки и сказала мужу, что она категорически возражает против его отречения, а без её согласия оно было незаконным.
Оставалась опасность, что он примет внезапное решение, так что перья и бумага прятались от него по возможности подальше. На время он вернулся к полунормальной жизни, разрешив побрить себя впервые за восемь месяцев и даже занялся государственными делами. Сомнительно, выиграла ли от этого страна. Это безусловно приносило большие неудобства его министрам и придворным, ибо «его католическое величество, — как сообщал английский посол сэр Бенджамин Кин Уолдегрейву 6 апреля 1731 г., — кажется, проводит эксперименты насчёт жизни без сна». Он ужинал в 3 часа ночи, ложился в 5 утра, вставал к мессе в 3 часа дня. Затем он изменил режим дня, стал ложиться в 10 утра и вставать в 5 часов вечера.
В 1730 г. при испанском дворе стало известно, что решил отречься король Сардинии. Королева и её советники серьёзно обеспокоились, что Филипп попытается последовать его примеру (хотя сардинский монарх отказался от престола, чтобы жениться на своей любовнице). Они пытались сказать Филиппу, что отречение сардинского короля показывает, что он на самом деле сошёл с ума. Но к августу 1732 г. Филипп ещё раз слёг в постель, не вставал даже, чтобы поесть, разговаривал только с самыми близкими слугами и не разрешал стричь ни волосы, ни ногти. Кин сообщал герцогу Ньюкаслу 17 октября 1732 г., «что сейчас здесь нет совершенно никакого правительства или хотя бы его подобия, ибо он уже двадцать дней не встречается ни с министрами, ни с духовником, и поэтому нет никаких официальных сообщений».
К Пасхе 1733 г. появились признаки возвращения разума. Фердинанду удалось уговорить отца побриться, сменить бельё и принять рвотное. К лету английский посол мог сообщить, что «король продолжает заниматься делом, так что правительство опять работает регулярно, а что касается его здоровья, то я никогда не видел, чтобы он выглядел бодрее или больше говорил». Однако это было временное явление. Двор сам был расколот интригой, так как королеве не нравилось то влияние, которое её пасынок Фердинанд начинал приобретать над королём. «Я так думаю, — замечал неутомимый английский посол, —
что она хотела бы избежать этого обращения к принцу, но король, вероятно, давно уже привык к слезам королевы, и они его больше не трогают, а слёзы принца ему внове и произвели впечатление. Кроме того, судя по предосторожностям, которые она принимала, чтобы помешать кому-нибудь приближаться к покоям, нет сомнений, что она хотела добиться силой того, что король наконец согласиться сделать; и чтобы получить полномочия поступить таким образом, разумно было испробовать все другие и убедить самого принца в необходимости уговорить короля позаботиться о своём здоровье».
Его возвращение к здравому смыслу было кратким. В начале 1738 г. о нём говорили как о «помрачившемся в разуме». Он оставался молчаливым и замкнутым, хотя время от времени крики из его покоев выдавали бред. «Это должно закончиться отречением», — ещё раньше Кин сообщил английскому министру герцогу Ньюкаслу, но Филипп решительно оставался королём, целиком зависимым от своей жены. «Когда он удаляется к обеду, — снова рассказывал Кин герцогу Ньюкаслу 2 августа 1738 г., —
он испускает такой страшный вой, который сначала всех потрясал и заставлял доверенных лиц удалять из покоев всех, как только он садился за стол; и так как королева никогда не знает, как он себя поведёт, она не выпускает его за дверь, настолько, что они теперь не выходят подышать воздухом и их любимый сад в Сан-Ильдефонсо, что они делали раньше. Ночью он развлекается тем, что слушает, как Фаринелли (итальянский певец Карло Броски) поёт те же самые пять итальянских мелодий, которые он пел в первый раз, когда перед ним выступал, и продолжал петь каждую ночь в продолжение почти двенадцати месяцев. Но ваша светлость улыбнётся, когда я сообщу вам, что король сам подражает Фаринелли, иногда выводя мелодию за мелодией, иногда тогда, когда музыка уже кончилась, и предаётся таким причудам и воплям, что предпринимаются все возможные меры, чтобы помешать кому-нибудь наблюдать эти чудачества. На этой неделе у него был один из таких припадков, который продолжался с двенадцати до двух часов ночи. Идут разговоры о том, чтобы выкупать его, но боюсь, что они его не уговорят прибегнуть к этому средству».
Фаринелли позже рассказывал доктору Берни, что он пел те же самые четыре песни, две из которых были «Бледное солнце» и «Эти милые просторы», сочинённые Гассе, до самой смерти короля. Подсчитали, что он, таким образом, пел эти песни приблизительно 3600 ночей подряд.
Так проходили годы, король оставался пассивным, набожным и унылым, всё ещё преданным своей жене, которая определяла политику его империи. Это была трагикомедия, оживляемая периодическими припадками маниакально-депрессивного психоза у короля, и она пришла, к концу, когда у него случился тяжёлый удар 9 июля 1746 г. Маркиз д'Аржансон замечал:
«Филипп умер от огорчения и ожирения, которое он получил от чрезмерного удовлетворения своего аппетита, скорее регулярного, чем умеренного. Он был очень трудолюбив, но не делал ничего полезного. Ни один человек не преподнёс такого примера, как можно неправильно вести себя в браке, позволяя своей жене управлять собой, и она управляла им плохо. Его королева заставляла его тратить честь и богатство Испании на завоевание владений в Италии, и Богу было угодно, чтобы ей не было от этого никакой пользы».
Со смертью мужа и восшествием на престол её пасынка Фердинанда власть Елизаветы Фарнезе пришла к концу.
Но восшествие Фердинанда почти не изменило характера монархии. Новый король, четвёртый, но единственный выживший сын Филиппа от первого брака, имел одутловатое лицо с отсутствующим выражением, был коренаст и невысокого роста, «настолько толст и здоров, — так выразился Кин, — насколько могут пожелать те, кто его любит». Он проявил определённую государственную мудрость, согласившись со своими министрами, что Испании нужен период покоя и примирения. Но он унаследовал нрав своего отца. Он по природе был ленив, находя лекарство от депрессии в пьесах и опере — он и его жена были покровителями Скарлатти и Фаринелли — и в других развлечениях. В остальных отношениях он был угрюмый, подозрительный и нерешительный, и, как и отец, во времена депрессий каждый день ожидал внезапной насильственной смерти.
Он был так же привязан к жене, как и его отец, и целиком от неё зависел. Это была Барбара, дочь португальского короля Иоанна V. «Черты её лица, — заметил архидьякон Кокс, — довольно непритязательны, а первоначальная элегантность фигуры скрыта дородностью». Это было деликатное высказывание, так как лицо её было изрыто оспой, губы были толстые и у неё была хроническая астма. Темперамент у неё, по-видимому, был такой же невротический, как и у мужа, так как её собственный королевский дом Браганса не был свободен от психических расстройств. Как и её муж, она постоянно боялась внезапной смерти, чему способствовала склонность к астме. Ещё она боялась, что если муж умрёт раньше неё, она окажется в бедности, и чтобы избежать этой катастрофы, стала исключительно жадной и оставила значительное состояние своему брату, Петру Португальскому, когда умерла 27 августа 1758 г.
Казалось, её смерть ускорила погружение мужа в маниакальную депрессию. Он оставался в уединении во дворце Вильявисьоза де Одон, избегал общества, не ел, питаясь только супом, и не спал. Он завёл привычку бить своих несчастных слуг. «Король, — замечал английский посол лорд Бристоль, — погружён в меланхолию, от которой ничто не может его отвлечь, и постоянно молчит, так что нельзя получить никаких указаний, и не издаются никакие приказы… Он не бреется, ходит безо всякой одежды кроме сорочки, которую не менял поразительное время, и в ночной рубашке. Он не ложился спать десять ночей, и думают, что он не спал и пяти часов со второго числа этого месяца, а только урывками по полчаса. Он не хочет ложиться, потому что воображает, что тут же умрёт».
Фердинанд ненадолго пережил свою жену. Он пытался покончить жизнь самоубийством, при помощи ножниц, просил яда, но в конце концов умер естественной смертью на сорок седьмом году жизни 10 августа 1759 г.
В будущем ни один испанский монарх не был таким физически неполноценным, как Карл II, и не был так подвержен маниакальному психозу, как Филипп V и Фердинанд VI. В самом деле, наследник Фердинанда, его единокровный брат Карл III, сын Филиппа от Елизаветы Фарнезе, сначала наследник великого герцогства Тосканы, а позже король обеих Сицилий, оказался способным и просвещённым монархом. И всё же, образно говоря, может показаться, что гены сговорились и лишили дом испанских Бурбонов способности к хорошему правлению. Из последующих королей Карл IV отличался хорошими намерениями, но был слабым монархом, запуганным своей женой Марией Луизой, любовницей главного министра Годоя. «Что, — спрашивал король у Годоя, — делают сегодня мои подданные?» «Он никогда не дорос до зрелости, — пишет самый современный историк о его правлении, — оставшись инфантильным в знаниях и суждениях, неспособным отличить сторонников от негодяев». Превосходный портрет этой королевской семьи, написанный Гойей, безошибочно разоблачает основополагающую неспособность и примитивную бесплодность этой линии Бурбонов. Сын Карла, Фердинанд VII, был закоренелый реакционер, тогда как дочь Фердинанда, королева Изабелла II, которая взошла на трон в возрасте трёх лет, стала политически консервативной и сентиментально набожной женщиной «грубого и несколько рыхлого вида». В результате дипломатических манипуляций её неудачно выдали замуж в шестнадцать лет за её кузена, женоподобного бурбонского принца Франсиско де Асис, незрелого юнца, который любил играть в куклы даже став взрослым, и был таким ипохондриком, что отказывался встречаться с кем бы то ни было, если подозревал, что человек простужен. Хотя Изабелла привязалась, может, до одержимости, к монахине, сестре Патросинио, у которой, как говорили, появились раны Христа, королева искала утешения от несчастливого замужества на стороне. «У королевы, — писал принц-консорт, — есть любовники. Её мать, Христина, хотела навязать ей любовника, одного, по своему вкусу». Вряд ли могут быть сомнения, что в течение многих столетий, помимо сомнительного воздействия родственных браков, существовала и долго не исчезающая неврастеническая черта в испанской королевской семье, что имело неоднократные политические последствия для страны, которой они управляли.
XI. Флорентийские забавы
Медичи, в отличие от Габсбургов и Бурбонов, королевской семьёй не были, но как итальянские принцы, политически изобретательные и с культурными интересами, они правили Флоренцией, за исключением краткого периода в начале XVI в., с 1430 гг. до смерти последнего великого герцога Джана Гастоне в 1737 г. Флоренция, вероятно, достигла своего апогея под умелым руководством действительного основателя семейного состояния, великого принца-купца Козимо деи Медичи и его внука Лоренцо Великолепного. Их разветвлённая банковская сеть сделала Медичи силой в экономике и политике Западной Европы, и даже после того, как их интересы сузились, Медичи долго оставались ведущей силой в Италии. Семья дала двух пап, Клемента VII и Льва X, а также непрекращающийся поток кардиналов и двух самых влиятельных королев Франции, Екатерину Медичи и Марию Медичи. Сама Флоренция несказанно обогатилась прекрасными зданиями, картинами и скульптурами, что было обеспечено покровительством Медичи и их сторонников. Как великие герцоги Тосканские Медичи обладали деспотической властью и предводительствовали роскошным двором.
К концу XVII в. флорентийцы, как и сама семья Медичи, страдали от артериального склероза, но они жили на репутации и ресурсах блестящего прошлого. Двор Медичи всё ещё был изобильным и экстравагантным в расходах, а его главы покровительствовали искусству и культуре. И всё же это в каком-то смысле фасад, которому не удавалось скрыть падение экономики Тосканы и её политическое бессилие. Страна давно уже перестала быть центром процветающей промышленности, и в сельском хозяйстве дела обстояли плохо. Её граждане облагались огромными налогами, чтобы финансировать дорогой двор и обеспечивать субсидии, которые великий герцог должен был платить иностранным державам. Самым тяжёлым бремя было для людей среднего класса, фермеров и купцов, которые всегда были опорой экономики Тосканы. В результате росла бедность и безработица. Грандиозные религиозные праздники и пышные светские зрелища, которые отвлекали флорентийцев, не могли убедительно скрыть гниющую болезнь экономики.
На самом деле Флоренция стала политически бессильной. В зарубежных поездках великого герцога Козимо III встречали торжественным церемониалом, приличествующим благородному принцу; и к его великому удовольствию он получил от императора право именоваться королевским высочеством, а не просто высочеством (титул, который, к его великой досаде, император уже даровал герцогу Савойскому), и титул Serenissimo («самый невозмутимый»), но эти почести были чисто номинальными. Флоренция превратилась в третьеразрядную страну, её армия была маленькой, а флот, когда-то существенный, практически перестал существовать. Флоренция оставалась мирной и сравнительно свободной от внешнего вмешательства только потому, что великим державам не стоило вмешиваться. Но они расположились, как стервятники, вокруг угасающей линии Медичи, и Флоренция оставалась приманкой, совершенно неспособной эффективно себя защитить.
Великий герцог Козимо III правил Тосканой пятьдесят три года. Тогда как его правление не было ни особенно хорошим, ни плохим, оно повлияло на определённые грани его собственного характера, которые в каком-то смысле чрезвычайно важны для понимания натуры его сына и преемника, последнего великого герцога, Джана Гастоне. Воспитанный своей глубоко набожной матерью, несчастной в браке с его отцом великим герцогом Фердинандом, который правил Флоренцией с 1621 по 1670 г. и предпочитал объятия своего молодого пажа графа Бруто делла Молары, Козимо вырос ограниченным, серьёзным и ревностным богомольцем, более подходящим для церковной, чем для светской карьеры. Уже в 1659 г. о нём говорили, что он проявлял «признаки исключительного благочестия… он подвержен меланхолии сверх всяких обычных пределов… никогда не видно, чтобы принц улыбался». Жизнь его была постоянным обходом церквей, ибо он посещал пять или шесть храмов ежедневно, и величайшим наслаждением для него было принимать участие в религиозных процессиях. Эдуард Райт писал, что в более поздние годы у великого герцога была «машина в его личных покоях, на которой были закреплены маленькие серебряные образки всех святых в календаре». Машина была так устроена, что поворачивалась и выдвигала вперёд святого данного дня, и перед ним он непрерывно служил службу. «Его рвение, — добавляет он, — было особенно велико в привлечении новообращённых к Римской церкви». Вероятно, наибольшее удовлетворение в жизни даровал ему папа, назначив его каноником Св. Иоанна Латеранского; привилегия эта давала ему возможность касаться святой реликвии — платка св. Вероники, который по легенде использовал Христос по дороге к кресту и на котором неясно отпечатались его таинственные черты. Козимо был горд, когда на портрете его изобразили в одежде каноника. В 1719 г. он, по указанию свыше, посвятил свою страну «руководству и абсолютной власти самого славного св. Иосифа».
Такая религиозность, отнюдь не необычная во флорентийском обществе, могла бы быть незаметной, если бы она не находила выражения в законодательстве. Великий герцог был нетерпим в своём отношении к отступлениям от норм морали и веры. Он пытался предать анафеме женщин-актрис, запрещал мужчинам заходить в дома, где были незамужние девушки, и издал серию грозных и нетерпимых антисемитских указов. Были запрещены браки между евреями и христианами; христиане не должны были даже жить в одном доме с иудеем. Еврей, который обращался к проститутке-нееврейке, штрафовался на 300 крон, тогда как проститутка подлежала публичной порке, обнажённая до пояса. В ноябре 1683 г. было запрещено христианским кормилицам выкармливать еврейских младенцев. Великий герцог пытался контролировать школы и университет, чтобы было объявлено вне закона всё, что можно было истолковать как вызов общепринятым нормам. Он приказал удалить из собора статую Адама и Евы Бландинелли, потому что она была неблагопристойной.
Козимо женился на Маргарите Луизе Орлеанской, племяннице французского короля Людовика XIII и, следовательно, кузине Людовика XIV, и с дипломатической точки зрения этот выбор казался отличным, он на первый взгляд предполагал все возможности для продолжения рода Медичи — цель, которая очень давно и серьёзно занимала мысли Козимо. «Она принесёт такие плоды, — сказали Козимо, — которые утешат вас в старости и увековечат родословную вашего высочества».
На самом деле мало можно найти более ярких примеров супружеской несовместимости, чем брак Козимо и Маргариты Луизы. Муж был строгого и мрачного нрава, настолько нерасположенный к физическому контакту, что кое-кто подозревал его в гомосексуализме. «Он спит со своей женой, — сообщала принцесса София Ганноверская, — только раз в неделю, и то под наблюдением врача, который затем распоряжается, чтобы он покидал постель, дабы не повредить здоровью, оставаясь там чересчур долго». Его жена, наоборот, была красива, отличалась чрезвычайной живостью, физической энергией и, как и подобало дочери Гастона Орлеанского, гордостью, упрямством и эгоизмом.
Выданная замуж через представителя в Лувре в Париже, она морем отправилась в Италию, и её новые подданные устроили ей дорогую и великолепную торжественную встречу. Но у Маргариты Луизы иллюзий было мало. В Париже ей пришлось оставить возлюбленного, принца Карла Лотарингского, и она хотела быть королевой, а не великой герцогиней, и ей не нравилась её новая страна. Она нашла, что флорентийцы сдержанны и неинтересны, а её муж невыносим. Отец Козимо отправил домой её французских сопровождающих и оказывал на неё какое мог давление, чтобы заставить её выполнить свой долг; в конце концов наследник, Фердинанд, появился на свет в 1663 г.
Но будущая великая герцогиня всё ещё не хотела примириться со своей судьбой. Её отправили успокоиться в Поджо-а-Кайано, где, как она писала французской королеве, она была «лишена всех удобств и похоронена заживо в ужасном одиночестве», хотя на самом деле при ней находился многочисленный двор. Визит её бывшего поклонника принца Карла не примирил её с семейной жизнью, хотя в результате его женитьбы их любовь закончилась. Когда она обнаружила, что беременна, она пыталась вызвать выкидыш, но в конце концов в августе 1667 г. родилась дочь, Анна Мария. Маргарита Луиза настойчиво требовала, чтобы ей разрешили вернуться во Францию. Когда она отказалась спать со своим мужем, её кузен Людовик XIV, написал ей, чтобы она вела себя прилично. Козимо отправили в ряд дорогостоящих зарубежных поездок, очевидно, ошибочно полагая, что разлука делает сердца нежнее, но, по крайней мере, он и жена возобновили супружеские отношения, и 24 мая 1671 г. родился их третий ребёнок, Джан Гастоне. В конце концов великая герцогиня добилась своего, и 12 июня 1675 г. она отбыла из Тосканы во Францию навсегда.
Бурный характер их отношений, должно быть, тем более раздражал великого герцога, что главным делом своей жизни он считал обеспечение будущего династии. Хотя Козимо суждено было дожить до очень преклонного возраста, он был ипохондриком и так боялся умереть, что очень заботился об обеспечении потомства династии Медичи. Судьба, однако, показала, что он не более успешно устраивал браки своих детей, чем его отец, женив его на восхитительной Маргарите Луизе, и даже менее успешно, так как ни у кого из них не было потомства. Наследник Козимо, великий герцог Фердинандо, был женат на баварской принцессе Виоланте, и не проявлял никакого энтузиазма в союзе. Не успели договориться о браке, как Фердинандо отправился в Венецию в поисках более удачных знакомств с мужчинами и женщинами. Зная слабость своего сына, Козимо предостерегал его в письме:
«Я хочу, чтобы ты пообещал воздерживаться от развлечений, которые губительны для души… и чтобы ты избегал неприлично близких отношений с музыкантами, комедиантами (людьми, известными своим бесстыдством), и не принимал участия в разговорах, а ещё меньше в развлечениях, с куртизанками».
Но то, от чего Фердинандо, талантливый эстет, получал удовольствие, были именно «неприлично близкие отношения с музыкантами». Его наставник уже изгнал из дома певца Петрилло, который поразил воображение Фердинандо, но в Венеции он нашёл ему замену, кастрата, Чеканно де Кастриса, который оказал на него большое влияние. Если бы Фердинандо ограничивался кастратами, это было бы не так вредно для его здоровья, так как во время следующего визита в Венецию он подхватил сифилис и вернулся в компании певички «Ватной куколки». Задолго до того, как он умер, ибо отец пережил его на десять лет, он потерял память, его умственные и физические способности расстроились, он стал жертвой общего паралича безумных, вызываемого сифилисом. Кто-то сказал, что он стал «мучеником Венеры».
Так как вскоре стало очевидно, что потомства у Фердинанда не будет, великий герцог переключил внимание на брак своей дочери Анны Марии. Попытки отца заполучить ей мужа не увенчались успехом в Испании, Португалии, Савойе и с дофином, в последнем случае частично из-за интриг её матери, великой герцогини; но наконец по совету императора она нашла в каком-то смысле подходящего мужа в лице курфюрста Пфальцского Иоганна Вильгельма, вдовца, три сестры которого были императрицами, королева Испании и королева Португалии, а три брата епископами. Но жизнь курфюрста не была незапятнанной. У его жены случился выкидыш, который объяснили «расстройством, полученным ею от мужа, ибо хотя он её очень уважал и любил, но благодаря широте его горячего сердца часто отвлекался на другие увлечения». Курфюрстина поехала в Ахен принимать ванны, «чтобы способствовать плодовитости», но напрасно.
Итак, надеждой семьи остался младший сын герцога, Джан Гастоне. В детстве он страдал от недостатка внимания, так как его мать, которой до него не было дела, уехала из страны, когда ему было четыре года. Он в некоторых отношениях был любознательным юношей, который стремился к одиночеству. Лами писал о нём: «весьма учёный принц… последователь философии Лейбница и не из тех, кто позволит священникам и монахам водить себя за нос». Но он, очевидно, страдал какой-то формой глубокой депрессии. Современники замечали, что он часто казался молчаливым и печальным, плакал один в своей комнате, и они размышляли, в своём ли он уме. «Мне очень удивительно слышать, — заметил иезуит отец Сеньери, — что принц Джан Гастоне теперь утратил веру во всех».
Когда Джану Гастоне исполнилось двадцать три года, отец решил, что ему пора жениться. Выбор пал на богатую вдову, Анну Марию, дочь герцога Саксен-Лауенбургского и вдову графа Пфальцского. Она была грубая, неприятная женщина, несколько неряшливая, огромная и грозная на вид, с «суровым, некрасивым лицом и массивными, нескладными конечностями». Она явно интересовалась только охотой, лошадьми и своими богемскими поместьями. У неё не было особого желания снова выходить замуж, и она не намерена была жить во Флоренции. И фактически условием брака было, что она, и предположительно её муж, будут жить в Богемии.
Джан Гастоне от семейной жизни пришёл в ужас. Он тут же невзлюбил богемскую деревню, запах лошадей и не стремился к возможным сношениям со своей ужасной женой. За утешением он обратился к близкому другу, своему лакею Гвилиано Дами, человеку низкого происхождения, который стал его любовником, а позже сводником, и который оказывал на него огромное влияние всю его жизнь. К 1698 г. он больше не мог выносить обстановки в доме своей жены и поехал в Париж, якобы повидаться с матерью, которая приняла его холодно.
Он возвратился в замок своей жены в Рейхштадт и пытался уговорить её провести зиму в Праге. Когда она отказалась, он уехал без неё в сопровождении Дами. Здесь, по крайней мере на время, он мог предать забвению мрачную обстановку Рейхштадта и строгости великокняжеского двора в круговороте чувственных наслаждений. По свидетельству современника:
«В Праге были сотни юных студентов, безусых богемцев и немцев, у которых до такой степени не было денег, что они ходили от двери до двери, собирая милостыню. В этом обширном заповеднике Гвилиано (Дами) всегда мог выловить любовную дичь и преподнести принцу новые лакомые кусочки. В Праге также не было недостатка во дворцах, принадлежащих знатным и богатым вельможам. В этих хозяйствах было множество слуг, работников и лакеев низкого происхождения и скромного положения. Гвилиано склонял его высочество искать развлечения среди них… и выбирать любые экземпляры, которые соответствовали его своеобразному вкусу».
Так Джан Гастоне приобрёл склонность к забавам с «отбросами общества», которую он сохранил до конца своих дней.
Новости об этом времяпрепровождении, а также о крупных проигрышах, в результате чего он оказался в долгах, которых он не мог себе позволить, так как отец держал его на скудном пайке, дошли до слуха его жены; она сообщила о них его сестре, курфюрстине Пфальцской. Та передала великому герцогу, но Джан Гастоне не менял своего образа жизни, бродил по улицам ночами и пил в самых захудалых кабаках. Благодаря таким фривольностям он мог временно вычеркнуть из памяти свою отвратительную жену и своего ханжу-отца, но алкоголизм и половые излишества были зловещими лекарствами от острой депрессии.
Время от времени Джан Гастоне возвращался в Рейхштадт с самыми лучшими намерениями. 18 апреля 1699 г. он писал Козимо:
«Вашему высочеству следует знать, что через девятнадцать дней после обмена обручальными кольцами, если не раньше, моя принцесса стала демонстрировать мне примеры своего своенравия, кислых физиономий и резких выражений, потому что я не хотел уезжать из Дюссельдорфа, и сейчас и тогда произнося отвратительные вещи обо мне и моём народе… Она настолько высокомерна и тщеславна, что топчет всех и распоряжается всеми, считая, что она величайшая госпожа во всём мире, потому что она владеет этими клочками в Богемии… для меня было бы невозможно оставаться с ней даже в самом райском уголке мира… Её слуги говорят, что она всегда была такой, и вдовой и замужем за моим предшественником (графом Пфальцским), который отправился на тот свет из-за чрезмерного пьянства — так он пытался рассеять ярость и отвращение, которые он из-за неё терпел».
Джан Гастоне остро осознавал всю иронию своего положения. Его мать оставила отца, потому что она находила его невыносимым. Её сын оставил жену, потому что находил невыносимой её.
Когда император уговаривал Джана Гастоне «попытаться преодолеть своё величайшее отвращение к жизни со своей женой в этом ужасном уединении», Джан Гастоне заявил ему, что он пытался жить в согласии со своей женой, но это ему не удавалось. Рейхштадт был достаточно плох летом, зимой он был невыносим.
В октябре 1703 г. он перебрался в Гамбург, где оставался до февраля, находя там плотские развлечения, недоступные в Рейхштадте. Но когда он переехал в Прагу, то казался совершенно подавленным, инертным и замкнутым и большей частью просто смотрел в окно. Он даже не подписывал письма, так как у него появилось острое отвращение к своему письменному столу. Казалось, что только хорошенькие молодые мордашки и «отбросы общества» могли отвлечь его от глубокой тоски. К 1705 г. он навсегда вернулся во Флоренцию. Казалось совершенно невозможным, чтобы жена приехала к нему туда, или чтобы у него появились дети, или у его брата и его сестры.
В попытке обеспечить преемственность великий герцог Козимо, как утопающий, схватился за соломинку, если можно употребить такое неподходящее слово для того, чтобы описать его тучного брата, кардинала Франческо Мариа. Кардинал был полной противоположностью своему брату: жизнелюбивый, снисходительный к недостаткам, любящий мирские радости и прожорливый. Действительно, наблюдалось любопытное смещение ролей; нетерпимый великий герцог больше подходил к церковной, а кардинал к светской карьере. Он скопил огромные богатства от своих многочисленных церковных владений, но к религиозным обязанностям относился легко. До сих пор он не проявлял интереса к женскому обществу, на самом деле скорее наоборот; но брат уговорил его испросить освобождения от церковного сана, чтобы он мог жениться и стать отцом наследника великого герцогства. Ему разрешили сохранить многочисленные источники его доходов. Так или иначе, женитьба была одним из тех немногих удовольствий, с которыми он был незнаком.
Предполагаемой невестой была Элеонора, дочь Винченцо Гонзага, герцога Гуасталлы. «Позаботься о своём здоровье, — писала ему курфюрстина, — чтобы ты мог утешить нас всех маленьким принцем». Это был дельный совет, так как хотя кардиналу было всего сорок восемь лет, он являл собой гору мяса, с громадным животом, с оспинами, страдающую от подагры и катара. Элеонора нашла его таким отвратительным, что не сразу смогла согласиться на его объятия. Она всеми силами старалась избавиться от него; к счастью, перегруженная конституция сделала своё дело, и кардинал умер 3 февраля 1711 г., а с его смертью погибла последняя надежда Козимо на прямого мужского наследника. Всё, что он мог сделать — это отыграться на «лакеях, пажах и грумах своего брата, о большинстве из которых он заботился в их молодости за их пригожесть, а потом они вырастали в поместьях упомянутого принца… и служили ему сводниками и доставляли ему других красивых мальчиков и компаньонов… Ему очень нравилось смотреть, как другие действуют… Некоторых выгнали из поместья, другие отправились на галеры». Что касается его вдовы Элеоноры, то она нашла объятия своих французских лакеев более соблазнительными, чем объятия её пожилого мужа, и родила двух незаконных сыновей, Миньона и Франческо. Хорас Манн писал своему другу Хорасу Уолполу:
«Как простить ей, что все мольбы, и все красивые молодые парни, которые попадались ей на каждом шагу при жизни кардинала, не могли заставить её сослужить Тоскане такую службу (через рождение наследника), а после его смерти она трахается со своими лакеями, чтобы увеличить число невинных (детей, которых отправляли в больницу для сирот)».
Остался один Джан Гастоне, ибо Фердинандо умер через два года. Козимо сделал отчаянную попытку добиться, чтобы если Джан Гастоне умрёт раньше него, то его сестра Анна Мария унаследовала великое герцогство, но император вмешался и сказал, что так как владения Козимо были имперскими феодами, великий герцог не мог таким образом распоряжаться наследством. Тревожило то, что здоровье Джана Гастоне давало основания для опасений. «Не похоже, чтобы он был способен к каким-нибудь великим свершениям, — писал французский гость Гюйе де Мервиль в 1719 г. — Он никогда не вскрывает писем, не желая отвечать на них. При такой жизни он мог бы дотянуть до весьма преклонного возраста, если бы не астма, и если бы он не усугублял свои немощи большим количеством сильнодействующих сердечных средств, которые он поглощает. Есть даже люди, которые считают, что он умрёт раньше своего отца».
Образ жизни Джана Гастоне теперь принял любопытную и необычную форму. «Он добрый принц, — заметил Монтескьё, который посетил Флоренцию в декабре 1728 г., — наделённый умом, но очень ленивый, довольно приверженный бутылке». Но Монтескьё похвалил его добрый и сострадательный нрав, даже если, как он думал, его леность и извращённые вкусы могут превратить его в лёгкую добычу неразборчивых авантюристов. «В остальном, лучший из людей», — пришёл он к выводу. «Мир движется сам по себе» — так по-видимому, резюмируется его взгляд на жизнь.
Наконец, в канун Праздника всех святых в 1723 г. старый великий герцог умер, и Джан Гастоне, уже пятидесяти двух лет и во многих отношениях преждевременно состарившийся, стал его преемником. Когда-то стройный, приятный юноша, теперь он был растолстевшим, с тяжёлым подбородком. Он мало интересовался делами управления, но хорошо подбирал министров, так что флорентийское правительство в некоторых отношениях было лучше и определённо более либеральным, чем во времена его отца. Тяжёлая рука церкви в защите устоявшихся норм морали и нравственности несколько ослабела. Там, где Козимо не скупился в расходах на религиозные цели, Джан Гастоне экономил. Совет четырёх был упразднён и восстановлен старый секретариат. Драконовы законы его отца были отменены, настолько, что иезуиты теперь критиковали Пизанский университет как центр еретических учений. Галилею был возвращён почёт, и было разрешено опубликовать произведения Гассенди. Налоговое бремя было несколько облегчено. Восшествие Джана Гастоне ознаменовало более просвещённую и либеральную систему управления, но недостатки, от которых страдала Флоренция, нельзя было уничтожить росчерком пера. Практически великий герцог вёл себя как помещик, живущий вдали от своего имения. В государстве, как заметил Монтескьё в 1728 г., «власть довольно мягкая. Никто ничего не знает и не чувствует относительно принца и двора. В этом отношении эта маленькая страна имеет дух большой страны».
Великий герцог не мог изменить своего беспорядочного образа жизни. Летом он жил на первом этаже дворца Питти; ослик, который привозил ему персики, впускался к нему в спальню. Зимой его переносили наверх. Барон де Польниц, посетивший Флоренцию в 1731 г., нанёс визит его сестре курфюрстине — «живёт очень уединённо… постоянно молится», и был очень удивлён, узнав, что великий герцог хочет его видеть, ибо ему говорили, что «получить аудиенцию очень трудно».
«Я нашёл, — писал он в ноябре 1731 г., — великого герцога сидящим прямо в постели в компании нескольких комнатных собачек, на нём ничего не было кроме сорочки без воротника и длинного шейного платка из грубого муслина вокруг шеи; колпак его был сильно испачкан табаком, и воистину он не выглядел ни аккуратным, ни великим. У его постели стоял столик в форме стойки, на котором находились серебряные вёдра с бутылками напитков и стаканы».
«Великий герцог, — писал он, — удобно разлёгся в своей постели, не потому, что он болен, а потому, что ему так хочется. Он уже двадцать два месяца не выходит из своего дворца и больше семи не одевался… он обедает в пять часов вечера, а ужинает в два часа ночи. Он всегда кушает один, обычно в постели, и проводит два или три часа, болтая с Джоаннино и несколькими молодыми людьми, которые называются „руспанти“».
Практически великий герцог смотрел на мир сквозь более или менее постоянный туман опьянения. «К настоящему времени он привык пить чрезвычайно много: и не только крепкое вино и огненные напитки, но и „розолио“, подогретый густой напиток, изготовленный из изюма и других ингредиентов самого крепкого свойства, смешанных с сахаром и пряностями. Он затягивал выпивку допоздна и после обеда всегда доходил до животного состояния». Известно, что он упал с лошади, когда был пьян. Когда он пошёл на приём, который давала его невестка принцесса Виоланта, он так напился, что вёл непристойные разговоры и рвал, и его затолкали в его карету.
Центром его существования стала спальня. Гвилиано Дами, ставший придворным камергером, с помощью двух лакеев, Гаэтано и Франческо Нардини, действовали как сводники и поставщики для удовольствий великого герцога, отхватывая приличные суммы за свои услуги. Они выискивали юношей и мальчиков, «невоспитанных и грязных», но «наделённых соблазнительным взором и внешностью Адониса». Это и были «руспанти», их так называли, потому что за свои услуги они получали плату, от одного до пяти «руспи» (по-русски это цехин), которые им выплачивались по вторникам и субботам. Это были, говорит де Польниц, «пенсионеры великого герцога… их единственной обязанностью было приходить к великому герцогу, когда бы он за ними не посылал, к обеду или к ужину… Они не носили ливреи… и их узнавали по их локонам, всегда сильно завитым и напудренным, что являло странный контраст по сравнению с самим великим герцогом».
Космополитические «руспанти», которых было около 370, некоторые даже благородного происхождения, некоторые женщины, принимали участие в непристойных развлечениях по прихоти принца. Они должны были быть красивыми, молодыми, очень сексуально привлекательными и достаточно невосприимчивыми к хорошему вкусу и к запахам, чтобы вынести сомнительные объятия своего хозяина. В привычках Джана Гастоне было приглашать избранного юношу к себе в спальню, проверять ему зубы: ровные ли и белые, а затем накачивать его напитками, особенно розолио, а затем хватать его за половые органы и ощупывать их, хорошей ли они формы и могут ли быстро возбудиться, Если ему казалось, что они недостаточно проникают, он кричал: «Жми, малыш, жми!». После этого он говорил ему «вы» и в конце концов снисходил до фамильярного «ты», прижимая его, лаская, целуя и получая поцелуи в ответ, смешивая вино и табачный дым. Он жаловал своим «отбросам общества» благородные титулы на данный момент и называл их государственными министрами, пока они были приглашены, а им предлагалось и от них ожидалось, что они будут называть его любой позорной кличкой, какую они только могут придумать, и даже колотить его при желании.
В то время как перед Дами и его компаньонами стояла задача прочёсывать бедные районы города в поисках подходящих кандидатов, страсть великого герцога иногда воспламенялась просто при взгляде на привлекательного юношу или во дворце, или во время своих редких выходов в город. Например, узнав, что у молодого цирюльника есть невеста, он предложил ему привести её во дворец, поразвлекался с тем и с другой, а затем заставил их завершить брачные отношения, пока он смотрел. Бывали случаи, когда он получал то, на что не рассчитывал. Его так привлекала физическая сила богемского вожака медведя Михаила Гензхемица и юношеское очарование двух его помощников, что они были завербованы в «руспанти». Однажды в полночь великого герцога охватило внезапное желание получить вожака медведя. Когда Гензхемица нашли, он уже был сильно пьян. Его доставили обратно во дворец и они продолжали пить с великим герцогом, пока Джан Гастоне не вырвал ему в лицо и грудь. Тот пришёл в такую ярость, что колотил Джана Гастоне кулаками, пока на крики великого герцога не подоспела помощь. Но Джан Гастоне редко затаивал зло на обидчиков. Казалось, что на самом деле он наслаждается и рвотой, и похабными историями, которыми его угощали. Временами у него в спальне находились десяток и более «руспанти» занятых сексуальной оргией.
В 1730 г. великий герцог растянул лодыжку и слёг в постель, с которой он не поднимался следующие семь лет за очень редкими исключениями. Однажды он отважился в два часа ночи выдвинуться в общественные бани Сан-Сперандино и провёл там пять часов.
Преподобный Марк Ноубл, историк Флоренции конца XVIII в., писал:
«Невозможно много рассуждать о личной истории принца, который, из чистой лености и неряшливости, никогда не одевался за последние тридцать лет своей жизни и никогда не вставал с постели за последние восемь. Внешний вид его был чрезвычайно причудлив; он принимал тех, кому он с неудовольствием разрешал к себе приблизиться, в сорочке, без воротника, в значительной длины шейном платке, сделанном из муслина отнюдь не высшего качества, и в ночном колпаке, и всё это было перепачкано нюхательным табаком».
Покойный граф Сэндвич рассказывал тому же автору, что эта «грязная» привычка зашла так далеко в последние годы его жизни, что для того, чтобы перебить неприятные запахи от его постели, комнату целиком, когда его светлость был представляем его королевскому высочеству, покрыли только что срезанными розами. Но аромат роз, свежих или каких-то иных, вряд ли мог скрыть вонь в спальне герцога, так как в постели часто заводились паразиты, простыни были грязные, и в комнате разило табаком, выпивкой и экскрементами. Великий герцог совершенно не обращал внимания на свою внешность; ногти на руках и ногах ему не стригли. С большим животом и двойным подбородком, он тем не менее носил большой грязный завитой парик, и один раз видели, как он вытирал им рвотную массу со своего лица.
Насколько можно верить этим рассказам, вышедшим из-под пера враждебного критика, который явно держал в уме то, что писал римский историк Светоний о Тиберии, не вполне ясно. Если в некоторых отношениях они кажутся чересчур похожими на современную бульварную прессу, общая картина несёт на себе печать точности. Когда принц де Краон, о сыне которого, между прочим, говорили, что он причастен к «руспантизму», нанёс великому герцогу визит в январе 1737 г. как представитель его окончательного наследника Франциска Лотарингского, он нашёл Джана Гастоне в «состоянии, достойном жалости; он не мог встать с постели, у него была длинная борода, простыни и бельё очень грязные, без воротника; зрение у него тусклое и ослабленное, голос тихий, речь затруднённая, и в общем вид человека, который не проживёт и месяца».
Джан Гастоне стал недобросовестным правителем, алкоголиком с явно извращёнными вкусами. И всё же в юности он подавал надежды, а по характеру был гуманным и добрым. Он наверняка стал жертвой расстройства личности, которое по роковому стечению обстоятельств — воспитание без любви, далёкий и строгий отец, неудачный брак — превратило его в развалину. Его отец был меланхоликом. Кажется крайне вероятным, что и сам Джан Гастоне страдал от депрессивной болезни. Когда он вернулся во Флоренцию в 1705 г., он жил полуотшельником, иногда целыми ночами просто глядел на луну. Странные развлечения, которым он предавался, были реакцией на депрессию, убивавшую в нём интерес к делам государственным, потакание своим прихотям облегчало бесконечную тоску и горечь существования.
А как же будущее Флоренции? Не имея прямых наследников, Джан Гастоне казался таким же озабоченным, как и его отец, обеспечением будущей преемственности в великом герцогстве. За десять лет до того, как он стал великим герцогом, окончание войны за Испанское наследство дестабилизировало Италию и снова сделало её добычей великих держав. Как и его отец, Джан Гастоне старался сохранить нейтралитет Флоренции, к великому негодованию заинтересованных сторон, особенно Испании и Австрии. «К физической глупости великого герцога, — в изнеможении писал испанский посол отец Асканио Пармскому герцогу 2 января 1725 г., — которая наблюдается в различных случаях на протяжении долгого периода, когда он как ненормальный лежит без движения, добавляется его политическая глупость, на которой его высочество настаивает не менее, чем его правительство, не принимая во внимание ничего, что происходит в мире по отношению к его двору, думая, что лучшая политика — это избегать любых обязательств и воспользоваться течением времени».
В 1731 г. представители великих держав собрались в Вене и договорились, что в случае смерти Джана Гастоне герцогство должно перейти к Дону Карлосу, Пармскому герцогу, сыну короля Испании Филиппа V и Елизаветы Фарнезе. Так как Дон Карлос был хотя бы наполовину итальянцем, а также молодым и белокурым, он произвёл на Джана Гастоне благоприятное впечатление. «Он сказал несколько дней тому назад, — писал де Польниц, — после того как подписал своё завещание, объявляя Дона Карлоса Испанского своим преемником, что он только что получил сына и наследника росчерком пера, а за тридцать четыре года брака не смог этого сделать». Но ему не понравилась привычка Дона стрелять стрелами из лука в птиц, изображённых на великолепных гобеленах, висящих у него в комнате во дворце Питти, почти всегда попадая в цель. Джан Гастоне приказал убрать гобелены и заменить их занавесками из дамаста с золотой бахромой, объяснив, что «так как погода становится теплее, он боится, что здоровье принца может пострадать от жары при зимнем убранстве».
Но планы Дона Карлоса не осуществились, так как в результате войны за Польское наследство и последующей игры на королевских музыкальных креслах Дон Карлос стал королём Обеих Сицилий и в качестве наследника на великое герцогство был заменён Франциском Стефаном, тогда герцогом Лотарингским, мужем Марии Терезии, наследницы Габсбургской империи, и сам он впоследствии стал императором Франциском I. Под тяжестью давления, оказываемого великими державами, Джан Гастоне оказался бессильным. Флорентийцам даже не разрешили торжественно отметить праздничные дни в ознаменование великих дней правления Медичи. Иностранные войска оккупировали его город. Но ему всё-таки удалось заставить Франциска Стефана пообещать, что Флоренция никогда не будет включена в Австрийскую империю. Наверное, это было самым главным делом его жизни, так как оно обеспечило будущую независимость Флоренции. Это также было одним из его последних дел. К июню 1737 г. он был серьёзно болен, мучаясь от большого камня в мочевом пузыре, и 14 июля состоялись его похороны, с великолепной пышностью в соборе. Если герцог и был нерадивым правителем, смерть восстановила его репутацию у флорентийцев, его препроводили в его гробницу со всей торжественностью, на которую был способен город пышных зрелищ:
- Увы, я слышал эти горестные вести:
- Угасли Медичи, а с ними век наш вместе,
- Теперь, Флоренция, твой жребий предрешён.
Его сестра, курфюрстина Анна Мария, прожила во дворце Питти ещё шесть лет и умерла 18 февраля 1743 г. «Всё наше веселье закончилось, карнавал разошёлся, — писал Хорас Манн своему другу Хорасу Уолполу, — курфюрстина умерла около часа тому назад… Простые люди убеждены, что её унёс ураган; очень сильный ветер начался утром и продолжался около двух часов, а теперь светит яркое солнце. Вот доказательство; но есть и более веское: то же самое случилось, когда умирал Джан Гастоне». По своему завещанию она оставила всё личное имущество и собственность Медичи городу Флоренции «навечно». Сделав так, курфюрстина искупила забавы своего брата, и можно сказать, что семейство Медичи отплатило флорентийцам за ту преданность, с которой они относились к этой семье триста с лишним лет.
XII. Безумный Георг
В долгом шестидесятилетнем царствовании Георга III были периоды, которые длились сравнительно недолго, когда его психическое равновесие по всей видимости нарушалось: от середины октября 1788 г. до марта 1789, с февраля по май 1801, с февраля по июнь 1804 и в октябре 1810; после этого он погрузился в состояние очевидной старческой деменции, наступление которой, возможно, было вызвано его предыдущим психическим расстройством. Точная природа его болезни, её причина и характер приводили в замешательство наблюдателей того времени: один сказал, что это было последствие «преобладания некой жёлчной раздражительности»; другой — это была форма бреда или просто результат «особенности конституции». Некоторые его действия дают основания предполагать, что Георг III болел шизофренией или как Генрих VI в Англии или Филипп V в Испании, маниакально-депрессивным психозом, но симптомы его заболевания не очень убедительно укладываются и в тот, и в другой диагноз. Какова бы ни была природа его недомогания, не может быть сомнений, что в периоды обострения он вёл себя как умалишённый. Во время серьёзного приступа в 1788 г. его врачи согласились, что он страдал от какой-то формы временного помешательства, и кое-кто боялся, что он никогда не поправится. «Rex noster insanit» («Наш король сошёл с ума») — таков был решительный приговор одного из его личных врачей Ричарда Уоррена.
Предыдущие случаи королевского безумия показали, что психическая болезнь может быть последствием органической болезни. Примерно двадцать лет назад два выдающихся историка медицины Айда Макалпин и Ричард Хантер пришли к выводу, что Георг III никогда не был сумасшедшим в клиническом смысле, но был жертвой наследственного нарушения обмена веществ, пятнистой порфирии, очень многие внешние проявления которой характерны для шизофрении или маниакально-депрессивного психоза. Они утверждали, что это та болезнь, которой в большей или меньшей степени болели его предки и которая позже поразила некоторых из его близких родственников и последних потомков. У короля психический сдвиг был следствием телесной болезни, а не проявлением чистого помешательства. Их обоснованное и блестящее толкование нельзя просто отвергнуть, даже при том, что доказательства могут показаться недостаточно убедительными, чтобы считать их диагноз окончательным.
Даже если Георг III был изначально нервозного склада, мало что показывало, что он был неврастеником в первые двадцать восемь лет правления. Первые годы его жизни не выявили какой-нибудь основополагающей физической или психической слабости, хотя уже в 1758 г., за два года до того, как он стал королём, лорд Уолдгрейв отметил его нервозный склад: у него, сказал он, «несчастливый характер… Всякий раз, когда он недоволен… он становится угрюмым и молчаливым, и удаляется в свой кабинет не для того, чтобы собраться с мыслями при помощи занятий или размышлений, но для того, чтобы получить меланхолическое удовольствие от своего плохого настроения. Даже когда приступ проходит, неблагоприятные симптомы часто повторяются».
После того как он стал королём, у него случались короткие периоды недомогания; некоторые историки позже необоснованно сочли их предвестниками последующего невроза. В 1762 г. Хорас Уолпол сообщал своему другу Хорасу Манну, что «король недавно перенёс одну из этих последних повсеместно распространённых простуд, которые, однако, редко бывали опасными; у него был страшный кашель и теснота в груди, которую он скрывал, так же как и я… Слава Богу, он здоров, и мы избежали очень крупной сумятицы как никогда раньше… У нас нет никакого хотя бы на крайний случай закона о регентстве».
Через три года, в 1765 г., у него были всё те же опасения: главными симптомами были жуткий кашель, температура, частый пульс, хрипота, усталость, бессонница и мучительные боли в груди. Хорас Уолпол опасался, не чахотка ли у него, и осмелился заметить лорду Холленду, что он, «вряд ли проживёт больше года». «Король, — писал Уолпол Хорасу Манну 26 марта 1765 г., — крайне болен, у него лихорадка, страшный кашель и скопление жидкости в груди. Ему пускали кровь четыре раза; он поправился достаточно, чтобы выйти на воздух, но снова простудился, и в прошлую пятницу ему поставили банки».
Прошло двадцать три года, прежде чем его снова сразила серьёзная болезнь, начало которой, однако, не отличалось от того недомогания, которое он перенёс в 1762 и в 1765 гг. — сильная простуда, высокая температура и хрипота. В промежутке он проявил себя одним из самых добросовестных британских монархов. Он попадал в целый ряд критических положений, политических и личных, которые могли бы ослабить и более сильный организм, чем у него. Было две крупные войны: Семилетняя война с Францией и Американская война за независимость, первая победная, вторая катастрофическая. Отношения с парламентом часто складывались трудно, и проблема найти надёжного и знающего первого министра была решена только с назначением Уильяма Питта Младшего в 1784 г. В лице королевы Шарлотты он нашёл любящую и заботливую жену, но его сыновья, особенно «Принни», Георг, принц Уэльский, доставляли ему много беспокойства по причине своего мотовства и расточительности. Хотя в 1788 г. не произошло ничего конкретного, в политическом или личном плане, что вызвало бы непропорциональный стресс; но накопились проблемы, с которыми он неоднократно сталкивался в прошлом, и возможно, со временем они давали о себе знать.
Он заболел в начале июня 1788 г. «лихорадкой с разлитием жёлчи, сопровождаемой жестокими спазмами в желудке и кишечнике», но как будто поправился и поехал в Четленхем, который славился своими минеральными водами, чтобы восстановить силы. Казалось, король в хорошем настроении. Он наслаждался в местном театре игрой миссис Джордан в роли Роксоланы в «Султане» и ходил на фестиваль трёх хоров в Вустере. «Никогда школьники так не радовались каникулам, как мы в нашей небольшой поездке», — сказала королева принцу Августу. Но через месяц после того, как король в августе вернулся в Виндзор, появились зловещие признаки крупного срыва в его здоровье. Он пожаловался своему врачу, доктору Джорджу Бейкеру, «на очень сильную боль под ложечкой, отдающую в спину и в бока и затрудняющую дыхание», а также на судороги в ногах и лёгкую сыпь на руках. Эти симптомы как будто исчезли к тому времени, когда доктор Бейкер его внимательно осмотрел, и он приписал эти неприятности тому, что король замёрз в мокрых чулках.
Но улучшение было лишь временным и предшествовало серьёзной и загадочной болезни, проявлявшейся и физически, и психически. У короля, заметил Бейкер, «пожелтели глаза и жёлчная моча» (то есть чересчур тёмного цвета) и боли в животе. Ещё более тревожными были намёки на приближающийся нервный срыв. Король находил, что ему всё труднее сосредоточится, и не мог сдержать внезапных вспышек гнева. Он был совершенно не похож на себя. «Днём 22 октября 1788 г. — сообщал Бейкер, — его величество принял меня в весьма необычной манере, какой я никак не ожидал. Выражение его глаз, тон его голоса, каждый жест и всё поведение в целом говорили о человеке, одержимом самым яростным приступом гнева».
Когда Фанни Берни, одна из фрейлин королевы, встретила его утром в следующую субботу (25 октября), она заметила: «Он разговаривал в такой необычной манере, что объяснить её могла только высокая температура: быстрота, хриплость голоса, многословие, серьёзность — горячность — всё это встревожило меня несказанно». «Он — воплощённое возбуждение, воплощённое смятение, и в то же время доброта и благожелательность». Всегда разговорчивый, он теперь мучился от «нескончаемой болтовни», так что продолжал болтать в очень быстром темпе несколько часов беспрерывно; «со вчерашнего вечера, — писал лорд Шеффилд, — он говорил шестнадцать часов подряд»; чтобы отвлечь его от этого, они решились прибегнуть к письму, и наконец он начал сочинять заметки к «Дон-Кихоту». Неудивительно, что его голос стал очень хриплым. Он спал очень плохо, иногда совсем не спал, однажды он бодрствовал целых семьдесят два часа.
Неумолимо приближалось то, что впоследствии назвали бредом. Хотя время от времени королю выпадал удачный день, в ходе которого ему удавалось выполнить кое-что из накопившихся дел, ухудшение его здоровья встревожило и семью, и министров. Он испытывал, как выразился сэр Джордж Бейкер, «полное отчуждение разума», что делало всё более и более невозможным выполнение им своих обязанностей. «Его пульс всё слабее и слабее, — докладывал гофмейстер принца Уэльского капитан Пейн, — и врачи говорят, что долго так жить нельзя». В конце ноября врачи решили, что желательно было бы ему переехать из Виндзора, который он любил, в Кью, где ему не нравилось, хотя преимуществами Кью было, его более уединённое положение в сравнении с Виндзором, и он ближе к Вестминстеру, резиденции правительства. Король неохотно поехал туда, он считал это место фактическим заключением в неудобном и насквозь холодном доме.
Однако он входил в мир фантазии, становясь добычей галлюцинаций, хотя часто остро сознавал, в какое мучительное положение был поставлен. «Он воображает, что Лондон затонул, и приказывает отправить туда свою яхту», — рассказывал лорд Шеффилд мистеру Идену. Он осыпал высокими почестями пажей и слуг и сочинял немыслимые письма иностранным державам по воображаемым поводам. Его конюший, Гревилл, однажды заметил, что король «надел наволочку себе на голову, а подушка лежала с ним в постели, и он называл её принцем Октавием, который, — он говорил, — родится в этот день». Иногда он употреблял неприличные слова, что было для него нехарактерно. Он становился таким возбудимым, что иногда в ярости бил людей, оказавшихся рядом.
У него появилась также навязчивая идея относительно графини Пембрук, ранее леди Элизабет Спенсер, добропорядочной фрейлины королевы, муж которой после шести лет семейной жизни, переодевшись моряком, бежал на пакетботе с мисс Китти Хантер, дочерью лорда адмиралтейства, «и начиная с этого времени имел любовные связи с несколькими дамами менее знатными». Король вообразил, что он женат на леди Пембрук. Он даже сказал своей жене, разговаривая по-немецки (что было ещё одним отклонением, характерным для его состояния), что она ему на самом деле не нравится, что он предпочитает другую, что она сошла с ума и сумасшедшая уже тридцать лет. Он решил «по причинам, которые он затем неприлично объяснил», что не будет допускать её к себе в постель до 1793 г. Когда королева послала ему в подарок гроздь тепличного винограда 11 января 1789 г., Георг спросил, что за королева его послала. «Королева Эсфирь?» — «Нет, — ответили ему, — ваша жена». Когда, через два дня, он играл в пикет с одним из своих врачей, то написал на карте:
- Элиза (леди Пембрук), милая, люби монарха своего,
- Скорей умрёт он, чем тебя покинет.
Он сказал, что она была королевой его сердца, и когда к нему приходила дама червей, он её целовал. Он сказал доктору Уиллису, что придумал новую доктрину Троицы, в которой участниками были Бог, доктор Уиллис и Элиза. Он попросил Гревилла принести ему из королевской библиотеки «Философию» Пейли, в которой, как он думал, будет написано, что хотя «У мужчины может быть только одна жена, природа допускает больше». Когда он кормил собаку королевы Бадину, то сказал, что любит её, потому что она больше привязана к нему, чем к королеве, которую он на самом деле никогда не любил. «Какую бы лихорадку ни перенёс его величество, — писал Уиндем 26 ноября 1788 г., — она была только симптоматической, а вовсе не причиной его расстройства, которое есть чистое и исконное безумие. Признаки его нарастали медленно и на протяжении долгого периода».
Врачи его понятия не имели, как лучше лечить болезнь короля. Современники понимали, что психическое нездоровье может быть или органического происхождения, результатом болезни мозга, или психологического, следствием темперамента, перенапряжения или физических факторов, или может быть вызвано сочетанием того и другого. «Безумие относительно своей причины разделяется на две разновидности, — писал Уильям Бейти в своём „Трактате о медицине“, — а именно первичное или вторичное… Первое вызывается исключительно внутренним расстройством нервной ткани; второе… благодаря той же причине… расстраивается ab extra (извне)». Первое по своей природе считалось неизлечимым помешательством; второе, хотя и характеризовалось умственным расстройством и бредом, могло быть вылечено.
Положение врачей Георга, что самоочевидно, было крайне трудным. Этикет мешал им проводить систематическое и непосредственное личное наблюдение над больным. Их заключения были сугубо традиционными, как и показывает отчёт лорда Гренвилла о диагнозе 20 ноября 1788 г.:
«Причина, которой они все согласны объяснить её, — это сила жидкости, которая начала проявляться в ногах, когда неосмотрительность короля вытеснила её оттуда в живот; и лекарства, которые они вынуждены были тогда применить для спасения его жизни, вытеснили её в мозг… Врачи теперь решаются… снова спустить её в ноги, что, как показывает природа, и первоначально было лучшим способом от неё избавиться».
Так как было похоже, что они не понимают, как лучше лечить своего августейшего пациента, поскольку болезнь, по-видимому, затронула его разум, с некоторой неохотой врачи согласились привлечь эксперта того времени по лечению безумия, доктора Френсиса Уиллиса, которому должны были помогать его сыновья. Уиллис учился в Оксфорде, сначала в колледже Линкольн, а потом Брейзноуз, и в Оксфорде получил степень доктора медицины, что само по себе не давало права на практику и даже не гарантировало хорошего знания медицины. Однако Уиллис, посвящённый в духовный сан, действительно интересовался медициной, работал врачом общего профиля и терапевтом в общей больнице в Линкольне до того, как он открыл психиатрическую больницу в Грейтфорде около Стэмфорда в 1776 г. Здесь он приобрёл надёжную репутацию, «Почти все окружающие пахари, садовники, молотильщики, кровельщики и другие рабочие были одеты в чёрные шёлковые бриджи и чулки, — так посетитель описывает больницу и её обитателей, — и голова каждого из них была напудрена, завита и уложена. Это были пациенты доктора, и одежда, личная аккуратность и физическая деятельность были главными чертами этой восхитительной системы, здоровье и жизнерадостность соединялись, чтобы вылечить каждого человека, принадлежащего к этой очень ценной больнице». По рекомендации леди Харкорт, чью мать успешно вылечили, на доктора Уиллиса обратили внимание королевской семьи.
Доктор Уиллис и его сыновья были приняты не очень доброжелательно. Когда король первый раз с ним увиделся, в пятницу 5 декабря 1788 г., он его сразу же невзлюбил.
— Сэр, ваша внешность и одежда наводят на мысль о церкви, — сказал король, — вы к ней принадлежите?
— Раньше — да, — ответил Уиллис, — но в последнее время я занимаюсь в основном телом.
— Я об этом весьма сожалею, — заметил король, выказывая некоторое волнение, — вы бросили профессию, которую я всегда любил, и занялись той, которую я не переношу.
Уиллис ответил:
— Сэр, даже наш Спаситель исцелял больных.
— Да, да, — едко заметил король, — но он не брал за это 700 фунтов в год.
Без сомнения, болезнь короля принесла Уиллисам финансовую выгоду. Позже, в 1792 г., доктору Уиллису заплатили высокий гонорар в 10000 фунтов за лечение сумасшедшей португальской королевы Марии I, но это было безуспешно.
И всё же возможно, что Георг III обязан своим выздоровлением, если он вообще кому-нибудь им обязан, больше Уиллисам, чем своим личным врачам. Френсис Уиллис без сомнения был человеком, внушающим робость, с испепеляющим взглядом, который, по слухам, помогал ему справиться со своими пациентами. Он был так же твёрд в своём лечении в королевском хозяйстве, как и с пациентами в своей больнице, даже проверял письма к королю и лично вручал Георгу правительственные документы.
Без сомнения, он подверг короля строгому режиму, включая применение смирительной рубашки и специального ограничительного кресла, которое король жалобно называл своим «коронационным креслом». Временами Уиллис приказывал привязывать своего пациента к кровати. И всё же в некоторых отношениях Уиллис проявил большее понимание того, как надо лечить психических больных, чем другие его современники. Он действительно верил в дисциплину, но это была дисциплина, соединённая с сочувствием. «Когда меня первый раз позвали лечить Георга III, — признавался он позже, — я очень оскорбил королеву своим методом лечения его болезни. Как смерть не делает различий, посещая хижину бедняка и королевский дворец, так и безумие безучастно к своим подданным. По этой причине я лечу одинаково всех людей, которых мне поручают. Следовательно, когда мой милостивый государь становился буйным, я считал своим долгом подвергнуть его той же самой системе сдерживания, какую я бы применил к кому-нибудь из его садовников в Кью; грубо говоря, я надел на него смирительную рубашку». Хотя Георг относился к Уиллису недоброжелательно, он как будто поддавался лечению. «Доктор Уиллис, — замечал Гревилл, — оставался твёрдым и выговаривал ему взволнованным и решительным образом, говоря ему, что он должен сдерживать себя, а иначе он наденет на него смирительный жилет. С этими словами доктор Уиллис вышел из комнаты и вернулся, держа его в руке… король внимательно на него посмотрел и, встревоженный твёрдостью доктора, начал повиноваться. Меня сильно поразила подходящая манера и внушительный стиль авторитетных слов, которых доктор Уиллис придерживался в этом случае».
Хотя Уиллис так и не завоевал доверия короля, прежде всего он был гуманным человеком, который понимал, что безумие, в его представлении, нельзя лечить только слабительными и применением силы. Как только наметились признаки улучшения состояния, он дал королю больше свободы, позволяя ему, например, срезать ногти перочинным ножом или держать свою бритву, пока мистер Папендик его брил, хотя королевские врачи такую свободу осуждали. Они, и особенно Ричард Уоррен, смотрели пессимистически на возможность выздоровления короля, тогда как Уиллисы надеялись, что здоровье может к нему вернуться. Когда король снова заболел в декабре 1810 г., Роберт Уиллис доложил парламентской комиссии, что природа болезни короля даёт шанс на выздоровление:
«Я считаю расстройство короля более тесно связанным с бредом… В бреду ум активно обрабатывает прошлые впечатления… Существует также значительное нарушение в общем состоянии: сильное возбуждение, недостаточный сон, непонимание окружающей обстановки. При безумии на первый взгляд нет или почти нет нарушений в общем состоянии; ум направлен на какую-то воображаемую навязчивую идею… Следовательно, если считать безумие короля и бред двумя точками, я бы расположил расстройство рассудка где-то между ними… Болезнь его величества однозначно больше походит на бред, чем на безумие».
Врачам в 1788 г. нужна была каждая кроха оптимизма, которую они только могли подобрать. Болезнь Георга обострила весьма крупный политический кризис. Так как король был неспособен взять на себя ответственность правления, вынужден был вмешаться его сын, принц Уэльский. «По мере того, как несчастному королю становилось всё хуже, — замечает Фанни Берни, — казалось, общая надежда повсюду отступала; и принц Уэльский принял управление Палатой в свои руки». Но ни принц, ни его брат, герцог Йоркский, которым помогал врач короля Ричард Уоррен, сторонник вигов, не преминули бы использовать ситуацию в своих собственных интересах. Партия вигов видела в болезни короля неожиданную возможность избавиться от Уильяма Питта и его сторонников-тори и получить контроль над правительством.
Принц Уэльский, чьё распутство и расточительность привели его к напряжённым отношениям с отцом, поддержал вигов и их лидера Чарльза Джемса Фокса. Если бы король был лишён власти на какое-то время, возможно до конца своей жизни, нужно было назначать регента, чтобы править вместо него. Вигам было ясно, что подходящим человеком для этого был Георг, принц Уэльский.
Всё, что оставалось делать Уильяму Питту и тори (кроме молитв о выздоровлении короля) — это придерживаться тактики проволочек и попытаться ограничить власть регента, если бы законопроект поступил в Палату Общин. Практически тори помогло отсутствие единства в рядах вигов. Сам принц Уэльский был непостоянным и сомнительным союзником, хотя и необходимым, так как, стань он регентом, он бы распределял повышения и покровительство. Сами виги были разделены на группировки, а Чарльз Джемс Фокс был ненадёжным лидером.
Однако в тот момент казалось, что всё идёт так, как им надо. Они были убеждены, что король не поправится. «Полное и быстрое выздоровление, — уверял лидера вигов лорд Локборо, — кажется мне за пределами всех разумных надежд». Локборо сам выдвинул предложение, которое Фокс должен был поддержать, что принц Уэльский имеет несомненное и законное право быть регентом. Но даже вигам не было вполне ясно, какие полномочия регент должен получить, тогда как тори пытались наверняка ограничить срок регентства. Вопрос стал ещё более неотложным, когда 2 января 1789 г. умер спикер Палаты Общин Корнуолл, так как назначение нового спикера должен был утвердить король или его представитель. 12 февраля законопроект о регентстве, составленный Питтом, был принят Палатой Общин; но к этому времени появились признаки окончания политического кризиса, так как здоровье короля начало медленно восстанавливаться.
Проблески света становились всё более явными. 2 февраля 1789 г. Фанни Берни гуляла в саду Кью, когда она в тревоге увидела, что к ней приближается король в сопровождении двух из своих врачей. «В каком ужасе я была, — признаётся она в своём дневнике, — когда услышала, что сам король громко и хрипло зовёт меня: „Мисс Берни! Мисс Берни!“ Боже, как я бежала! Ноги мои не чувствовали, как они касались земли». Наконец, когда доктор Уиллис умолил её остановиться, она задержалась. Когда король к ней подошёл, он очень сердечно поздоровался и разговаривал разумно. «Почему вы убегали?» — спросил он. Затем он ей сказал, что собирается назначить нескольких новых министров.
Выздоровление короля широко праздновалось по всей стране. Хотя он всё ещё очень быстро уставал, он хорошо выдержал трёхчасовую благодарственную службу в соборе Св. Павла в день Св. Георгия в 1789 г., заметив с чувством архиепископу Кентерберийскому: «Боже мой, я дважды прочитал показания врачей о моей болезни, и если я это смог выдержать, я смогу выдержать что угодно».
Служба в соборе Св. Павла произошла всего на несколько месяцев раньше штурма Бастилии в Париже, события, которое символически открыло эру революции и международной войны, которая коснулась внутренней и внешней политики всех стран. Казалось, здоровье короля с честью выдерживало нагрузки, создаваемые этими бурными событиями, и прошло двенадцать лет, прежде чем его недуг возобновился, что могло быть в большей степени вызвано неожиданной сменой кабинета в 1801 г. и предложением о внесении законопроекта об освобождении римских католиков от уголовного законодательства, относящегося к ним — закон который король счёл нарушением своей коронационной клятвы.
Старые симптомы появились снова в феврале 1801 г. — боли в животе, мышечная слабость, хрипота, учащённый пульс, потливость, бессонница и бред; снова его моча была необычайно тёмного цвета. «Сегодня ночью, — заметил король генералу Гарту, когда они вместе ехали на лошадях, — я совсем не спал, и я очень раздражён и плохо себя чувствую». И снова королевские врачи решили, что он простудился, просидев очень долго в очень холодной церкви, но вскоре появились признаки повторения события 1788 г. Он был очень эмоционально неустойчив, иногда разражаясь слезами, проявляя гнев, и постоянно беспокойно двигался. «Если он пытался сыграть в шашки, он беспрерывно, не замечая того, поворачивал доску; если на столе лежала скатерть, он её тоже поворачивал, не в состоянии удерживаться от движения руками… Так же точно его нервное состояние, казалось, заставляло его скручивать свои носовые платки… из которых в некоторые дни он использовал 40 или 50».
К ужасу короля, снова позвали Уиллисов. Георг III, наивно пожаловался Томас Уиллис, «был против нас предубеждён». Как и в 1788 г. они оптимистично расценивали шансы на выздоровление, и в сравнительно короткий период он стал спокойнее, лучше спал и разговаривал более разумно. «Он боялся, — сказал король, — что долго болел, но не знал, как долго». 14 марта 1801 г. король чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы принять Питта, а ещё через три дня председательствовал на заседании Тайного совета.
Хотя его здоровье медленно улучшалось, он всё ещё был сильно подавлен, и когда принц Уэльский увидел своего отца в первый раз за четыре недели в воскресенье 19 апреля, король «постоянно и неоднократно говорил о себе, как об умирающем, он решил уехать за границу… передать правление принцу… Он отвёл сына в комнату, где его последний раз держали взаперти, и пожаловался на то, как его лечили, словами самыми трогательными».
Предполагалось, что Уиллисы уедут в конце марта, но отчасти по просьбе дочери короля принцессы Елизаветы, которую всё ещё тревожило состояние здоровья отца, и к ярости короля, они остались. Почти буквально они «похитили» своего августейшего пациента и держали его фактически в заточении до середины мая. «Я поговорил с ним, — писал Томас Уиллис, — о его состоянии и о том, что необходимо немедленно снова перевести его под строгое наблюдение. Его величество сел и очень побледнел… и глядя на меня очень сурово, воскликнул: „Сэр, пока вы живы, я вас никогда не прощу!“».
Однако к началу июня он достаточно поправился, чтобы поехать в Уэймут для дальнейшего выздоровления. «Морские купания, — сообщал он своему другу епископу Херду из Вустера 20 октября 1801 г., — как всегда, подействовали на меня благоприятно, и по правде говоря, это было крайне необходимо, так как жестокая лихорадка, которой я переболел прошлой зимой, оставила много неприятных ощущений… Они почти совсем прошли. Я вынужден быть крайне осторожным и избегать всякого переутомления…»
Через три года, в феврале 1804 г., у него был ещё один короткий приступ, снова как будто бы вызванный простудой из-за того, что на нём была мокрая одежда. Когда премьер-министр Генри Аддингтон хотел послать за Уиллисами, герцоги Кент и Камберленд, сыновья короля, отказались впустить их на территорию, сказав, что если король их увидит, это вызовет у него «такое душевное раздражение, при котором можно ожидать гораздо худших последствий». Вместо них был призван другой «доктор для сумасшедших», Сэмюэл Симмонс, врач больницы Св. Луки для умалишённых, чтобы руководить лечением короля; но он использовал такие же методы, что и Уиллисы, и король полюбил его не больше, чем его предшественников. Этот приступ, однако, длился сравнительно недолго, и к концу марта в бюллетене было объявлено, несколько преждевременно, что «его величеству гораздо лучше, и, по нашему мнению, он скоро совершенно поправится».
На самом деле король продолжал проявлять чрезмерную раздражительность, и особенно его выводил из себя этот «ужасный врач» Симмонс. Снова виги, обвиняя Уильяма Питта и кабинет в сокрытии правды о состоянии здоровья короля, начали разговоры о регентстве. Но к концу июля 1804 г. Георг был достаточно здоров, чтобы назначить перерыв в работе парламента, и снова уехал восстанавливаться в Уэймут. Его врач, сэр Фрэнсис Милман, думал, что ему лучше не купаться в открытом море. Снова напряжение сильно сказалось на его семье, приведя к фактическому разделению между королём и его женой, так как королева Шарлотта не могла заставить себя возобновить супружеские отношения, на что король, вероятно, самый добронравный из монархов Ганноверской династии, сказал в шутку, что ему, наверное, придётся завести любовницу.
Такие приступы неизбежно расшатывали здоровье короля и психическое и физическое, тем более что теперь недолго оставалось до его семидесятилетия. Какова бы ни была природа болезни короля, она нанесла непоправимый вред его организму даже после очевидного выздоровления. Бремя его королевских обязанностей по мере продолжения кровавой войны с Францией с непредвиденными политическими и экономическими последствиями для его собственного народа было для него чересчур тяжёлым. Он начал терять зрение, у него ослабела способность сосредоточиваться. В 1810 г. его любимая дочь Эмилия заболела и в конце концов умерла.
Вскоре после скромного торжества 25 октября 1810 г. по случаю пятидесятой годовщины восшествия короля на престол его болезнь вернулась. Столь критической была политическая ситуация и столь неопределённы шансы на его выздоровление, что казалось, будто повторяются события 1788–1789 гг., и лорд Гренвилл заметил в письме к лорду Грею:
«Тот приступ начинался около 22 октября, этот около 25-го. Тогда заседания парламента были прерваны до 20 ноября, теперь до 23-го… Во время приступов в 1801 и в 1804 гг. парламент на самом деле заседал, события в какой-то степени скрывались от публичного наблюдения, но в этом случае, как и в 1788 г., вопрос должен… быть поставлен на обсуждение».
Принимая во внимание возраст короля — семьдесят два года — потерю зрения и ухудшение здоровья, шансы на полное выздоровление казались незначительными. Неохотно королевский врач сэр Генри Холфорд решил, что нужно снова обратиться к Симмонсу, который прибыл в Виндзор с четырьмя ассистентами и потребовал «отдать короля ему в полное распоряжение», и в этой просьбе ему сначала отказали. Но король вёл себя так буйно, что снова пришлось надеть на него смирительную рубашку. У него бывали тихие периоды, когда он играл на клавесине мелодии, которые первоначально принадлежали Генделю; он что-то несвязно бормотал, и опять проявилось его навязчивое увлечение леди Пембрук, которая теперь была старой дамой семидесяти пяти лет; она дожила до девяноста трёх. «Они отказываются, — жаловался он, — отпустить меня к леди Пембрук, хотя всем известно, что я на ней женат; но хуже всего то, что этот бессовестный негодяй Холфорд (его врач) был на нашей свадьбе, а теперь имеет наглость отрицать это мне в лицо». Он пять раз поклялся на Библии, что «он будет верным своей дорогой Элизе, которая пятьдесят пять лет была ему верна». «Леди Пембрук, — написала Генриетта, леди Бессборо в сентябре 1804 г., — говорит, что король преследует её любовными письмами, и что она вынуждена была написать ему очень серьёзно, чтобы он перестал — она на это очень надеется, — но я должна отдать должное его вкусу, она самая красивая женщина семидесяти лет из всех, кого я видела». Он разговаривал об учреждении «женского ордена», возможно, наподобие ордена Подвязки. Современники находили эту мысль крайне неподходящей.
Стало ясно, что регентство было политической необходимостью. Премьер-министр Спенсер Персевал пытался заверить короля, «что они придерживаются примерно такого же курса, как тот, который был одобрен его величеством после его болезни в 1789 г., чтобы после своего выздоровления он нашёл всё насколько возможно в том же состоянии, как и раньше». Хотя королю трудно было сосредоточиться, он очень здраво отозвался о предложении. Принц Уэльский по совету сэра Генри Холфорда, который предупредил его, что смена правительства может отрицательно сказаться на здоровье его отца, оставил кабинет неизменным. Почти незаметно Георг III практически перестал быть королём.
Вероятно, было бы гораздо милосерднее позволить старику предаваться своим чудачествам и сохранить его связи с семьёй, но так как его психическое расстройство перерастало в старческий маразм, его держали в изоляции, и он, отделённый от семьи, жил в мире своего собственного больного воображения, потеряв, как выразился лорд Окленд:
«все остатки хоть какого-то разума и воспоминаний, которые до тех пор сохранялись на протяжении всей его болезни; он охвачен самыми дикими и невероятными фантазиями. Он воображает, что не только приобрёл возможность жить вечно, но может вызывать из мёртвых кого захочет в любом возрасте… Короче говоря, похоже, что он живёт… в другом мире, и потерял почти всякий интерес к заботам этого».
До конца своих дней он существовал в этом одиноком другом мире. Регентство стало постоянным. Его жена, королева Шарлотта, умерла в ноябре 1818 г., но он не заметил её смерти. Теперь он был и слеп и глух. Время от времени у него случались припадки, когда он говорил без умолку, однажды около шестидесяти часов, но в основном его жизнь была спокойной, его единственным развлечением были «неисчерпаемые возможности его расстроенного воображения». Когда его сын, герцог Йоркский, приехал навестить его в конце ноября 1819 г., он увидел, что отец «развлекался игрой на клавесине и пел таким сильным и твёрдым голосом, какого я никогда не слышал… но мы не должны скрывать от себя, что его величество сильно исхудал за последние двенадцать месяцев… организм его настолько ослаб, что мы не можем надеяться, что он останется с нами сколько-нибудь долго». На Рождество 1819 г. вернулись приступы, и в 8.32 вечера 29 января 1820 г. Георг III умер.
Возможно ли через такой промежуток времени сделать какой-нибудь вывод о природе болезни, от которой страдал король Георг III до того, как попал в паутину старческого маразма? Современники его были явно очень озадачены. Некоторые даже сваливали причину на минеральные воды курорта Четленхема, которые он пил незадолго до того, как серьёзно заболел в 1788 г. «Последнее расстройство короля, — сообщала газета „Ландн Кроникл“ („Лондонская хроника“), — вызвано исключительно тем, что он пил воды Четленхема», которые, как отмечал Хорас Уолпол, были «самым крепким из всех спиртных напитков и горячительнее, чем мадера и шампанское», способными «расстроить» разум на много месяцев.
Для того, чтобы поставить точный диагноз возможной болезни короля, подробных доказательств явно недостаточно. Нам остаётся только искать равновесия между возможностями и вероятностями. Даже если причина психического расстройства Георга III была органической, в нём определённо играли роль психологические составляющие. Внутри своей крепкой внешней оболочки Георг всегда был нервным, легковозбудимым человеком. Представление о «Фермере Джордже», созданное карикатуристами, опровергается его интересом к искусствам и покровительством им. Он был очень впечатлительным человеком, который легко расстраивался, хотя, возможно, этого не показывал. Очень может быть, что не было никаких непосредственных причин для его срывов, за исключением, возможно, 1801 г., когда причиной волнения стал вопрос об освобождении римских католиков, но напряжение накапливается годами и может искать выхода в самые неожиданные моменты. Если в 1788 г. не произошло отдельного события, которое могло бы объяснить серьёзную болезнь этого года, то последние два десятилетия его царствования во многих отношениях были политически напряжёнными, не в последнюю очередь из-за Американской войны за независимость. Существует, как мы видели и раньше, непонятная и неотделимая зависимость между телесным и психическим нездоровьем, так что с исторической точки зрения вполне допустимо найти в болезни Георга глубокие психологические основания.
В последнее время утверждалось, что болезнь Георга была по характеру маниакально-депрессивной; но по крайней мере некоторые из его последних действий и позиций с равным основанием можно отнести к шизофренической природе. В 1967 г. толкования болезни Георга III были подвергнуты сомнению в основательном исследовании двух историков медицины, Айды Макалпин и её сына Ричарда Хантера. В статье, сначала напечатанной в «Бритиш медикел джорнел» («Британском медицинском журнале») они предположили, что король страдал от редкой формы расстройства обмена веществ, острой перемежающейся порфирии, и этот диагноз они впоследствии уточнили в своей книге «Георг III и дело о безумии», назвав его приступом другой и даже более серьёзной формы той же самой болезни — пятнистой порфирии.
Порфирия — малоизвестная болезнь, которая свирепствует в одном из районов Южной Африки, куда она, как считают, была занесена голландским поселенцем в 1688 г. и которая впоследствии распространилась среди восьми тысяч его потомков и была обнаружена также в Швеции. Представляется возможным, что её характерные симптомы, включающие высокую температуру, боль в животе, охриплость голоса, учащённый пульс, потерю аппетита, мышечную слабость, бессонницу и особенно изменение цвета мочи (которая приобретала или красный, или красно-коричневый, или даже фиолетовый цвет) могли, как и у других болезней, измениться с поколениями. В дискуссии, которая последовала за публикацией книги Макалпин и Хантера, некоторые специалисты по порфирии заявили, что сначала это была сравнительно безобидная болезнь, самым заметным проявлением которой была чувствительность кожи, которая серьёзно не влияла на энергию или здравый смысл тех, кто ею болел. Её возрастающая серьёзность частично объяснялась тем, что пациентов стали лечить современными средствами, особенно сульфамидными препаратами, которые, очевидно, привели к более ярко выраженным и опасным симптомам, среди них ступор, галлюцинации, маниакальные припадки и паралич конечностей. В то время как одни современные специалисты по порфирии согласились с заключением, что психические расстройства, подобные тем, которые перенёс Георг III, могли быть симптомами пятнистой порфирии, были и такие, кто скептически отнёсся к предположению, что безумие было характерно для этой болезни в прошедшие века.
В поддержку своего вывода Макалпин и Хантер выстроили убедительную цепь исторических доказательств, найдя первое проявление порфирии у Марии Стюарт, Шотландской королевы, и проследив её распространение на потомков. Опираясь на существенные и подробные показания врача Якова I сэра Теодора де Майерна, они пришли к выводу, что Яков, как и его мать, болел порфирией. Впоследствии они проследили её путь через болезни и смерти ряда потомков Якова и его сына и наследника Генриха, принца Уэльского, в 1612 г., сестры Карла II Генриетты, герцогини Орлеанской, в возрасте двадцати шести лет в 1670, и возможно, её дочери Марии Луизы, первой жены испанского короля Карла II. Последняя на троне из династии Стюартов, королева Анна, тоже ею болела, хотя её единственный выживший сын, Уильям, герцог Глостер, умер от оспы. Через дочь Якова I Елизавету, «Зимнюю королеву» Богемии, и её дочь, курфюрстину Софию Ганноверскую, пропустив двух первых королей Ганноверской династии, болезнь перешла к её правнуку Георгу III и его сестре, Каролине Матильде, датской королеве. Или через дочь Софии, Софию Шарлотту, королеву Пруссии, или через дочь Георга I, Софию Доротею, жену короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, порфирия передалась к сыну Фридриха Вильгельма, прусскому Фридриху Великому.
Наследственная зараза передалась от Георга III по крайней мере четырём из его сыновей: Георгу IV (и, возможно, его дочери принцессе Шарлотте, которая умерла в раннем возрасте, в двадцать один год от родов в 1817 г.), Фредерику, герцогу Йоркскому, Августу, герцогу Суссекскому, и Эдуарду, герцогу Кентскому, отцу королевы Виктории. Хотя возможно, что Виктория передавала гемофилию, непохоже, чтобы они передала порфирию своим многочисленным потомкам, или, что является по меньшей мере возможным, только одному из них, так как Макалпин и Хантер заявляли, что два члена Ганноверской королевской семьи, которые тогда были живы, болели порфирией. Они не представили подробных доказательств или имён; но ясно, что они имели в виду немецких принцесс, и кажется чрезвычайно вероятным, что также дядю Елизаветы II; все эти лица с тех пор умерли.
На первый взгляд, трудно опровергнуть открытия, основанные на совокупности таких впечатляющих доказательств, но некоторые сомнения, высказанные критиками в то время, возникают. Специалисты по порфирии, например, не согласились с тем, что в прошлом безумие было вероятным проявлением болезни или, к примеру, она сопровождалась поносом или запором. То, что Георг III страдал от слабости кишечника в результате передозировки слабительных, которые тогда считались неотъемлемой частью лечения, могло бы даже объяснить изменение цвета мочи. Это изменение было, вероятно, самым важным доказательством, выдвинутым Макалпин и Хантером, которые также привлекли внимание к описанию мочи Якова I, по цвету напоминавшей аликанте или портвейн, но само по себе это может быть недостаточным для доказательства, что Георг III болел пятнистой порфирией, так как такого рода изменение цвета может случиться вследствие других патологических явлений, например, болезни почек или почечных камней, что у короля было. Неизвестно, был ли образец мочи изменённого цвета сразу после выделения, или цвет изменился, как бывает в случае порфирии, после того как он несколько часов простоял. Всё это не опровергает конкретного заключения, что Георг III болел пятнистой порфирией, но предполагает, что было бы недостаточно оправданным принять это как доказанный факт.
Веские доказательства, с которыми прослеживается распространение порфирии среди потомков Марии Стюарт, вероятно, ещё больше поддаётся критике, потому что не бесспорно, что Мария Стюарт и её сын Яков VI и I{6}, болели этой болезнью. Но верно и то, что многие симптомы болезни Якова I дают основания предположить у него нарушение обмена веществ; имеются столь же веские причины для предположения, что у него были больные почки — это объясняет красный цвет его мочи, или гематурия, осложнённая тяжёлым артритом, как и предполагал его врач Майерн. Крайне сомнительно, что сестра Георга III, датская королева Каролина Матильда умерла от порфирии, то же самое можно сказать о причине смерти нескольких других персонажей из этой королевской галереи.
Более того, если порфирия — наследственная болезнь, которая поразила Георга III, всё же кажется удивительным, что на протяжении тринадцати поколений в течение нескольких столетий она дала всего лишь несколько единичных случаев. Она должна была бы, если судить по южноафриканской порфириновой группе, гораздо шире распространиться среди затронутых королевских семей. Даже шанс на то, что доминантный ген выживает столько столетий без мутации, очень слаб арифметически. Более того, если Георг III болел острой пятнистой порфирией, его случай был атипичным и чрезвычайно серьёзным, так как некоторые другие члены королевской семьи, рассмотренные Макалпин и Хантером, даже отдалённо никогда не страдали от психических мучений, которые претерпел он.
Сомнительно, можно ли спорить дальше. Ясно, что в своих проявлениях порфирия может копировать другие болезни, но положения Макалпин и Хантера, даже если они в некоторых отношениях неубедительны, не могут быть целиком опровергнуты. В то же время определённо остаётся место для вопроса, не была ли его болезнь хотя бы частично психической по происхождению, и для вывода, что всё-таки возможно, что у него была шизофрения или маниакально-депрессивный психоз.
Кроме как для историков медицины, точная природа болезни Георга III может и не иметь большего интереса, потому что её практические последствия были одинаковы, болел ли король пятнистой порфирией или маниакально-депрессивным психозом. Поведение короля, его логоррея, его галлюцинации, его буйство показывают, что по обычным критериям он сошёл с ума и в результате во время своей болезни стал настолько недееспособным, что не мог править, и его даже пришлось изолировать.
В одном отношении, однако, природа болезни повлияла на то, как историки пытались оценить правление Георга III. Если он всю жизнь страдал от нервной и психической болезни, которая время от времени превращалась в безумие, тогда такое расстройство могло бы снизить его способность принимать политические решения на протяжении всей его жизни. Если, с другой стороны, его только время от времени мучили приступы порфирии, тогда более вероятно, что между припадками его суждение о ситуации оставалось нормальным. Некоторые историки прошлого находили в нервном расстройстве короля объяснение тому, что они считали его попытками восстановить потерянные полномочия британской короны, как он поступал с министрами, которых не любил (например, Гренвилл и Чатем), и даже частично приписывали ему ответственность за то, что Американская война за независимость разразилась, за то, что она так долго продолжалась и кончилась катастрофой. Такие воззрения, однако, уже не выдерживают критики, не потому, что разум Георга не был заражён безумием, а потому, что сами историки ошибочно толковали политику, которую он проводил.
Конечно, справедливо, чтобы с Георга III, как весомо доказывал его биограф Джон Брук, сняли ярлык сумасшедшего короля, который так долго на нём висел. Большую часть своего правления он был ответственным и добросовестным монархом. Но всё же нельзя отрицать (были ли причины для наступления безумия органическими или психическими), что в течение нескольких коротких периодов своего царствования Георг III был сумасшедшим, настолько сумасшедшим, что не мог управлять своей страной. Если бы он не оправился от самого серьёзного из этих приступов в 1789 г., регентом стал бы принц Уэльский, и, вероятно, он заменил бы правительство тори во главе с Уильямом Питтом на администрацию вигов, скорее всего под руководством Чарльза Джемса Фокса. Какое воздействие это оказало бы на быстрое развитие ситуации в Европе, расшатанное революцией и войной, конечно, предсказать невозможно, но для Англии это могло бы иметь серьёзные последствия. Этого не случилось, и даже хотя из-за более поздних припадков королевские министры пережили несколько тревожных моментов, они не были кардинально важны для страны. В конечном счёте безумие Георга III было личной, а не общественной трагедией.
XIII. Датская шарада
Кажется иронией истории, что точный современник Георга III, датский король Кристиан VII, женатый на сестре Георга Каролине Матильде, оказался жертвой безумия. До самого конца его долгой жизни психическая болезнь Георга III, как ни серьёзны были её проявления, носила характер прерывистый, но Кристиан VII был безусловно безумен большую часть своего правления, даже если у него были периоды просветления. Может, ирония не кончается здесь, так как если принять точку зрения Макалпин и Хантера, то жена Кристиана, королева Каролина Матильда, как и её брат Георг III, болела порфирией и умерла от неё в молодом возрасте.
Датский и Ганноверский королевские дома были в близких родственных отношениях, так как мать Кристиана, Луиза, была дочерью Георга II. Когда Кристиан в 1768 г. приехал в Англию, люди отмечали его большое сходство с британской королевской семьёй. «Он… очень похож на королевскую семью, — писала леди Мэри Кук, — но больше всего он похож на принца Фредерика» (самый младший брат Георга III, умерший в пятнадцать лет в 1765 г.). Хорас Уолпол сказал, что у датского короля походка точно как у его дедушки Георга II, или у воробья-самца. Принцесса Гессенская утверждала, что больше всего он напоминал ей отца короля, Фредерика, принца Уэльского, «только он выше завивает волосы». Здесь сходство более или менее заканчивалось, если не принимать во внимание генетические факторы, кроме как в политическом смысле. Ибо если безумие Георга III вызвало политический кризис, помешательство его зятя привело не только к чрезвычайному политическому положению, но и предрекло глубокую личную трагедию.
Датская монархия, в отличие от монархии Великобритании, была не конституционным правительством, а, по царскому закону (lex regia) от 1665 г., автократией. Для управления Данией личность короля была решающим фактором, что продемонстрировало правление деда Кристиана VII, Кристиана VI, человека с благими намерениями, но очень средними способностями, который находился под большим влиянием своей решительной, очень набожной жены Софии Магдалины; он пытался навязать своему народу деспотичную пуританскую мораль, закрыв театры, изгнав актёров и приписав строгое соблюдение воскресенья. Сын Кристиана Фредерик V, большой сильный человек с красным лицом и синеватым прыщавым носом, который стал королём в 1746 г., не одобрял жестокого правления своего отца, и по инициативе его и его очаровательной и популярной жены Луизы Английской двор стал центром веселья, а не мрака. Их второй наследник Кристиан родился 29 января 1749 г. Через два года к превеликому горю её мужа Луиза умерла. Хотя через шесть месяцев Фредерик нашёл другую жену в лице Юлианы Марии Брауншвейгской, король стал алкоголиком, перестал заниматься государственными делами, образ его жизни становился всё более беспутным. По природе любящий, так что не потерял расположения своего народа, он заболел физически и даже психически и умер.
На этом мрачном фоне проходило воспитание Кристиана, и оно в какой-то мере объясняет шизоидные черты его личности. Его мать умерла, когда ему было два года, его отношения с мачехой никогда не были близкими. Мнения расходятся относительно того, была ли его мачеха, королева Юлиана Мария, жестокосердной интриганкой или набожной отшельницей; но её тёплые чувства в основном принадлежали её сыну, Фредерику, единокровному брату Кристиана, слабому и уродливому принцу, относительно будущего которого у матери несомненно были честолюбивые планы. Кажется достаточно ясным, что у Кристиана было неудачное детство. Лишённый любви, он всецело зависел от милости своих наставников, главный из которых, Дитлев Ревентлов, был жестоким тираном, который без колебаний терроризировал своего маленького воспитанника. Иногда он бил малыша до тех пор, пока тот оказывался на полу с пеной у рта. Ревентлов называл его своей «куклой»: «Идём показывать мою куклу», — мрачно произносил наставник, хватая его за руку, чтобы показать его при дворе. Ревентлову в его обязанностях помогал угрюмый лютеранский священник Георг Нильсен. Подвергаемый унижениям и физическим наказаниям, принц начал думать, что он заключён в тюрьму, а не живёт в королевском дворце.
Ситуация изменилась к лучшему с появлением в 1760 г. другого наставника, швейцарца Эли-Саломон-Франсуа Ревердиля, который приехал в Копенгаген за два года до этого в качестве профессора математики. Он был разумным чутким человеком, пытался учить своего подопечного философии и принципам благожелательности, но понял, что хотя у Кристиана были способности к языкам (он говорил по-датски, по-французски и по-немецки) и, казалось, живой ум, по характеру он был трудным и отсталым учеником, знания которого были очень ограничены, так что он не был должным образом подготовлен к задачам правления. Гораздо позже Ревердиль, который умер в Женеве в 1808 г., в один год со своим бывшим учеником, написал мемуары которые остаются одним из основных источников сведений о молодом датском принце.
Справедливости ради следует сказать, что суждения Ревердиля, возможно, окрашены тем, что он узнал о Кристиане в дальнейшем, но даже если принять во внимание эту необъективность, остальное даёт основания предположить, что в детстве Кристиан проявлял некоторые признаки нарождающегося помешательства, Ревердиль стал, по его собственным словам, «печальнейшим из служителей, надзирателем сумасшедшего». Казалось, мальчика преследовало глубокое чувство неуверенности и неполноценности. Страх всегда оставался характерной чертой его личности, так что, даже став взрослым, он поддавался давлению других людей, более сильных, чем он. Одновременно у него рано появилось повышенное внимание к физической твёрдости. Физически довольно слабый, низенький и худенький, он пытался возместить эти недостатки, вообразив себя настоящим мужчиной. Его тщедушное телосложение, возможно, сыграло важную роль в развитии психического сдвига. Он пытался достичь своего собственного идеалистического представления о себе. Ему нужно, он говорил, «совершенно крепкое тело», и он часто рассматривал свои конечности и грудь, чтобы увидеть, достигает ли он этой цели. «Люди, — как заметил психолог У.Г. Шелдон, — у которых темперамент сильно отличается от того, что соответствует их телосложению, особенно подвержены психологическому конфликту, так как они не в ладах со своим собственным эмоциональным складом».
Чтобы привлечь к себе внимание, он предавался типично школьным проказам: намазал себе лицо чёрной краской и спрятался под столом, за которым обедала его тётя принцесса Шарлотта Амалия, и напугал её, когда с воплями вылез; обсыпал сахарной пудрой голову своей почтенной бабушки, королевы Софии Магдалины, а уходящий лютеранский пастор почувствовал, что в затылок ему попала булочка, брошенная кронпринцем.
Становясь старше, он заменил своих наставников более снисходительным обществом своего конюшего, первоначально пажа, Сперлинга и своего камердинера Кирхофа, который приобщил его к более плотским радостям отрочества. Ревердиль чопорно замечает: «Мы не будем рассказывать о тех бесчинствах, на которые его подбивал Сперлинг», но он добавляет, что они безусловно способствовали наступлению безумия. Датский психиатр В. Кристиансен, который опубликовал своё классическое исследование безумия Кристиана в 1906 г., приписал его начало, как это комически ни звучит в наши дни, частично злоупотреблению мастурбацией. Он находил выход своим агрессивным инстинктам, бродя украдкой по улицам Копенгагена по ночам, и с гордостью демонстрировал «утреннюю звезду» ночного сторожа, дубинку с железными пиками, которую он захватил в качестве трофея в ночной стычке на тёмных улицах своей столицы.
Когда ему было шестнадцать лет, начались переговоры о его женитьбе на его тринадцатилетней кузине, сестре Георга III Каролине Матильде. В растревоженном дипломатическом климате Европы, ещё не забывшей ожесточённые распри, вызванные Семилетней войной, британцы видели в браке будущего короля Дании полезный бастион против французского влияния и подтверждение английского влияния в Северной Германии и на Балтике. Английский посол в Англии Титли с энтузиазмом докладывал, что Кристиан «очень любезный, воспитанный… хорошо разбирается в науке о законах природы и в общей теологии… (у него) мужественное лицо, грациозная и выдающаяся фигура». Сильнее всего, как и многих других, его поразило очень близкое сходство Кристиана с английским королём в молодости. Хотя о помолвке в британском парламенте было объявлено 10 января 1765 г., свадьба ожидалась не раньше, чем через два года — план, который пришлось изменить из-за внезапной смерти Фредерика V в 1766 г. и восшествии Кристиана на престол.
Невеста Кристиана, Каролина Матильда, была посмертным ребёнком, рождённым через четыре месяца после смерти её отца Фредерика, принца Уэльского, и воспитанным его вдовой, принцессой Августой. Она была простодушной, но привлекательной, хорошенькой, как фарфоровая куколка. Её муж, у которого тоже были светлые волосы и светло-голубые глаза, тоже был довольно приятной наружности. Возможно, на первый взгляд, они были вполне подходящей парой.
Молодая принцесса была очень расстроена, узнав, что её замужество произойдёт раньше, чем ожидалось, так как, поскольку по датскому обычаю она не могла взять с собой английских фрейлин, для неё это была сущая ссылка. Запланировали, что церемония произойдёт в 7 часов вечера в гостиной Сент-Джеймсского дворца (при этом представителем жениха будет герцог Йоркский) 2 октября 1766 г. До 8.00 не могли начать, «бедная маленькая королева, — как объясняла леди Мэри Кук, — так нервничала, что ей пришлось задержаться в церемониальной спальне, чтобы она могла прийти в себя». Уезжая в свою новую страну, королева горько плакала.
Когда она прибыла, её встретили «всеобщими аплодисментами и любовью», и английские посланники в Копенгагене восторженно писали о ней и о её муже. Мистер Титли сообщал, что Кристиан проявил «живейшее понимание», а мистер Кросби хвалил «великолепную лёгкость и достоинство, с которыми он выразил свои чувства». На самом же деле Кристиану жена надоела удивительно быстро. «Он сказал, — сообщал принц Карл Гессенский, — что она чрезвычайно хороша, но так как его величество не всегда в одном и том же настроении, в день своей свадьбы, через пять дней после её прибытия, он был в плохом настроении». «Принцесса, — докладывал французский посланник Ожье своему правительству, — почти не произвела впечатления на принца; а если бы она была ещё милее, её ожидала бы та же самая судьба. Ибо как она могла угодить человеку, который всерьёз считает, что не модно („n'est pas du bon air“), чтобы муж любил свою жену». Но, каковы бы ни были его чувства, Кристиан исполнил свой долг, и в августе 1767 г. леди Мэри Кук могла доложить, что она рада, так как Каролина не только «очень любима», но и «ждёт ребёнка, к великой радости всей страны». Будущий Фредерик VI родился 28 января 1768 г. К тому времени у Кристиана уже наблюдалась ранняя стадия нарождающейся шизофрении.
Поставленный смертью своего отца в положение абсолютной власти, помня все унижения, которым он подвергался в детстве, Кристиан решил вести себя, как выразился английский посланник, «как единственный хозяин положения». Министры его отца, хотя он пока что оставил на службе способного графа Бернсторфа, были уволены, графа Мольтке, заменил граф Даннескьолль. Вскоре, однако, возникли сомнения в том, что он способен выполнять свои королевские обязанности.
Фактически интерес короля к правлению был весьма слаб. Освобождённый от опеки, он больше всего хотел заниматься теми вещами, от которых получал наибольшее удовлетворение, сексуальное и чувственное. Он нашёл подходящего наставника и компаньона в лице молодого графа Конрада Хольке, молодого «нахала», как назвал его Уолпол, который охотно потворствовал его желаниям и оказался злым гением первых лет его правления. Именно Хольке обеспечил ему любовницу, Анну Катерину Бентхаген, или Простушку Катрин, более зажигательную, чем его сдержанная английская жена.
Простушка Катрин стала его любовницей, ходила с ним в театр, сидела в королевской ложе; когда Ревердиль выразил своё неодобрение по этому поводу, король сказал, чтобы он возвращался в Швейцарию. Она сопровождала короля в буйных вылазках, переодетая морским офицером. В ноябре 1767 г. на костюмированном балу во дворце Кристианборг было замечено, что «король целый вечер не танцевал ни с кем другим». Король осыпал её подарками и сделал баронессой.
Хольке потворствовал ему и в менее пикантных занятиях. У Кристиана в характере были черты садо-мазохизма, которые, вероятно, являлись проявлением его прогрессирующей психической болезни. Он обожал публичные казни, и в обществе Сперлинга инкогнито пошёл посмотреть на казнь саксонца Мерля за кражу. В других случаях он разыгрывал шуточные казни и приказал устроить дыбу, и на ней приказывал Хольке бить себя до крови.
Странное поведение короля, а также его очевидное увлечение Катрин привело ко всё большему охлаждению отношений с женой, которая нашла сильного защитника в лице своей бесстрашной фрейлины мадам фон Плессен. У неё был язвительный язык, она отзывалась о Кристиане как о «султане», и у неё хватило смелости сказать его секретарю, что, по её мнению, «его поведение относительно королевы носит такой характер, что его могут терпеть только низкие женщины и в домах с дурной репутацией». Кристиан, считая, что мадам фон Плессен воздвигает барьер между ним и его женой, изгнал её, что привело королеву в глубокую печаль, так как она лишилась одного из очень немногих друзей при дворе, кому она могла доверять.
Не прошло и двух лет, а король сделал многое, чтобы разрушить народную благожелательность, с которой было встречено его восшествие. Результат некоторых ночных похождений короля, в ходе которых он, сопровождаемый Катрин, разгромил бордель, вызвал негодование общества. Его советники тут же сказали ему, что если он не расстанется с Катрин, произойдёт революция. Кристиан, в душе трус, всегда готовый отделаться от друга, если ему самому что-то угрожало, выслал Екатерину в Гамбург, где её позже отправили в тюрьму.
Отдалившийся от своей жены и нелюбимой его подданными Катрин, Кристиан решил совершить турне по Европе, включая Англию, хотя брать с собой жену не хотел. Его свояк Георг III, до которого дошли слухи о его недостойном поведении, отнюдь не проявлял энтузиазма относительно этой поездки. «Он (король Кристиан), — докладывал английский посол Ганнинг, — сейчас настолько отступил от первоначального плана, насколько возможно. Однако всё решено. Меня тревожат последствия настоящего предприятия, хотя возможно, что вопреки нашим ожиданиям, какая-нибудь польза всё-таки получится».
Итак, молодой датский король в сопровождении свиты из сорока четырёх человек, включая графа Хольке и главного министра Бернсторфа, отправились в Англию в мае 1768 г., причём считалось, что король путешествует инкогнито под именем графа Травендаля. В Гамбурге к компании 6 июня 1768 г. присоединился Иоганн Фридрих Струэнзе в качестве путешествующего врача. Высокий, широкоплечий и чрезвычайно умный, Струэнзе во многих отношениях был чужд условностям, скептичен, либерален, но эгоцентричен. Он привык читать в постели при свете двух свечей, зажатых в руках у скелета. Его встреча с королём Кристианом оказалась зловещей и для его будущего, и для будущего Дании.
Королевская партия доехала до Кале и погрузилась на английскую яхту «Мэри», которую Георг III предоставил для поездки через пролив; но по прибытии в Дувр 9 августа 1768 г. обнаружилось, что карет для дальнейшего путешествия нет, так что пришлось нанимать кареты. Кристиан определённо был не в наилучшем настроении, когда в Кентербери его приветствовали местные и церковные власти, так как он ненавидел официальные церемонии такого рода, и заметил Бернсторфу, что «последний король Дании, который побывал в Кентербери, сжёг город дотла и устроил резню».
И его английского свояка не было в Лондоне, когда он приехал в Стейбл-Ярд (Конюшенный двор) в Сент-Джеймсском дворце в предоставленные ему покои, жилище, которое страшно не понравилось датским придворным — «Клянусь Небесами! — услышали, как воскликнул граф Хольке, — это никуда не годится; это не жилище для христианина!» (игра слов: Кристиан — христианин). Георг III, который уезжал в Ричмонд, появился на сцене через некоторое время после прибытия своего зятя. Но их беседа продолжалась не больше двадцати минут, и хотя английский король выделил на содержание гостя 84 фунта в день и приказал привести из Тауэра золотую посуду для его пользования, их встречи носили формальный и ограниченный характер: семейный обед, бал в Квинз-Хауз (дворец королевы) и «прощальная церемония» в Ричмонд-Лодж 26 сентября.
Но недостаток энтузиазма со стороны Георга III был восполнен приёмом, оказанным Кристиану аристократией и восхищёнными криками населения. Принцесса Эмилия устроила грандиозный приём в Ганнерсбери-Хауз на более чем сотню гостей, которые приятным тёплым августовским вечером гуляли по террасе, глядя на роскошный фейерверк, за которым последовали ужин и бал во главе с датским королём, танцевавшим с герцогиней Манчестерской. На нём был великолепный костюм из серебряного шёлка, вышитый серебряными нитями, и его манеры, даже если он не особенно блистал в танцах, были таковы, что, писала леди Мэри Кук, «это меня убеждает, что разумен и может достойно себя вести, когда пожелает». Однако уже возник подспудный критический поток, и леди Толбот метко, хотя и нежно, прозвала его «северным плутом».
Именно это торжество на деле оказалось для короля чрезмерным, и он на следующий день или около того чувствовал себя настолько неважно, в результате, как подумала леди Мэри Кук, слишком большого количества съеденных фруктов, что вынужден был отказаться от приглашения к обеду у императорского посла, но тем не менее, заехал в резиденцию посла с бледным лицом, изысканно одетый в голубой и белый шёлк, чтобы поболтать с дамами. Вереница торжеств, приёмов и костюмированных балов продолжалась.
Но особенно удивительным был энтузиазм простого народа, может быть, однако, понятный в свете тех подачек, которые король щедро разбрасывал за счёт датской казны. Кристиан несомненно купался в лучах этой популярности; «думаю, ему нравится, что люди с удовольствием на него смотрят». Он устроил обед на публике в банкетном зале Сент-Джеймса; утром он одевался при открытых окнах, чтобы прохожие могли его видеть.
Визит короля был предположительно образовательным. В целях просвещения для него были организованы поездки за пределы Лондона. Он понравился везде, вдоль и поперёк Англии, даже прославленные университеты Оксфорда и Кэмбриджа сделали его почётным доктором.
В общем, учитывая его молодость, было решено, что он вёл себя хорошо, хотя впечатление было неоднозначным. Когда он пошёл послушать оперу Buona Figliola («Хорошая дочечка» (ит.) — пер.), леди Мэри Кук с неодобрением заметила, что он не только простоял весь первый акт, но «высовывался из ложи с локтями и с головой… Он ковырял в носу, что, как известно, нельзя назвать изящным или королевским. К концу он казался страшно утомлённым и очень много зевал». Уолпол саркастически заметил сэру Хорасу Манну, что на пьесе «Рассерженная жена» «он хлопал в ладоши каждый раз, как произносилось предложение против брака, очень своевременный поступок, когда его жена — английская принцесса».
Конечно, визит имел свою оборотную сторону. В темноте король и его весёлые сообщники прокрадывались из Сент-Джеймсского дворца, переодевшись моряками, чтобы обследовать самые грязные притоны города. «Он, безусловно, любвеобилен, — писал Уолпол Страффорду, сообщая сплетни, что он так любил, — но визит его так короток, что дамы, которые хотят раздеться, не должны торговаться. Им надо делать своё дело в мгновение ока, или его здесь уже не будет». На время он посетил актрису, точнее было бы сказать «стриптизёршу», в Сент-Джеймсе, «ту странную особу, — писала леди Мэри Кук, — которая выставляла себя на сцене почти без одежды». Король и его компания разгромили покои в Сент-Джеймсе, поломав мебель и причинив крупный ущерб.
И всё же в конечном счёте с точки зрения короля визит был удачным. Его провожали с помпой. В сопровождении властей города он проплыл вниз по Темзе от Вестминстера до Темпля на церемониальной барже. Оставив щедрые дары высшим и низшим, он покинул Лондон 12 октября, «сопровождаемый самыми искренними благословениями громадной толпы, которая бежала за его каретой многие мили за городом». Этим крикам суждено было отзываться в памяти короля в последующие пустые годы.
Его путешествие на этом не закончилось, так как из Англии он прибыл во Францию, где его принимали почти с таким же экстазом. «Мы отбираем жизнь у этого маленького датчанина», сообщала мадам дю Деффан Уолполу. Его забрасывали приёмами и развлечениями, Академия наук и Французская академия устроили ему праздник и аббат Вуазенон прочитал ему хвалебную поэму. И всё же эта поездка обнаружила некоторые тревожные, хотя и мимолётные вспышки ненормальности в личности короля. Хотя Людовик XV, знаток в таких делах, предоставил ему целую стаю актрис для его удовольствия, король оказался необычно безразличным, даже враждебным, к такой компании, возможно, потому что он подхватил какую-то венерическую заразу. Но, кажется, были более тревожными сообщения, что речь короля часто становится несвязной и иногда невнятной. За благополучным фасадом угадывались по крайней мере какие-то намёки на недостаток психического равновесия.
Когда он вернулся в Данию в январе 1769 г., жена встретила его в Роскилле, и на какое-то время их отношения, казалось, улучшились. Каролина Матильда любила надевать мужской костюм для верховой езды, алый жакет и кожаные бриджи. Хотя более чопорная публика этого не одобряла, костюм королевы соответствовал мужским вкусам короля. «Король, — замечал Ревердиль, — весьма приветствует всякий бунт против дворцового этикета и чрезвычайно доволен новым костюмом королевы», — но, добавлял он, — «когда она одета как мужчина, кажется, что она чересчур мала».
Затем, в октябре, она заболела. Кое-кто говорил, что это водянка; менее доброжелательные утверждали, что она подхватила венерическую заразу от своего мужа. А может быть, это был незначительный нервный срыв, вызванный его беспорядочным поведением. «У королевы, — как невнятно докладывал английский посланник Ганнинг 4 ноября 1769 г., — появились
кое-какие неблагоприятные симптомы… хотя непосредственной опасности как будто нет, всё-таки положение, в котором королева Дании сейчас находится, слишком серьёзно, и крайне необходимо устранить хотя бы наихудшие симптомы, и так как этот счастливый результат в большой степени зависит от заботы его величества, я думаю, что ничто не подействовало бы на неё более благоприятно, чем какое-либо нежное заявление со стороны короля о том, как важна её жизнь».
С некоторым трудом её уговорили посоветоваться со Струэнзе, теперь лейб-медиком короля. Она не хотела к нему обращаться, так как считала, что это при его участии её муж завёл новую любовницу, мадам Бирсетту фон Габель, несчастную молодую женщину, которая вскоре, в августе 1769 г., умерла, родив мёртвого ребёнка. Но Струэнзе не только вылечил королеву, но и вдохнул в неё вновь найденную уверенность и интерес к жизни. Он также успешно сделал её сыну, кронпринцу Фредерику, прививку от оспы, процедуру, которую очень критиковали более консервативные священники и врачи. Струэнзе был на десять лет старше королевы, но он произвёл на неё сильное впечатление, так что они сблизились ещё больше.
Сам Струэнзе был очень противоречивой фигурой. Он отличался политическим честолюбием и в то же время просвещённым рационализмом. Он приобрёл полную власть над впечатлительным королём, шизофренические склонности которого с каждым днём становились всё более явными. «Королём, — сказал Струэнзе Каролине Матильде, — кому-то придётся управлять. И в моих интересах было бы, чтобы им управляли ваше величество, а не кто-нибудь другой». Сначала казалось, что Кристиан полностью попал под влияние Струэнзе. По его настоянию король расстался со своими прежними советниками и сделал Струэнзе главой тайного кабинета, где заместителем его был Эневолль Брант. Струэнзе провёл фантастическое количество законодательных реформ, которые сказались на всех аспектах жизни страны, упразднив цензуру печати, и покусился на закреплённые законом имущественные права гражданской службы, казначейства и церкви. Он стал проводить политику экономии, сокращая расходы на содержание двора и отменив приблизительно пятьдесят религиозных праздников. Враждебное отношение к такому министру было неизбежным, тем более что он сам афишировал вновь полученные полномочия и жил на довольно широкую ногу, обслуживаемый лакеями, одетыми в бело-алые ливреи.