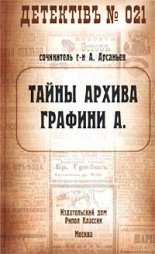Судьба Грин Саймон

Действенность того, что пытался делать Струэнзе, его несомненно дальновидных, если и непопулярных реформистских поползновений на социальную, экономическую и религиозную инфраструктуру датской жизни, в конечном счёте была возможной только благодаря неограниченной монархической власти датской короны. Если бы Кристиан поддержал Струэнзе, он мог бы быть, а таковым он себя считал, недосягаемым. Его поселили в покоях на первом этаже Кристианборгского дворца и назначили на должность «Директора по прошениям», что давало ему полную власть над всеми государственными отделами, главы которых могли связываться с королём только письменно. 15 июля 1771 г. Кристиан подписал указ, назначающий Струэнзе «министром Тайного кабинета» и придающий приказам министра «ту же законную силу, что и написанным нашей собственной рукой. Им следует немедленно повиноваться». Зависимость Кристиана от Струэнзе сама по себе была признаком его собственной умственной слабости.
Прогрессирующая психическая болезнь самого короля была решающим фактором в этой ситуации. Его мучили галлюцинации. Временами он сомневался в своём происхождении, предполагая, что на самом деле был плодом любовной связи своей матери с лордом Станопом. В другие времена он утверждал, что он сын короля Сардинии или советника французского парламента, с которым встречался в Париже; смешнее, что его матерью была императрица России и даже что на самом деле его матерью была его жена. Ещё он считал, что он был подкидыш, на которого заменили настоящего принца при рождении. Фредерик V на самом деле не был его отцом, и хотя Струэнзе пытался убедить его, указывая, как он похож на своего деда Кристиана VI, он всё-таки настаивал, что он не настоящий король, и однажды вообразил, что королевский совет собирается провозгласить его незаконность, и этому провозглашению будет предшествовать удар грома или даже землетрясение. Хотя он был крайне озабочен соблюдением и защитой королевского достоинства, он заявил, что не хочет быть королём, что королевские обязанности его тяготят, и во время поездки по Европе, когда они были в Антверпене, он предложил Струэнзе вместе убежать.
Он всё ещё был поглощён своим телосложением, используя все способы, какие только мог придумать, чтобы сделать своё тело крепче, пощипывая кожу, поколачивая её, пытаясь сделать её непроницаемой, как мрамор, невосприимчивой к ударам шпаги или выстрелам. Настоящий мужчина, считал он, охотно подвергает своё тело физическим пыткам, даже мученичеству. Он подпрыгивал высоко вверх и бегал по садам вокруг дворца во всякое время дна и ночи, бился руками и даже головой о стену, пока не начинала течь кровь. Иногда он натирал живот снегом или льдом или даже порохом, а в другой раз жёг кожу горящими деревяшками.
Его живое воображение не знало границ, и он погружался во всё время меняющийся калейдоскоп фантазии, который заканчивался реальным или воображаемым насилием. Он находил выход своим агрессивным побуждениям, разбивая окна своего дворца или ломая мебель в церемониальных залах. «Сегодня утром король, — писал граф Рантсау Гахлеру 20 июня 1771 г., — один гулял со своими молодыми друзьями. Так как в его личных покоях никакой мебели уже нет, он сделал вылазки за мебелью в соседние. Этим утром он обошёл все наши помещения, вламываясь в них и заглядывая внутрь. Кончилось тем, что они сняли с петель рамы в двух окнах и сбросили их вниз. Можно смеяться или рыдать, но обстановка за обедом была ужасная». Она не могла улучшиться от привычки короля либо задерживать обед на несколько часов, или часто внезапно вставать из-за стола до того, как обед заканчивался; слуги получали инструкции пытаться помешать ему встать со стула. В этих варварских буйствах Кристиану помогал его чёрный паж, Моранти, выходец из датской колонии Золотой берег, и его подруга, которая однажды в воскресенье вышвырнула содержимое одной из комнат в Хирсхольмском дворце с балкона вниз во двор. Похоже, что в последний момент остановили короля, который хотел вышвырнуть и Моранти, и свою собаку Гурмана, к которой Кристиан был особенно привязан. Любимым занятием молодого монарха была борьба с Моранти, они катались по полу, кусаясь и царапаясь, хотя Кристиан редко оставался побеждённым, разве что он этого хотел.
Струя мазохизма у него в характере объясняет странную стычку, в которой был замешан сотрудник Струэнзе Брант, который обычно потакал королю. Когда Брант обедал за королевским столом, король внезапно угрожающе закричал: «Я собираюсь вас отколотить, граф, вы меня слышите?» Брант ничего не ответил, но когда обед закончился, и Струэнзе, и королева выразили своё неодобрение королю за то, что он без всякого повода оскорбил Бранта. «Он жалкий трус, — закричал Кристиан, — и я его заставлю мне повиноваться».
Позже в тот же вечер Брант сам пошёл в королевские покои и вызвал короля на дуэль. Кристиан принял вызов, отверг шпаги и пистолеты и согласился на кулачный бой. Несмотря на любовь короля к наказаниям, на этот раз он получил гораздо больше того, на что рассчитывал. Он был избит так сильно, что в конце концов корчился на полу, умоляя о пощаде. Брант «колотил его без жалости, оскорблял его словами и самым безжалостным образом угрожал ему; он осыпал его проклятиями, боролся с ним и в конце концов довёл его до того, что тот попросил пощады. Наконец он оставил его сильно избитым и ещё больше испуганным».
Ещё чаще буйные картины были продуктом его воображения. Он рассказывал, как он в безумии носился по дворцу, движимый намерением убить первого встречного, оскорбляя людей, оплёвывая их, давая им пощёчины и даже швыряя в них тарелки и ножи. Он воображал, что он бегает по улицам, бьёт стёкла, убивает прохожих, ходит по борделям, сражается с ночной стражей и связывается с негодяями, принимая участие в самых извращённых действиях. Просыпаясь утром, он заявлял, что ночью убил шесть или семь человек. Может быть, думая о своём романе с «Екатериной-гамашами (гетрами?)», он выдумал другую любовницу, которую он называл де Ла Рока. По словам Кристиана, она была высокая, здоровая и сильная, больше похожая на мужчину, чем на женщину, с большими руками, развратное и пьяное создание, с которой, как король воображал, он шатался по улицам, избивая людей, получая побои в свою очередь и напиваясь допьяна. Ночами он часто не спал и часами без конца рассказывал о своих фантазиях тем, кто соглашался слушать. Он пытался выискивать людей одного склада с собой, тех, кого он называл «Comme-Ca»: актёров, солдат, матросов и бродяг.
Его швейцарский наставник Ревердиль, который вернулся ко двору, сначала нашёл его разумным и рассудительным, но при более близком наблюдении обнаружил, что психика его очень расстроена. «Вы Брант, — сказал он мне, потом перешёл на быструю и невнятную болтовню, повторил несколько стихов из „Заиры“, которую мы вместе читали четырьмя годами раньше. Затем он сказал: „Вы Дениз, вы Латур“ — французские актёры, которые были у него на службе; наконец он понял, кто я такой».
Ревердиль замечает, что настроение короля бешено колебалось, быстро переходя от состояния дикого возбуждения до глубокой депрессии. Англичане, сказал Кристиан в момент подъёма, смотрели на него, как на бога; и он считал, что как король он затмевал всех остальных монархов. Затем настроение его изменилось, и он заговорил о себе как о «маленьком человеке» («der kleine Mann») и даже подумывал о том, чтобы покончить с собой. Когда они гуляли около дворцового озера, король воскликнул: «Но как я могу это сделать, не вызвав скандала? И если я так поступлю, не буду ли я ещё несчастнее? Мне что, утопиться? Или разбить голову об стенку?» Ревердиль решил, что лучше попытаться его ублажить. «Сделайте так, — сказал он королю, — как по-вашему будет лучше». На следующий день король предложил прокатиться на лодке по озеру. «Я хотел бы в него прыгнуть, — сказал он печально, — и чтобы потом меня очень быстро вытащили обратно», добавив по-немецки (так как обычно они говорили по-французски): «Я запутался»; «У меня в голове шум»; «Я не совсем в себе». Когда по его просьбе Ревердиль попытался почитать ему, он не смог сосредоточиться. Он сидел, уставившись прямо перед собой, и пробормотал: «Струэнзе, он любовник королевы? Может, прусский король спит с Матильдой? Или это Струэнзе?».
Такие яркие фантазии, очевидно, были навеяны неотступными мыслями о том, кто он такой. Если он не был сыном своего отца, может, он был одним из шести особых созданий, рождённых с моральной слепотой, цели которых могут быть достигнуты только путём потворства своим желаниям заниматься развратом и самоистязанием не потому, что такие действия доставляли удовольствие, но потому что они были в какой-то мере истинной целью его жизни? Обычные события в жизни, как и люди вокруг него — это иллюзия. Не было ли, спрашивал он у Струэнзе, после смерти ещё чего-то, отличного от того, что нам говорят учителя религии и философии?
Хотя в своей основе характер у него был трусливый, в противовес этому он пытался изображать из себя настоящего мужчину, считая, что по-настоящему мужественный человек ни перед чем не остановится. В самом деле, бывали моменты, когда он казался нормальным, но он был подвержен внезапным изменениям настроения, когда его гнев направлялся на самых близких ему людей. Он был так недоверчив и подозрителен и так легко обижался, что даже самые близкие слуги могли быть немедленно изгнаны. Он не терпел никакого противоречия и злился, если кто-то из окружающих пытался убедить его, что сказанное им — всего лишь плод воображения. От их советов он мгновенно впадал в меланхолию и даже в слёзы, но долго это не продолжалось. Он не слушал ни свою жену, ни Струэнзе, ни Бранта, ни своего камергера Варенштальта; на самом деле он даже заставлял Варенштальта сопровождать его в вылазках по городу, когда рыскал по улицам и разбивал окна, среди них и окна его бывшего наставника графа Ревентлова.
Бернсдорф высказал Струэнзе предположение, что выходки короля были результатом переходного возраста, и он их перерастёт, но Струэнзе был другого мнения. Он посоветовал королю принимать холодные ванны, но это не помогло; кажется вероятным, что время от времени в качестве успокаивающего применяли опиум. Струэнзе приобрёл такое влияние над разумом своего августейшего господина, что именно ему король поручал обыскивать свою спальню, чтобы удостовериться, что в комнате не прячется убийца. Но у Струэнзе появлялось всё больше врагов, и не только среди придворных, но особенно среди тех, кто завидовал власти, которую он получил, и кто возражал против реформ, которые он проводил в управлении Данией.
Таким образом, власть Струэнзе целиком зависела от расположения всё более психически неуравновешенного монарха, предосудительные поступки и разнузданность которого по понятным причинам королева и министры пытались скрыть. Из-за экстравагантного поведения короля они пытались, вполне естественно, ограничить доступ к его особе тем, кто мог бы понять состояние его психики. Поступая так, они дали оружие в руки своим критикам, которые считали, что они порабощали короля и делали из него своё орудие. Ходили слухи, что Кристиана одурманивают. Но если Струэнзе мог скрывать от общественности действительное положение при дворе, то он не смог скрыть своё собственное предосудительное поведение, вести о котором скоро прогремели по всем дворам Европы. Хотя у Струэнзе была другая любовница, мадам фон Галер, жена генерала Петера фон Галера, на двадцать семь лет моложе своего мужа, королева была совершенно без ума от своего любовника и, вероятно, понимая неустойчивость психики короля, позабыла всякую осторожность:
Королева почти не сводила с него глаз, настаивала, чтобы он присутствовал на всех приёмах и позволяла ему публично допускать такие вольности, которые погубили бы репутацию обычной женщины, например, он ездит в её карете и наедине гуляет с нею в саду и лесах.
Струэнзе осыпал её подарками, такими, как пара надушённых подвязок и свой миниатюрный портрет, который она днём носила на шее, а ночью засовывала в книгу и клала её под подушку. Он заставил короля учредить специальный орден рыцарства, носящий её имя.
Но везде были шпионы, враждебно настроенные по отношению и к королеве, и к министру. Когда 7 июля 1771 г. Каролина родила дочь, принцессу Луизу, памфлетисты и сатирики Копенгагена поставили под сомнение её отцовство. В письме из Вены леди Мэри Кук заметила, что скандальное поведение королевы доводит её датских подданных до грани мятежа в пользу наследного принца Фредерика.
«Не было датчанина, — заметил Ревердиль, — который не считал бы личным оскорблением то, что он подчиняется власти, единственным основанием которой был скандал в королевской семье». Пресса, освобождённая от цензуры, начала сатирическую кампанию против министра, который дал ей свободу. Струэнзе завёл себе врагов во всех слоях общества и из-за своего высокомерия потерял сторонников даже среди собственных друзей. Сэр Роберт Марри Кит писал 6 октября 1771 г.: «Народ любит короля, и он крайне возмущён передачей власти человеку, возвышение которого так неприлично… Сейчас он стал очень уязвимым со многих точек зрения, и кое-кто, кто не осмеливался даже смотреть на него, теперь стряхивают с себя подчинение вместе с благоговением, которое было так необходимо для поддержания его неограниченной власти».
Немногие революции были столь предсказуемы, так что даже её главные жертвы заранее обсуждались, что они смогут сделать, если потеряют власть. Каролина Матильда размышляла, не могла ли она стать певицей. Но когда революция действительно наступила, она была устроена небольшой группой любителей-заговорщиков. Слухи о том, что Струэнзе задумал добиться отречения или даже смерти короля, чтобы жениться на королеве и захватить верховную власть, проникли во дворец Фредериксборг, где жила вдовствующая королева Юлиана Мария и её собственный больной сын, наследный принц Фредерик. Наставник Фредерика Ове Гульдберг помог подготовить заговор, чтобы избавиться от ненавистного министра.
Случай представился на костюмированном балу вечером 17 января 1772 г. Следующим утром в четыре часа главные заговорщики все собрались в покоях вдовствующей королевы. Некто Енсен провёл их невооружённых в спальню короля, где они разбудили королевского камердинера Бригеля. Так как дверь к королю была заперта, он подвёл их к тайному входу, который сначала, встревожив их, он отказался открыть. Они испугались и проявили признаки паники: Гульдберг выронил одну из свечей; королева-мать неожиданно потеряла сознание, её сын шлёпнулся в ближайшее кресло. Рантсау, который сохранил самообладание, объяснил камердинеру, что их цель — спасти короля от его врагов, и когда они гарантировали безопасность короля, им разрешили войти в комнату.
Когда Кристиан их увидел, он разразился рыданиями и взвыл от ужаса: «Ради Бога, господа, что я сделал, чего вы от меня хотите?» Его мачеха его успокоила, сказав, что они ему ничего не сделают, если он подпишет бумаги, которые они подготовили. Они пошли наверх в комнату наследного принца, где без дальнейшего шума и вряд ли понимая, что он делает, король подписал требуемые ордера на арест и заключение Струэнзе, Бранта и своей собственной жены.
Не было никаких сомнений, что народ одобрял то, что делается. «Славная, знаменательная ночь, — писал Сухм в открытом письме королю, — будущие Гомеры и Вергилии воспоют тебе хвалу, слава Юлианы и Фредерика будет жить долго, но не станет громче, ибо это невозможно». Хотя король подозревал, что жена ему неверна, полная потеря связи с реальностью, похоже, привела к тому, что он с этим примирился. Чтобы успокоить общественное мнение, на следующий день Кристиана, угрюмого и безучастного, провезли в золочёной карете по улицам Копенгагена. 29 января ему исполнилось двадцать три года и он пошёл в театр посмотреть две французские пьесы, «Честолюбец» и «Нескромный», в которых содержались намёки на связь его жены с министром, но в театре было такое столпотворение, что король поспешил удалиться, а вдовствующая королева упала в обморок.
С несчастными жертвами государственного переворота поступили очень сурово. Королева и её дочь были заточены в Кронборг, где терпели большие неудобства. Струэнзе и Брант содержались в жестоких условиях, павшего министра приковали к стене таким образом, что ночью он не мог даже встать с койки. Комиссия по расследованию, которую создало новое правительство, чтобы обобщить доказательства, сочла, что помимо прочих обвинений, «незаконная близость министра с королевой зашла настолько далеко, насколько возможно между двумя особами разного пола». Посягнув на полномочия короля и издавая указы, на которых не было подписи короля, Струэнзе нарушил «право короля» («kongelov»), основной закон страны. В тюрьме настроение у Струэнзе было неустойчивое, но он, по-видимому, нашёл утешение во вновь обретённой вере, к которой его приобщил лютеранский пастор доктор Мунтер. Кристиан без колебаний подписал смертный приговор своему главному министру и любовнику своей жены, и вечером перед казнью Струэнзе и Бранта он слушал итальянскую оперу.
Королева, как объявили, была разведена со своим мужем и приговорена к пожизненному заключению в замке Ольборг. Тогда как многие англичане, среди них леди Мэри Кук, осуждали Каролину Матильду за её «недопустимое» поведение, её брат Георг III не мог смириться с тем, что датчане подвергли такому суровому обращению его собственную сестру. Под угрозой применения силы королева была освобождена и ей позволили удалиться в Целле в Ганновер, так как Георг III не хотел позволить ей вернуться в Англию. Хотя британское правительство выделило ей 5000 фунтов в год, она находила свою ссылку скучной и тоскливой. Но защитники у неё были, самым ярым среди них был двадцатилетний англичанин Натаниель Раксолл, «чистейший образец орангутана в Англии», как о нём отозвался современник. Он строил планы свергнуть правительство вдовствующей королевы и вернуть власть Каролине Матильде. Это было бесполезно, если и галантно, Георг III не проявил энтузиазма, и всё закончилось смертью Каролины Матильды 11 мая 1775 г., незадолго до её двадцать четвёртой годовщины, вероятно, от тифа или скарлатины. Макалпин и Хантер нашли в её болезни симптомы порфирии и они считают, что она и раньше периодически ею болела и от неё умерла; но приводимые доказательства неубедительны.
По крайней мере, смерть Каролины Матильды сгладила трения между Данией и Англией. После переворота датская политика вернулась к прежнему застою. Уолпол был более или менее прав, предположив, что и королева Юлиана Мария, и её сын Фредерик «отнюдь не превосходят короля в компетентности». Они опустошали казну, чтобы вознаградить своих сторонников, и покончили с реформаторской политикой Струэнзе; произошёл возврат к старому, была восстановлена цензура прессы и возрождены другие виды ограничения и подавления, среди них барщина для крестьян и пытки в судопроизводстве.
После переворота у Кристиана осталась только номинальная власть. Он жил в более или менее полной изоляции, появляясь только символически. Он поддался давлению вдовствующей королевы и её сына, но его возмущало то, что они сделали. Вскоре после этого он нарисовал несколько примитивных, детских портретов, среди других Струэнзе и Бранта, кого он несколько любопытно охарактеризовал как «утончённого необузданного человека», уверяя, что в их смерти виноваты королева Юлиана и принц Фредерик, а ни он, ни Государственный совет этого не хотели. Он спас бы их, если бы мог. Он также нарисовал два несколько двусмысленных и нелестных портрета своей жены, причём её пол выдавали только серьги, а дата её смерти указана неверно. Похоже, что Кристиан полностью не осознал ни заточения, ни смерти своей жены; был случай, когда он приказал закладывать лошадей, чтобы ехать на встречу с ней. Его вытаскивали на публику только в полуздравом состоянии, когда государственные дела требовали, чтобы появился номинальный глава государства, или когда требовалась его подпись, чтобы узаконить правительственные постановления.
Один такой случай произошёл в 1784 г., когда его сын кронпринц Фредерик, которого возмущала реакционная и непопулярная политика его неродной бабки и её отвратительного сына, заставил своего отца прийти на Государственный совет, чтобы он мог скрепить своей подписью документ, распускающий кабинет. Как только он это сделал, Кристиан выскочил из помещения, и за ним с такой же скоростью последовал его единокровный брат Фредерик, который вынужден был уступить ранее захваченную власть.
Кристиану оставалось жить ещё двадцать лет, но жил он в изоляции и на публике появлялся редко. «Я был глубоко потрясён, — заметил посетитель королевского приёма, — достопочтенным видом монарха, а также почтением и уважением, которые ему оказывались… Возвращение болезни проявилось необыкновенным способом. Посреди весьма весёлого разговора и по всей видимости полностью собой владея, он вдруг пробежал через зал и приветствовал первого попавшегося сильным ударом по физиономии».
Английский философ и экономист преподобный Т.Р. Мальтус видел, как он в июне 1799 г. принимал военный парад:
«К концу парада я подобрался поближе к шатру короля и увидел его совсем близко… С ним обращаются как с идиотом. Придворным офицерам приказано не отвечать ему. Некоторые из присутствующих видели, как он что-то очень быстро говорил и строил гримасы офицеру, который был одним из караульных у шатра, и тот сохранял в лице полную серьёзность и ни слова ему не отвечал. Как раз перед тем, как король и его сопровождающие покинули шатёр, на полной скорости подъехал принц, и отец весьма низко ему поклонился».
«Король, — замечает он позже, — очень любит королевские парады и проявляет чрезвычайное неудовольствие, если ему не выказывается соотвётствующее уважение. Ему следует отвечать только поклоном, и это правило соблюдается очень строго».
Несмотря на сумасшествие короля, Дания при главном министре Бернсторфе пережила долгий период либерального правления, некоторое увеличение благосостояния и мир до тех пор, пока начало наполеоновских войн создало угрозу союзу «вооружённого нейтралитета», который отстаивала Дания совместно с другими балтийскими государствами. Последствием попыток датчан сохранить позицию нейтралитета было то, что британский флот, опасаясь что Наполеон будет оказывать на них давление, дважды обстрелял Копенгаген, причинив большие потери, последний раз в сентябре 1808 г.
Кристиан закончил своё призрачное существование 13 марта 1808 г., когда он был в Хольстене и страшно испугался, увидев вход испанских вспомогательных войск. В странной и причудливой шараде, которая продолжалась сорок лет, он оставался главой государства, его королевские полномочия основывались на датском царском праве. Хотя реальная власть принадлежала кронпринцу, будущему Фредерику VI, и это продолжалось четверть века, он официально никогда не был регентом. То, что Кристиан умер в тот самый год, когда Дания объявила войну Великобритании, страна, которая дала ему жену и в которой, четырьмя десятилетиями раньше, до того, как хроническая шизофрения поразила его разум, он, по крайней мере по своему собственному мнению, пережил великий триумф, и что эта страна заставила Данию пережить серьёзное унижение вскоре после его смерти, было, конечно, шуткой истории.
XIV. Король-лебедь
Людвиг II, король Баварии с 1864 по 1886 г., был последним европейским монархом, безумие которого заметно отразилось на культурном и политическом наследии современного ему мира. Крест, одиноко возвышающийся в мелких водах озера Штарнберг, где, признанный умалишённым, он утопился или его утопили в июне 1886 г., сохраняет память об этом наиболее странном из властителей. Эксцентричное поведение Людвига стало легендой ещё при его жизни. Семейство Виттельсбах, к которому он принадлежал, было одним из старейших правящих домов в Европе, со средних веков Виттельсбахи правили крупным южногерманским королевством Бавария, так как эти монархи, давно имеющие титул Курфюрстов (электоров) или князей-избирателей императора, стали королями в 1806 г. Бавария с большой неохотой вошла в состав Германской империи в 1871 г., но её правители сохраняли титул королей до тех пор, пока окончание Первой мировой войны не смело с их престолов всех германских монархов, но они не полностью забыты, так как многие баварцы всё ещё дорожат памятью о прошлом.
Отец Людвига Максимилиан стал королём Баварии в 1848 г. после отречения Людвига I, чьё неосмотрительное поведение как в личном, так и в политическом плане вызвало такую оппозицию, что он вынужден был отказаться от короны. Ни в родителях Людвига, ни в ближайших предках не было ничего такого, что дало бы повод предположить, какое будущее его ожидало, но уже ребёнком он отличался крайней чувствительностью.
Его родители редко с ним встречались, и воспитывали его няньки и гувернантки, к одной из которых, фрейлейн Майльхаус, он очень привязался. По большому счёту похоже, что он был одиноким ребёнком, в основном предоставленным самому себе и своему воображению, которое оказалось у Людвига чрезвычайно живым.
Особенно захвачено было его воображение образом лебедя, эта эмблема преследовала его всю жизнь. Королевский замок в Хоэншвангау (высокий дом лебедя), расположенный в Баварских Альпах, высоко над сверкающими горными озёрами, Шванзее и Альпзее (Лебединое озеро и Альпийское озеро), был перестроен отцом Людвига Максимилианом; замок был посвящён легенде о Лоэнгрине. Роскошные фрески, украшавшие его стены, изображали лебедя, тащившего лодку, и в ней сидел Лоэнгрин, рыцарь Святого Грааля, которого Людвиг впоследствии отождествлял с собой.
Ещё подростком он почувствовал удивительное восхищение композитором Рихардом Вагнером, и эта страсть определила его жизнь. Первой оперой, которую он услышал, была «Лоэнгрин», исполненная 2 июня 1861 г., затем «Тангейзер», и в 1863 г. «Кольцо (Нибелунгов)». Говорили, в том числе и Вагнер, что на самом деле у Людвига не было музыкального слуха, но юный принц был потрясён основными темами опер Вагнера, особенно посвящённых Св. Граалю. Музыка Вагнера породила серию фантазий, которые Людвиг пытался превратить в реальность, в конце концов с трагическими результатами. «Самым простым истолкованием ситуации, — заметил ведущий британский специалист по Вагнеру, — кажется следующее: ещё в детстве у Людвига появилось романтическое представление о себе как о короле, ведущем немецкий народ по пути к идеалу, и сочинения Вагнера просто вписались в это видение в решающий момент и с потрясающими последствиями». Вагнер сам себя прозвал королём Парсифалем, «моим сыном в Святом Духе», простым и мудрым, судьбой призванным преемником короля Св. Грааля.
После внезапной смерти его отца в 1864 г. неопытному молодому принцу представилась возможность претворить свои видения в реальность. Людвиг был очень высок и излучал необыкновенное обаяние. У него были роскошные вьющиеся волосы с красивой волной, и он носил их длинными, может быть, чтобы прикрыть чересчур большие уши, следы усиков на верхней губе и необыкновенно выразительные глаза. «Он был, — заметил его министр юстиции Эдуард фон Бомхард вскоре после его восшествия, — в высшей степени интеллектуально одарён, но содержимое его мозга находилось в крайнем беспорядке». «Я был поражён, — вспоминает Бомхард, — тем, как время от времени, как раз тогда, когда выражение его лица и всё его поведение, казалось, выражало удовлетворение, он вдруг внезапно выпрямлялся и — оглядываясь вокруг с очень серьёзным, даже суровым, выражением — обнаруживал в себе нечто тёмное, прямо противоположное очарованию юности минуту назад. Я про себя думал: „если в этом молодом человеке зреют две разных натуры“, как мне показалось с самого первого с ним разговора, „да поможет Господь победить лучшей“». Министр подсознательно подглядел шизофреническую натуру Людвига.
Для будущего Баварского государства и для продолжения королевской линии Виттельсбахов вскоре стала настоятельно необходимой женитьба Людвига. Королю нравилось женское общество, и он доверялся своим друзьям-женщинам, особенно выделяя красивую австрийскую императрицу Елизавету, которую он был склонен считать воплощением своей героини Марии Антуанетты. Шесть лет продолжалась интимная дружба с актрисой Лилой фон Буловски. Но в мире XIX в. король должен был жениться на принцессе королевской крови. Людвиг объявил о своей помолвке с Софьей, сестрой императрицы Елизаветы. «О, как будет чудесно, — писал „орёл“, как Людвиг себя называл, своему „голубю“ Софье из своего замка-гнезда 25 августа 1867 г., в свой двадцать второй день рождения, — когда Мы Двое будем здесь одни в восхитительном Хоэншвангау».
А потом всего через несколько дней он признался своей бывшей гувернантке, теперь баронессе Леонрод, что он не может доводить дело до женитьбы. Как он ей сказал, «он сбросил тяжкие оковы» и снова дышит «свежим воздухом после опасной болезни». «Она не могла бы быть моей женой: чем ближе подходил день моей свадьбы, тем больше я боялся своего намеченного шага». «Я вижу, — писал он Софье, — что моя истинная и верная братская любовь ни сейчас, ни никогда не уйдёт из моей души, но я также вижу, что это не та любовь, которая необходима для брачного союза». Естественно, её родители были возмущены поступком Людвига; несчастной Софье суждено было выйти замуж за французского герцога Алансонского и умереть насильственной смертью. Но Людвиг просто записал себе в дневник: «От Софьи избавился. Мрачная картина исчезает. Я так желал, я жажду свободы. Теперь после этого мучительного кошмара я снова живу». Крах матримониальных планов Людвига оказался злым предзнаменованием того, что произошло в дальнейшем.
По своей истинной природе Людвиг был гомосексуалистом. Ему были близки молодые люди, главным из которых многие годы был принц Пауль фон Турн унд Таксис. Страстно преданные друг другу, они обменивались сентиментальными романтическими письмами. «Пусть приснятся тебе сладкие сны, и пусть будет у тебя всё, чего ты желаешь на этой земле, — писал Пауль королю 13 июля 1866 г. — Спи спокойно, ангел моего сердца, и ещё раз вспомни своего преданнейшего Фридриха», — так Людвиг называл своего любовника. И всё же Людвиг был вспыльчив, требователен и в конечном счёте непостоянен. Роман угас, когда Пауль вступил в морганатический брак и его семья от него отреклась.
Задолго до этого, в то время, когда Людвиг разорвал свою помолвку с Софьей, он нашёл нового любовника Рихарда Хорнига, который летом 1867 г. сопровождал его в Париж. Хорниг был конюший двадцати шести лет, голубоглазый блондин с вьющимися волосами, великолепный наездник, «ноги которого были созданы для сапог». «Какая жалость, — писал 8 июля 1869 г. принц Гогенлоэ, — что король не использует своих талантов, а всё больше и больше ограничивается неподходящей компанией объездчика лошадей Хорнига». «Пусть вечно здравствует король и Рикардус», — писал король в своём тайном дневнике в 1872 г., но женитьба Хорнига положила конец связи.
За ним последовали другие: кавалерийский офицер барон фон Варикур, актёр Йозеф Кайнц и мужчины более низкого социального статуса, как королевский лакей Альфонсо Велькер. Невозможно сказать, когда романтическая дружба опускалась до физической близости, но слухов было полно, и отрывки из тайного дневника предполагают, что Людвиг предавался страсти, страдая впоследствии от чувств вины и раскаяния.{7}
Несмотря на драматические события, которые в это время определяли будущее Германии, Людвиг был совершенно равнодушен к политике, хотя случались обстоятельства, которые требовало его активного участия. В Семинедельной войне между Пруссией и Австрией баварцы выступили на стороне Австрии и потерпели крупное поражение от Пруссии при Киссингене, где был убит баварский главнокомандующий. Людвиг, поглощённый более средневековыми рыцарскими представлениями, чем военными действиями его времени, так не хотел воевать, что раздумывал, не отречься ли от престола в пользу своего брата Отто. Это желание отчасти было вызвано желанием быть рядом с Вагнером в Швейцарии. Сам Вагнер больший патриот и националист, чем король, посоветовал Людвигу «подумать о своих воинах». Поэтому король предпринял несколько поездок на линию фронта перед тем как удалиться с принцем Паулем к комнатным играм и удовольствиям на Остров Роз. В тот день, когда была объявлена война, принц Гогенлоэ написал в своём дневнике:
«(Король) сейчас ни с кем не видится. Он находится с Таксисом и с грумом Фольком на Острове Роз и устраивает фейерверки. Даже члены Верхней Палаты, которые должны были вручить адрес, не были приняты… Других людей не беспокоят ребяческие проделки короля, так как он даёт министрам и палатам править и не вмешивается. Поведение его, однако, неблагоразумно, так как делает его непопулярным».
Через несколько месяцев, 18 августа 1866 г. Гогенлоэ замечает, что
«король занят придумыванием декораций к опере „Вильгельм Телль“ и шьёт для себя костюмы, надев которые, ходит по комнатам. Между тем решается вопрос, потеряет ли королевство (в результате поражения от Пруссии в Семинедельной войне) тридцать тысяч жителей во Франконии и семьсот тысяч в Пфальце».
Не прошло и четырёх лет, как Бавария снова воевала, на этот раз на стороне Пруссии против французов. Ни Людвиг, ни его министры не могли противостоять манипуляциям Бисмарка. Нехотя, хоть и ценой субсидий, король примирился с Германской империей, в результате чего прусский король Вильгельм I был провозглашён в Версале императором Германии. Интерес Людвига к обычным функциям управления оставался весьма поверхностным. Он обожал церемониалы. Он любил военную форму, хотя, как заметил приезжий англичанин, он носил волосы слишком длинными, чтобы выглядеть действительно «воинственным»; но королевский сан всё больше сводился к пышным зрелищам, которые ограничивались двором и самим королём.
Так он и жил всё больше и больше в мире, который сам создавал, занятый покровительством Вагнеру и театру и строительством декоративных дворцов, которые, хотя и не все были закончены, оставались его самым существенным наследием для последующих поколений. В основе всей этой фантастической жизни были средневековые легенды, воплощённые в операх Вагнера.
Может, Людвиг и не был музыкален, но сочетание драмы, народной истории и фона, на котором разворачивалось действие опер композитора, захватило сердце и разум короля. Именно здесь, по мнению Людвига, выражался истинный гений немецкого народа, и покровительствовать этому считал своим долгом, честью и наслаждением. «В Германии, — заверял король Вагнера, — мы должны поднять знамя чистого и святого искусства, чтобы оно взлетело с крепостных стен, призывая немецкую молодёжь сомкнуться вокруг него».
Намереваясь осуществить своё покровительство на практике, он послал своего секретаря Пфистермайстера найти Вагнера. Когда он наконец встретился с ним в Штутгарте, тот заверил его в безграничной поддержке Людвига, если только он немедленно прибудет в Мюнхен. «Дорогой благородный король, — откликнулся композитор 3 мая 1864 г., — я посылаю вам эти слёзы высочайших чувств, чтобы сообщить вам, что чудо поэзии как божественная реальность вошло в мою бедную, жаждущую любви жизнь! И эта жизнь, до последнего стиха и звука, принадлежит теперь вам, мой великодушный молодой король, распоряжайтесь ею, как своей собственностью!». Это было первое письмо из длинной переписки, которая происходила между двумя мужчинами, чрезвычайно экспансивная и с высоким эмоциональным зарядом. Тогда как фразеология может навести на мысль о гомосексуальных отношениях, это представляется маловероятным. Хотя Вагнер был крайне сексуален, его многочисленные связи были гетеросексуальны, как, например, показывают его отношения с Козимой фон Бюлов, незаконной дочерью Ференца Листа, на двадцать четыре года моложе его. Кроме того, Вагнер был на тридцать лет старше своего покровителя и далеко не красив. Людвиг был жестоко беспощаден со всеми, кого он считал некрасивым, он благосклонно смотрел только на смазливых молодых мужчин и женщин.
Тем не менее их близкие и даже страстные отношения много значили для обоих мужчин, ибо Вагнеру они дали возможность жить и сочинять в достатке, а Людвигу найти свою судьбу в мифах, которые Вагнер перекладывал на музыку. Вагнер писал о короле после того, как он был ему представлен: «Кроме того, он настолько красив, духовен, душевен и великолепен, что я боюсь, что жизнь его промчится как мгновенный, небесный сон в этом пошлом мире». Этот сон в конце концов превратился в кошмар.
Может, баварцы и ценили музыку Вагнера, но им не нравились те экстравагантные милости, которыми их король его осыпал. Вагнер жил в роскоши, как арбитр искусств, на будущее которых у него были радикальные и дорогостоящие планы, включая создание новой музыкальной школы и строительство нового театра, для чего покровительство короля и его кошелёк были весьма важны. Главный министр барон фон дер Пфордтен, профессор университета и юрист-консерватор, не любил музыку Вагнера и не разделял радикальных политических взглядов, которые тот когда-то провозглашал, и с глубоким подозрением относился к непомерным тратам короля и их последствиям для баварской казны.
Даже отношения Вагнера с королём не обходились без трений, как ни прочны были узы между ними, потому что Вагнер бывал хитёр и нечестен, а Людвиг требователен и вспыльчив. Однако переписка их сохраняла самые восторженные выражения. «Мой уникальный! Мой Святой! — восклицает король, посмотрев первое представление „Тристана“ 10 июня 1865 г. — Какое блаженство! — Совершенство. Я так переполнен восторгом! — Утонуть… бессознательно погрузиться в высочайшее наслаждение божественным произведением! Вечная правда — до могилы и потом». 21 июня Людвиг писал из своего альпийского гнёздышка:
«Давно уже дневное светило закатилось и скрылось за высокой цепью гор; в глубоких долинах царит покой, и до моего светлого уединения поднимается звон коровьих колокольчиков и песен пастуха. Вечерняя звезда посылает издалека свой мягкий свет, показывая путнику выход из долины и ещё раз напоминая мне о моём дражайшем и его божественных произведениях. Вдалеке, в конце долины, из тёмной зелени сосновых лесов возвышается церковь Этталя. Говорят, что её построил император Людовик Баварский (император Священной Римской империи в начале XIV в.) по плану храма Грааля в Монсальвате. Там фигура Лоэнгрина снова оживает у меня перед глазами; и там в моём воображении я вижу Парсифаля, героя будущего, ищущего спасения, единственной правды. Как моя душа ищет и жаждет таких произведений, которые могут воспроизвести для нас эти призраки».
«Я жажду встречи с вами, — писал он 21 августа, —
только когда я думаю о моём дражайшем и его творениях, я истинно счастлив… Как у вас сейчас дела, там наверху в радостных лесных высотах? Мой дорогой, пожалуйста, выполните мою просьбу! Я вас умоляю. Сообщите мне что-нибудь о ваших планах относительно „Победителей“ и „Парсифаля“! Я жажду услышать. Пожалуйста, утолите эту обжигающую жажду! О как ничтожен мир! Как презренно и вульгарно множество людей! Их жизнь вращается в узком кругу повседневной банальности. О, если бы я оставил мир позади себя!».
Король, казалось, был совершенно поглощён своим протеже. В то время как Вагнер, вдохновлённый просьбой Людвига, начал писать либретто «Парсифаля», король удалился от глаз общества, отказываясь, к примеру, посещать официальные собрания под предлогом плохого самочувствия, но продолжая ходить в театр. После исполнения «Вильгельма Телля» Шиллера он специально поехал на озеро Люцерн, путешествуя инкогнито (хотя его вскоре узнали), к месту событий пьесы, по всей видимости отождествляя себя с героем.
Вагнер гостил у Людвига в Хоэншвангау, который он называл «замком Грааля», «защищаемым возвышенной любовью Парсифаля». «Он, — писал Вагнер, — это я, обновлённый, более молодой, более прекрасный, рождённый вторично: полностью я, а он только прекрасный и могущественный». Они вместе поехали в Тироль, и 14 августа король писал Козиме, всё ещё по наивности не понимая, что она любовница Вагнера (хотя вторым именем его незаконной дочери Изольды было Людовика в честь короля):
«Давайте дадим теперь торжественную клятву сделать всё, что в человеческих силах, чтобы сохранить для Вагнера тот покой, который он завоевал, чтобы освободить его от забот, чтобы взять на себя, когда только возможно, любую его неприятность, и любить его, любить его всеми силами, какие только Бог вложил в человеческую душу! О, он богоподобен, богоподобен! Моя миссия — жить для него, страдать за него, если это окажется необходимым для полного его спасения».
Может, он и испытывал все эти грандиозные сантименты, но в основном они показывают, насколько далеко король продвигался по воображаемому миру, который он сам себе создавал. В Баварии поднималась волна критики по поводу непомерных расходов Вагнера, и негодование ещё усилилось из-за грубого вмешательства Вагнера в баварскую политику. Даже одурманенный король не мог противостоять урагану. «Ваше величество, — писал Пфордтен 1 декабря 1865 г., — сейчас находится на роковой развилке дорог: вам приходится выбирать между любовью и уважением вашего преданного народа и „дружбой“ Рихарда Вагнера». С болью в сердце король приказал Вагнеру уехать из Мюнхена в Швейцарию. Если бы Людвигу пришлось отречься от престола, в новом положении ему было бы гораздо труднее покровительствовать своему другу и субсидировать его; если Вагнер оказывался в Швейцарии, он мог его обеспечивать, что он и делал. Перед самым его отъездом Людвиг написал: «Моя любовь к вам не умрёт никогда, и я умоляю вас навсегда сохранить вашу дружбу ко мне».
Их отношения, хотя и не всегда безоблачные, продолжали служить королю поддержкой. Вагнер с Козимой, которая оставила мужа, жили с комфортом на восхитительной вилле в Трибшене около Люцерна, где Людвиг его посетил. Творческие силы его оставались в полной силе. Король побывал на репетиции и премьере «Мейстерзингеров» в Мюнхене, и именно сам композитор, который сидел около него, поднялся и поклонился в ответ на восторженные аплодисменты, а консервативное общественное мнение сочло этот поступок нарушением придворного этикета. «Я был, — писал король, подписав письмо именем своего героя, „Вальтер“, — так поражён и потрясён, что для меня было совершенно невозможным присоединиться к такому пошлому выражению похвалы, как хлопанье в ладоши». 23 сентября Вагнер прислал прекрасно переплетённую партитуру «Мейстерзингеров» со стихотворным посвящением, отражающим их близкую дружбу, в подарок к двадцать третьему дню рождения Людвига.
Затем переписка прервалась, и появились кое-какие разногласия, и восемь лет они не встречались. Но с началом франко-прусской войны Вагнер, гораздо более патриотично настроенный, чем его покровитель, послал Людвигу стихотворение с выражением похвалы, одобряя поддержку Германии со стороны Баварии. Двое мужчин снова встретились в Байройте, где стало возможным завершение строительства театра, благодаря щедрой суде со стороны короля, в августе 1876 г. для премьеры «Кольца». После спектакля Людвиг писал:
«Я ожидал многого; но как ни велики были мои ожидания, они были намного, намного превзойдены… Ах, теперь я снова вспоминаю прекрасный мир, от которого я был отстранён; на меня снова смотрят небеса, луга сверкают красками, весна входит в мою душу с тысячами сладких звуков… Вы богочеловек, милостью Божьей истинный артист, который принёс священный огонь с небес на землю, чтобы умиротворять, освящать и искупать!»
Когда, по завершении «Гибели богов» Вагнер вышел на сцену, чтобы приветствовать публику, он сказал, что Байройтский фестиваль «снова был проникнут верой в немецкий дух и восславил короля Баварии, который был ему не только благодетелем и покровителем, но и соавтором его произведений».
Когда в ноябре 1880 г. в Баварии праздновали 700-ю годовщину правления Виттельсбахов, Вагнер приехал в Мюнхен, чтобы присутствовать на закрытом представлении «Лоэнгрина». Это был последний раз, когда увиделись король и композитор, так как Людвиг не присутствовал на премьере «Парсифаля» в 1882 г. из-за нездоровья, и он услышал его только в 1884 г. и к этому времени умер уже Вагнер. Людвиг был глубоко потрясён, когда услышал о смерти Вагнера, и хотя он не поехал на похороны, он распорядился, чтобы все фортепьяно во всех его замках задрапировали чёрным крепом. Со смертью Вагнера оборвалась живая ниточка и в существовании самого Людвига, даже при том, что темы его опер продолжали играть самую важную роль в голове короля.
Фантазии Людвига находили конкретное выражение в сказочных замках, которые он строил с большим ущербом для баварской казны. В 1868 г., когда в его памяти ещё были свежи «Лоэнгрин» и «Тангейзер», у короля появилась мысль построить замок, который даст ему возможность выразить в камне темы, звучавшие в этих операх. Они должны были стать увековеченными театральными декорациями. Первая стройка драматично расположилась на вершине горы всего в получасе от Хоэншвангау и после смерти Людвига получила название Нойшванштайн. «Это место, — говорил он Вагнеру, — одно из красивейших на земле, священное и недоступное, достойный храм для божественного друга. Будут и напоминания о „Тангейзере“».
С его бастионами и башнями, его драматическим расположением, Нойшванштайн представляет собой гигантскую сценическую декорацию. Людвиг проявлял к его возведению постоянный личный интерес, часто раздражая архитекторов внезапными переменами решений, вызванными эмоциями, а не разумом. Зал Певцов был украшен фресками из истории Грааля, взятыми из средневекового романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль»; в троном зале воздавалась живописная дань королевской власти. Это была святыня, которую Вагнер так и не увидел и в которой сам король тоже не останавливался до тех пор, пока не оказался на грани безумия.
Вскоре после начала строительства Нойшванштайна Людвиг задумал построить ещё один королевский дворец, иного назначения и вида, Линдерхоф. Он должен был быть данью уважения его великому герою, французскому королю Людовику XIV, которому он хотел подражать в роли покровителя искусств, иногда имитируя его одежду и походку и разговаривая по-французски со своими воображаемыми гостями. 7 января 1869 г. король писал своей бывшей гувернантке баронессе Леонрод:
«Около Линдерхофа, недалеко от Этталя, я собираюсь построить небольшой дворец с регулярным парком в стиле Ренессанса, чтобы всё в целом дышало великолепием и импозантным величием королевского дворца в Версале. О, как необходимо создать для себя такие поэтические места, куда можно скрыться и забыть на время о том ужасном времени, в котором мы живём».
Линдерхоф представлял собой небольшой дворец, облицованный тёсаным камнем, в стиле барокко, наполненный декоративными фантазиями, роскошный, красочный и очаровательный, феерия в стиле свадебного торта; над камином находилась группа из мрамора, названная «Апофеоз короля французского Людовика XIV». В парках располагалось несколько причудливых капризов: охотничий домик, где Людвиг и его спутники одевались в медвежьи шкуры и пили средневековый медовый напиток; мавританская палатка в турецком стиле; искусственный грот, в котором постоянно меняющиеся цвета, как в какой-нибудь ранней дискотеке, отбрасывали бесконечную радугу на искусственный водопад и озеро, на котором при помощи механизмов производились искусственные волны.
Самым великолепным из всех был Герренкимзее, расположенный на острове Геррен среди самого большого озера Баварии Кимзее. Как и Линдерхоф, он был вдохновлён скорее дворцами Людовика XIV, чем «Песнью о Нибелунгах» и представлял собой горизонтальное здание необычайной красоты, намеренно созданное по образцу Версаля. Галерея зеркал в нём даже превзошла образец, протянувшись примерно на девяносто футов длиннее. Однако Герренкимзее остался незаконченным, частично из-за того, что он был задуман как каркас, а частично потому, что кончились деньги. Краеугольный камень был заложен 21 мая 1878 г., но король провёл там всего около девяти дней, с 7 до 16 сентября 1885 г.
Существовали и другие здания, которые Людвиг строил или реконструировал, все экзотичные и символичные, многие из них так и остались за чертёжной доской или в богатом воображении короля. Из них самым впечатляющим был бы Фалькенштайн, величественное сооружение типа Диснейленда, все из вышек и башен, расположенное на вершине горы, господствующей над миром, дань миру грёз, в который король всё больше и больше переселялся.
Если судить по всем этим авантюрам, может показаться, что Людвиг просто был одним из наиболее эксцентричных людей в мире, романтиком, который пытался дать конкретное выражение плодам своего воображения, для чего у него была возможность благодаря его положению и состоянию. Но за этой маской действовали более опасные силы, которые показывали постепенный распад его личности.
По мере того как угасали его умственные способности, он становился всё капризнее. Он много говорил об идеях демократической монархии, но иногда вёл себя как деспот. Он отдавал нелепые распоряжения о наказании своих слуг за мелкие провинности, обычно эти распоряжения не выполнялись. Им сказали, что они не должны смотреть ему прямо в лицо, и когда его камердинер Майер ослушался, ему приказали надеть чёрную маску.
Высказывались предположения, что, возможно, у Людвига была органическая болезнь мозга, происходящая от заражения сифилисом. Говорили, что его отец, который умер от брюшного тифа, в молодости подхватил сифилис в Венгрии, но доказательства для такого предположения скудны. Неясно, насколько беспорядочной была жизнь самого Людвига, но тогда как заражение сифилисом возможно, оно кажется невероятным.
Не исключено, что у его предков были наследственные особенности, которые давали повод думать, что при определённых условиях его психика может потерять устойчивость. Среди предков его матери были сумасшедший принц Людвиг IX Гессен-Дармштадтский, умерший в 1790 г., и его дочь Каролина, страдавшая галлюцинациями. Его тётку со стороны отца принцессу Александру пришлось препроводить в психиатрическую больницу, так как она считала, что проглотила стеклянное пианино. Ещё ближе относится к делу то, что его брат Отто совершенно сошёл с ума. Людвиг писал баронессе Леонрод 6 января 1871 г.:
«Так мучительно видеть, как страдает Отто, и его состояние становится всё хуже с каждым днём. В некоторых отношениях он ещё более неспокоен и взвинчен, чем тётя Александра, а это говорит о многом. Он часто не ложится в постель по сорок восемь часов. Он восемь недель не снимал сапоги, ведёт себя как ненормальный, строит жуткие гримасы, лает как собака, а временами произносит крайние неблагопристойности, а потом на какое-то время снова становится нормальным».
Состояние Отто постепенно ухудшалось. «Он страдает, — писал король 20 октября 1871 г., — от страшного перевозбуждения всей нервной системы, и это совершенно ужасно». Британский поверенный в делах в Мюнхене сэр Роберт Мориер сообщал 30 мая 1875 г., что Отто явно страдал от религиозных галлюцинаций и что на недавнем празднике Тела Христова, одетый в охотничий костюм и широкополую фетровую шляпу, он прорвался через солдатский кордон и бросился на ступени высокого алтаря и начал громким голосом признаваться в своих грехах, пока его с некоторым трудом не уговорили удалиться в ризницу. «В силу того, что я слышу, — замечал сэр Роберт, — можно не сомневаться, что его придётся лечить как человека, всерьёз потерявшего рассудок. В целом, конечно, слава Богу, что это случилось не в часовне Св. Георгия (Виндзор)». Хотя Отто выражал брату яростный протест против ограничений, которым он подвергался, к 1878 г. он был неизлечимо безумен, и его пришлось заключить в королевский замок в Фюрстенриде, где он и оставался до своей смерти тридцать восемь лет спустя.
Поразительная перемена происходила во внешнем виде Людвига. Стройный юноша, строго говоря, не красавец, он производил сильное впечатление на людей своим обаянием, но к тридцати годам стал тучным и неприятным человеком, выглядел старше своих лет, волосы у него редели, а усы торчали в разные стороны. Человеку, который старался изгнать из своей жизни уродство, взгляд на себя в зеркало, должно быть, приносил мучения.
Возможно, что по своему личностному темпераменту Людвиг был предрасположен к шизофрении. Даже в самом раннем возрасте у него стиралась граница между фантазией и реальностью. Его доктор сообщал, что мальчиком он воображал, будто слышит голоса, когда играл в биллиард. Всепоглощающее влияние легенды о Граале на его психику всё больше и больше подталкивало его к границе здравого смысла. Он воображал себя Лоэнгрином, надевал костюм рыцаря-лебедя. На Альпзее король устроил себе живую картину, искусственно освещённую, в которой его близкий друг принц Пауль ехал через озеро как Лоэнгрин, в лодке, приводимой в движение искусственным лебедем, под звуки музыки из оперы, а король на всё это смотрел.
Он всё более и более удалялся от общественного в мир частной жизни. Не он посещал обычные спектакли театра в Мюнхене, а театр должен был приезжать к нему, давая спектакли в его замках. Он всё больше и больше превращался в ночное существо. В феврале 1868 г. сообщали, что он вся ночь ездил на лошади вокруг Придворной школы верховой езды. Как король Испании Филипп V, он превращал ночь в день, просыпаясь в 7 часов вечера и ужиная поздней ночью, принося неудобства придворным и министрам, которые должны были с ним встречаться. Он любил ездить по ночам, и иногда видели, как он с высокой скоростью ехал по глубокому снегу в украшенных санях, с фонарём на носу, два лакея находились сзади в рискованном положении, а сам король представлял собой неподходящую фигуру с котелком на голове.
Его поведение становилось эксцентричным на грани безумия. Он обедал со своей серой кобылой и позволил ей разбить обеденные тарелки. Он приказал начальнику снабжения конюшен Гессельшверду нанять итальянских бандитов, чтобы они похитили кронпринца Пруссии, когда тот отдыхал в Ментоне. Они должны были приковать его цепями и держать его на хлебе и воде. Столь же фантастичны были путешествия, в которые он приказал отправиться своим подчинённым, чтобы они нашли какую-нибудь зачарованную страну или остров, Шангри-ла (царство вечной молодости, земной рай), где Людвиг мог бы вести жизнь, наполненную размышлениями, в полном уединении, «совершенно независимый от времён года, людей и всякого рода потребностей». По его приказу королевские посланцы обшарили весь земной шар — Тенерифе, Самофракию, Египет, даже Афганистан (который, как докладывал Людвигу один из них, Леер, «несколько напоминал наш любимый альпийский пейзаж»), Бразилию, острова Тихого океана, Норвегию; но Людвигу нужно было не просто поместье, которое принадлежало кому-то другому, но независимая земля, которую он мог бы назвать своей, земля Иоанна Предтечи. Его слуги потакали его капризам, но они не воспринимали их всерьёз, а иногда просто не обращали внимания на самые причудливые распоряжения.
Казалось, существовало два Людвига: один был обаятелен и общителен, мог проявлять активность и даже политическое чутьё, заботящийся о благополучии своего народа; другой был мечтателен, непостоянен и замкнут и всё больше погружался в мир фантазии. И второго Людвига становилось всё больше. «До тех пор, — замечал принц Гогенлоэ, — пока низкопоклонство придворных и членов правительства поощряют к этому короля, он будет считать себя полубогом, который может делать всё, что ему вздумается, и для чьих удовольствий был создан весь остальной мир — или по крайней мере Бавария».
Общественность всё больше и больше критиковала короля, которого она редко видела, его расточительные строительные предприятия, его, по слухам, связи с кавалеристами, его странный образ жизни, а министров тревожило увеличение расходов. Хотя король получал субсидию от Пруссии, его строительные проекты привели его к отчаянному финансовому положению. К началу 1884 г. он задолжал 7,5 миллионов марок. На тот момент благодаря успешной деятельности министра финансов Эмиля фон Риделя удалось договориться о займе у консорциума южнонемецких банков. Но король никак не собирался сокращать свои строительные планы, и к началу 1885 г. его долг вырос почти в два раза. Фон Ридель серьёзно возражал ему, когда он попросил ещё об одном займе, говоря ему, что государство не может этого себе позволить и что необходима экономия. Людвиг упорствовал, как всегда. «Если определённая сумма не будет найдена (примерно через четыре недели), Линдерхоф и Герренкимзее, моя собственность, по закону будут конфискованы! Если это не будет заранее предотвращено, я или тут же убью себя, или немедленно и навсегда покину эту ненавистную страну, где возможна такая отвратительная вещь». Он даже побуждал графа Дуркхейма — это было 28 января 1886 г. — собрать войска, чтобы его защитить. Агенты Людвига делали отчаянные попытки занять ещё денег — у таинственного богатого перса, у герцога Вестминстерского, у короля Швеции, у турецкого султана. Он даже рассматривал план, включающий ограбление банка Ротшильда во Франкфурте. В апреле 1886 г. газовая и водопроводная компания подали иск в суд за неуплату их счетов.
В качестве последней меры он проконсультировался с Бисмарком, и тот посоветовал ему поставить эту проблему на рассмотрение баварского парламента, который наверняка что-нибудь сделает, чтобы помочь своему королю в критической ситуации. Министры короля, понимающие, что парламент может не откликнуться, посоветовали Людвигу приехать в столицу, чтобы повысить свои шансы. Но вместо того, чтобы вернуться в Мюнхен, король планировал распустить кабинет, используя своих слуг, в частности своего цирюльника Гоппе, влиятельного в то время в придворных кругах, чтобы найти новых министров, естественно, безрезультатно. Теперь ситуация достигла критической точки. Людвиг оказался не только дорогостоящей роскошью. Он стал потенциальной политической угрозой. Он должен был уйти. Так как его наследник, его брат принц Отто, уже много лет назад сошёл с ума, возникла необходимость в регентстве; и на эту роль уговорили согласиться шестидесятипятилетнего дядю короля принца Луитпольда, он пошёл на это крайне неохотно. Баварский министр в Берлине граф Лерхенфельд объяснил ситуацию Бисмарку. «Если, — согласился Бисмарк, — король не в состоянии править из-за психической болезни, тогда с чистой совестью я не вижу оснований оставлять его на троне».
Последующее имело все элементы трагикомедии, хотя трагические моменты занимали всё большее место. Главный министр фон Лутц, не понимающий, как лучше выйти из такого неловкого и необычного положения, проконсультировался с ведущим баварским специалистом по невменяемости, доктором Бернардом фон Гудденом, профессором психиатрии в Мюнхенском университете и директором районной психиатрической больницы в Верхней Баварии. Фон Гудден, не только чрезвычайно опытный врач, но и гуманный человек, поставил королю диагноз, хотя он лично и не видел пациента, — прогрессирующая паранойя.
Медицинский отчёт, который представил фон Гудден, был использован в качестве аргумента в поддержку отстранения короля от власти. Оценка фон Гуддена, датированная 8 июня 1886 г., объявила, что король находится «на очень запущенной стадии безумия», неизлечимой по характеру, которая делала его «неспособным осуществить правление… на всю оставшуюся жизнь». В таких обстоятельствах странно, что столь окончательное суждение было вынесено без обращения к личной встрече с пациентом. «Умственные возможности его величества, — сообщала медицинская комиссия из трёх докторов, — настолько нарушены, что он не способен выносить суждения, и его мышление находится в полном противоречии с реальностью… Охваченный иллюзией, что ему принадлежит огромная абсолютная власть, и оказавшийся в полном одиночестве из-за самоизоляции, он находится на краю пропасти, как слепой без поводыря».
Но как известить «слепца» об этом приговоре? 9 июня 1886 г. специально созданная комиссия, возглавляемая бароном фон Крайлсхаймом, с четырьмя другими сановниками, доктором фон Гудденом и его ассистентом, в сопровождении медицинских санитаров, отправились в Нойшванштайн. В час ночи граф Гольштейн, назначенный одним из двух официальных опекунов короля, обнаружил, что кучер короля Фриц Остерхольцер запрягает лошадей в королевскую карету, опасаясь, что король попытается скрыться, Гольштейн приказал кучеру прекратить свои действия, сообщив ему, что правитель страны теперь принц Луитпольд. Как преданный слуга короля Остерхольцер немедленно поспешил в замок, чтобы сообщить своему господину, который ходил взад и вперёд по Залу певцов, декламируя стихи из Шиллера. Как только Людвиг услышал о происходящем, он приказал закрыть на засов ворота и усилить королевскую охрану полицией из близлежащего Фюссена.
Так что когда сырым и холодным летним днём члены комиссии наконец-то прибыли в замок, они нашли ворота на запоре, и их отказались впустить. Пока они уныло сидели в своих каретах, подъехала одна из поклонниц короля, которая сама периодически попадала в психбольницу, колоритная баронесса Шпера фон Трухес, и её впустили. Она посоветовала королю ехать в Мюнхен, но он отказался. Пока она находилась в замке (прошло семь часов, прежде чем её уговорили уехать), члены комиссии поехали обратно в Хоэншвангау, где по приказу короля их арестовала местная полиция. Их задержали в сторожке у ворот, где они без всякого удовольствия узнали, что король приказал их ослепить, выпороть и не кормить, но секретарю комиссии удалось добраться обратно в Мюнхен, где он поставил правительство в известность о ходе событий. Министры тотчас же приказали освободить членов комиссии и выпустили прокламацию, подтверждающую назначение принца Луитпольда регентом.
Если бы Людвиг яснее понимал, что его ждёт, он мог бы спастись, но он был нерешителен и бездействовал. Он не хотел возвращаться в Мюнхен, где у него всё ещё были верные сторонники. Он думал покончить с собой, но его адъютант отказался пойти в аптеку и купить требуемый яд.
В полночь 11 июня доктор фон Гудден снова появился в сопровождении своего ассистента, пяти санитаров и отряда полицейских. Опасаясь попытки самоубийства, так как разнёсся слух, что король говорил, будто выбросится из башни замка, они перехватили Людвига, когда он вышел из соей комнаты, чтобы подняться по лестнице в башню. Его отвели обратно в спальню. «Как вы можете объявлять меня сумасшедшим, если вы меня не осмотрели?» — задал он доктору Гуддену очевидный вопрос. Но доктор отвёз короля, как ему приказали, в его другую резиденцию в Берг, куда они прибыли в полдень в субботу 12 июня.
Именно в Берге, расположенном у озера Штарнберг, должен был находиться Людвиг. Место было так подготовлено, что бежать он не мог. Внешне он казался спокойным. Фон Гудден, который считал, что к пациентам нужно относиться с сочувствием, дал королю такую свободу, которую он считал разумной, разрешив ему гулять по утрам в сопровождении своих санитаров на почтительном расстоянии. Когда он хотел прогуляться вечером, фон Гудден не возражал, если он шёл вместе с ним. Когда коллеги-врачи высказали свои сомнения в разумности такого решения, он со смехом отверг их возражения.
В 6.45 вечера 12 июня король и врач вместе отправились на прогулку к озеру. Они, должно быть, странно выглядели рядом, огромный король и тщедушный доктор. Когда к восьми часам они не вернулись, организовали группу поиска. Стемнело. Начался дождь. Затем, около десяти, в мелких водах у берега нашли пиджак и пальто короля, а рядом его зонтик. Тело короля нашли в воде лицом вниз. Его часы остановились в 6.45 вечера. Фон Гудден находился в нескольких шагах в мелкой мутной воде.
Что именно произошло, остаётся тайной. История, имеющая все элементы детективной загадки, обсуждалась бесконечно. Почему были отброшены в сторону пиджак, пальто и зонтик? Сторонники Людвига, не согласные с идеей самоубийства, считают, что король был убит случайно, а может и намеренно. Некоторые говорят, что Людвига не утопили, а что доктор хлороформировал его, использовав пузырёк с хлороформом, который у него был с собой, чтобы успокоить возбуждённого короля. В последующей борьбе король умер, а врач свалился от сердечного приступа. Это кажется слишком невероятным, учитывая, что король был моложе и сильнее.
Есть вероятность, что когда король отправился на прогулку с фон Гудденом, как предполагали, планировался побег. Но единственное доказательство в поддержку этой версии основано на сообщении, что кто-то видел лодку, которая двигалась по озеру под дождём без какой-то видимой цели, а у ворот замка нашли следы от кареты. Кажется гораздо более вероятным, что, при смятении в своей душе, король внезапно отшвырнул зонтик, сбросил пальто и пиджак и прыгнул в озеро, чтобы покончить с собой. Фон Гудден попытался его спасти, но в последующей борьбе король его одолел, и оба утонули. Тела медленно прибились к мелкому месту, где их и нашли. Людвиг уже довольно давно думал о самоубийстве, и хотя возможность излечения обсуждалась, он знал судьбу своего брата Отто, и будущее должно было казаться королю невероятно мрачным.
Итак, тело короля Людвига II погребли 19 июня 1886 г. после торжественной заупокойной службы в склепе церкви Св. Михаила; позже урна с его сердцем была помещена вместе с другими останками его древнего рода в построенной по обету часовне в Альт-Оттинге.
Оказали ли своеобразный образ жизни Людвига и его нарушенная психика влияние на немецкую историю? Если бы он больше интересовался политикой, если бы он был более крепким государственным деятелем, есть небольшая вероятность, что баварская история, возможно, пошла бы по несколько другому пути; можно даже предположить, что планы Бисмарка по объединению Германии прошли бы не так гладко. И всё же даже если бы монарх был более нормальным, кажется исторически сомнительным, что он мог бы противостоять Бисмарку. То, что не удалось Австрии, вряд ли удалось бы Баварии при более сильном руководстве. Людвиг, в здравом уме или безумный, политически значил очень мало. По мере того, как его всё сильнее одолевало психическое расстройство, он всё больше удалялся в несбыточную страну, всё дальше от своего собственного королевства, но так как он был королём, наделённым властными регалиями, у него была возможность населить свой двор подобострастными любимчиками, построить замки своей мечты за счёт государственной казны и оттолкнуть в сторону политическую реальность его времени. В поисках Святого Грааля своего воображения он в конце концов стал жертвой иллюзий, которые всё больше и больше занимали его нарушенную психику.
Он был не последним королём древней Виттельсбахской династии, поскольку, как это ни смешно, его преемником был его давно уже безумный брат Отто, который, номинально по крайней мере, оставался монархом, пока его не лишил короны в 1913 г. его кузен Людвиг III, последний баварский монарх; но во многих отношениях, хоть он и сошёл с ума, Людвиг II был наверняка самой трагической и вероятно самой творческой фигурой в своей древней семье.
XV. «Немощь» политиков
В век монархии личность и здоровье правителя могли иметь чрезвычайное значение для его народа, ибо в зависимости от того, каким человеком он был и до какой степени его способность принимать решения влияла на его политику и на его суждения, улучшалось или ухудшалось благосостояние его народа. В демократический или полуреспубликанский век, когда самодержавная монархия прекратила своё существование, а конституционным монархам принадлежит весьма ограниченная власть, проблема может иметь лишь чисто формальное значение. Хотя монархия всё ещё существует в Великобритании, Голландии, Бельгии, Испании, скандинавских странах и Японии, практически королевская власть так ограничена, что монархия везде стала всего лишь бледной тенью того, чем она была. Генетический фактор, столь важный, когда европейские семьи были связаны тесными узами родственных браков, уже не имеет значения.
Реальная власть перешла в руки президентов и диктаторов, премьер-министров и политиков, но и они тоже находятся под давлением деловых и других интересов. В странах, где утвердилась демократия, обычно существует какая-либо форма конституционной процедуры, ограничение срока пребывания у власти, периодические выборы, которые могут служить защитой против крупного злоупотребления властью и положением в результате ухудшения здоровья, психического и физического, политика, занимающего ответственное положение. По большому счёту, политики, которые переживают нервный срыв или проявляют признаки зарождения безумия, — это редкое явление, и практически обычно им приходится оставлять свой пост до того, как они могут принести вред.
Значит, с исторической точки зрения сравнительно редким явлением можно считать могущественного и влиятельного политика, психическое равновесие которого сомнительно. Но такое всё-таки случается. Например, потенциальную опасность такого рода может показать случай с графом Чатемом, Уильямом Питтом Старшим, который никогда не был совершенно здоров и последний срок пребывания которого на посту был прерван серьёзным нервным срывом, временно сделавшим его жертвой маниакально-депрессивного психоза. Самоубийство британского министра иностранных дел лорда Каслрея в 1822 г. иллюстрирует другой случай глубокого психического срыва, который привёл к галлюцинациям и в конце концов к безумию.
Медицинская история Питта никогда не была безупречной, ибо он страдал от подагры, вероятно, полученной от отца и деда, и был склонен к приступам жестокой депрессии и острой бессонницы, даже в его самые славные дни в качестве руководителя Британии в годы Семилетней войны против Франции, когда его нездоровье время от времени оказывало пагубное влияние на руководство кабинетом. «Я и в самом деле совсем не в порядке, — писал он в 1754 г., — и измучен болью и заточением: эта подагра, которая, как я думал, отпустила меня, меня почти раздавила». Он нередко отсутствовал на заседаниях кабинета, и это создавало поле деятельности для интриг со стороны его коллег по кабинету; но такова была его выдающаяся репутация и политическое искусство, что молодой король Георг III, который его не любил, всё же предложил ему пост премьер-министра в 1766 г.
То, что он согласился, оказалось катастрофой, даже при условии, что он, как всегда, делал храбрые попытки скрыть свою болезнь, так как его редкие появления в британской Палате Общин, с ногами, обёрнутыми в красную фланель, опирающимся на палку, красноречиво напоминали о силах распада, которые обрушивались на его разум. Были и осложнения, возможно, воспаление почек, что означало не просто бездеятельность, но и настоящее психическое расстройство в форме маниакально-депрессивного психоза. Его любовь к показному блеску привела к такому расточительству, что он чуть не обанкротился: в апреле 1767 г. он приказал своему архитектору Дингли добавить тридцать четыре спальни к своему дому Норт Энд Хаус и приобретать любую собственность, которая может испортить вид из него. Тем не менее он сам стал настоящим отшельником, день за днём пребывающим в маленькой комнате на верхнем этаже дома, и не хотел общаться даже со своей женой. Он требовал, чтобы пищу ему оставляли в нише у двери, дабы он не видел приносивших её слуг. «Его нервы и настроение, — так писал его коллега герцог Графтон, — поражены в страшной степени, и очевидность того, как его великий ум сломлен и ослаблен болезнью… (сделали) беседу поистине мучительной».
Чатем был не единственным выдающимся английским министром, который пережил резкое ухудшение здоровья, занимая пост. У блестящего министра иностранных дел лорда Каслрея, который сыграл весьма выдающуюся роль в выработке мирного соглашения в конце наполеоновских войн, случился психический срыв в 1822 г. Похоже, кризис был спровоцирован частично стрессом, вызванным его общественной непопулярностью, но на него также сильно повлиял недавний скандал, переживание которого стало навязчивым. Скандал возник из-за ареста епископа Клогера, которого задержали в лондонской таверне «Уайт Харт» в Сент-Олбенз Плейс в Вестминстере со спущенными пурпурными епископскими штанами в скандальной близости с неким Джоном Моверли, рядовым первого гвардейского полка. Без малейшего основания Каслрей решил, что его тоже могут обвинить в гомосексуальных нарушениях. Он сказал королю Георгу IV, который справедливо отказался принять его замечание всерьёз, что он тоже в результате может оказаться «лицом, скрывающимся от правосудия», и вынужден будет бежать «на край земли». Разум Каслрея неделями был перегружен, что привело к припадкам амнезии, а почерк его стал совершенно неразборчивым. Его врачи, встревоженные исходом коварного приближения безумия, приказали, чтобы из его комнаты убрали бритвы, но 12 августа 1822 г. он перерезал себе горло перочинным ножом.
Проблемы, с которыми сталкиваются политики XX в., несколько отличаются от тех, которые стояли перед Чатемом и Каслреем. Большинство политиков, занимающих ответственные посты, не шизофреники и не безумцы, хотя мы позже увидим, что те, кто пользуется диктаторской властью, представляют исключение. Но всё же даже при этом их психический баланс может серьёзно, а иногда катастрофически, подвергаться воздействию нездоровья от которого они страдают.
Основное положение этой книги состоит в том, что существует неотделимая связь между физическим и психическим нездоровьем и что отделение одного от другого искусственно. И всё же необходимо признать, что болезнь, физическая или психическая, не представляет естественного препятствия к творчеству, политическим или научным достижениям. И Франклин Рузвельт, и Джон Ф. Кеннеди были необыкновенно талантливыми американскими президентами; математик Стивен Хокинг из Кембриджского университета служил примером того, что физическая немощь не обязательно препятствует интеллектуальной творческой деятельности самого высокого класса. И даже само безумие не обязательно бесплодно, особенно в области искусства и литературы. Из тех историй, которые мы уже рассмотрели, вполне обоснованно может сложиться впечатление, что психический сдвиг отрицательно и катастрофически сказывается на личности правителя и процессе управления. Но в некоторых обстоятельствах он может способствовать творческим достижениям. Римский император Нерон явно обладал положительными и творческими качествами. Русские цари Иван и Пётр в некоторых отношениях были блестяще творческими государственными деятелями. Богатейшее воображение баварского короля Людвига предвещало большие художественные результаты.
И всё же если мы признаем, что ни физическое, ни, до известной степени, психическое нездоровье не исключает возможности положительных достижений, в общих чертах тогда, когда физическая болезнь прибавляется к расстройству личности, общественная и политическая деятельность, особенно связанная с государственным управлением, могут быть подвержены пагубному воздействию.
«С 1908 г., — писал Хью Л'Этан в 1969 г., — одиннадцать из тринадцати британских премьеров и шесть из одиннадцати американских президентов, занимая должность, страдали от болезней, которые в какой-то степени мешали их работе». Сэр Кемпбелл-Баннерман, который ушёл в отставку с поста британского премьер-министра в апреле 1908 г., уже страдал заболеванием сосудов головного мозга, когда он на эту должность вступал (слёг в ноябре 1907 г., а с конца января 1908 г. был прикован к постели и не мог даже давать советы своим коллегам). Бонар Ло, назначенный премьер-министром 24 октября 1922 г., болел первыми стадиями рака гортани, но подал в отставку, когда понял, что у него за болезнь. Рамси Макдональд, первый премьер-министр-лейборист, являет пример политика, медленная, но постоянная телесная болезнь которого повлияла на его мыслительные способности. Вскоре после того, как было сформировано национальное правительство, которое он возглавлял, в 1931 г. у него случился небольшой приступ, а более серьёзный срыв в здоровье произошёл после того, как Англия отказалась от золотого стандарта. После двух успешных операций по поводу глаукомы в 1932 г. он медленно поправился, но жаловался на «переутомление». «Моя беда, — писал он 26 декабря, — это не простуда или что-нибудь такое, а просто полный упадок сил с ног до головы, снаружи и изнутри, никакой перемены». «Депрессия, — писал он на следующий день, — была одной из самых мрачных и затронула всё. Перегрузка наконец сказывается на мне… Я пересёк границы возраста… Я хожу, как старик, и голова моя работает по-старчески… Сколько ещё я продержусь?»
Из-за преданности своим сторонникам, чувства долга и неправильно сочтя себя незаменимым, Макдональд неосмотрительно остался. Он страдал от бессонницы и острой депрессии. «По ночам мой разум — как водоём, который хочет оставаться спокойным, но который тревожат родники на дне». Как-то в начале 1933 г. заметили, что он нервно оглядывается через плечо в Палате Общин; позже он объяснил, что в своём смятении он испугался, будто кто-то на балконе для публики хочет его застрелить. На конференции по разоружению в Женеве он потерял нить своего выступления и сказал своим слушателям: «Будьте людьми, а не манекенами». Его речи, всегда нудные, тонули в облаках претенциозной болтовни и неразберихи. «Он потерял всю свою хватку, — заметил в феврале 1934 г. секретарь Ллойда Джорджа Том Джонс, — и он продвигается от одной неясности к другой». «Всего лишь грустный пассажир на консервативном корабле», — решил Эттли; «выжил из ума и ничего не соображает» — решительно высказался Гарольд Николсон.
К середине марта 1934 г. премьер-министр признался, что он представлял собой «выработанный механизм: неразумен, не могу работать и нездоров». В надежде на восстановление сил он предпринял заграничное путешествие, но остался «очень уставшим и глупым, голова как бревно, целыми днями зеваю». Он не мог писать, забывал имена, очень неловко оговаривался и в дневнике его появились ошибки в правописании. Когда он вышел в отставку в 1935 г., ему было всего шестьдесят девять лет, но похоже, что у него была болезнь Альцгеймера, наступление которой было медленным, но верным.
Уинстон Черчилль, который вёл Великобританию к победе через мрачные и опасные дни Второй мировой войны, по личным качествам полностью отличался от Макдональда. Это был загадочный характер, больше пригодный к руководству во время войны, чем в дни мира, и его суждения не всегда были объективными из-за его психического и эмоционального склада. Сын великосветской красавицы и занятого политикой отца, он находил в основном невнимание со стороны своих родителей, и это в некотором роде обусловило его будущую карьеру. Его характерное высокомерие и крайний индивидуализм сформировались в ранней юности, породив в нём волю и всепоглощающее желание добиться успеха. Его политическая карьера, отличающаяся колебаниями, частично была ответом на травмы детства. Как и некоторые другие представители его рода, включая первого герцога Мальборо, он был циклотимиком, легко переходящим от одного настроения к другому, меняя подъём на отчаяние, которое держало его в плену длительные периоды времени. Его карьера достигла своего апогея в годы яркого лидерства во Второй мировой войне. Когда она кончилась, он казался связанным китом, при этом стареющим китом.
Даже в военные годы появлялись некоторые признаки постепенного замедления его умственных процессов, вряд ли неожиданные ввиду того громадного напряжения, с которым он работал, а также нескольких периодов нездоровья. С ноября 1943 г. по август 1944 он три раза переболел пневмонией с последующим истощением. «Одному Богу известно, — писал лорд Аланбрук в своём дневнике 4 декабря 1941 г., — где бы мы были без него, но одному Богу известно, куда мы придём с ним». 28 марта 1944 г. Черчилль казался «совершенно неспособным сосредоточиться больше, чем на несколько минут, и без конца отвлекался». К декабрю 1947 г. его личный врач лорд Моран считал, что Черчилль «живёт прошлым и нетерпим к переменам… он почти незаметно сползал в старость». Даже уже в апреле 1941 г. он выглядел «очень подавленным и отчаянно уставшим — почти в забытье. Речь его была довольно небрежной и очень медленной… Это была очень гнетущая беседа. Общая атмосфера низкопоклонства и старческое отсутствие хватки и, очевидно, понимания заставило меня уйти домой первый раз в убеждении, что мы не можем выиграть войну». Но Черчилль обладал способностью восстанавливаться с триумфом. «Либо он на гребне волны, либо в яме, — писал генерал Исмей в 1942 г., — или чересчур хвалит, или чертовски злится». Его природная цепкость, харизма его руководства, нечто почти гениальное в его натуре позволило ему удержать «чёрного пса» депрессии в достаточной степени на цепи, чтобы привести народ к победе. Но после окончания войны это была уже другая история. В июле 1945 г. к власти пришла партия лейбористов, но Черчилля вернули на пост в 1951 г. в октябре. Здоровье его уже разваливалось, и это влияло на его мыслительные процессы, о чём недвусмысленно написал его врач лорд Моран в своих сильно раскритикованных воспоминаниях. Он пережил серию небольших ударов — в августе 1949 г., в феврале 1952 г. и в июне 1953, что привело к небольшому дефекту лица и нарушению речи, «с трудом понимал, что от него требовалось, ему трудно было собраться с мыслями или сочинять свои речи». Последний удар случился на обеде в честь премьер-министра Италии 23 июня 1953 г., но хотя было ясно, что он пережил новый, в каком-то смысле лишающий его дееспособности, приступ, его врачи и политики объединились, чтобы скрыть от общества серьёзность заболевания, даже хотя «Дейли миррор» задала в середине августа 1953 г. вопрос, «достаточно ли здоров сэр Уинстон Черчилль, чтобы нами руководить?».
За фасадом он был только тенью себя прежнего. Речь его была невнятной, и он с трудом ходил. Он мало что читал кроме романов, много времени проводил, играя в безик, ему трудно было сосредоточиться, и он всё чаще забывал имена и происшествия. Хотя он признавал, что компетенция его ослабевает, он не готов был уйти в отставку, частично потому, что не очень-то верил в своего вероятного преемника, Антони Идена, который сам был болен, а кроме того, ему не хотелось переходить в Палату Лордов. Хотя его активная политическая жизнь кончалась, никто не чувствовал себя в состоянии сказать ему, что он должен уйти в отставку. «Таким образом, три месяца в Британии не было ни действующего премьер-министра, ни министра иностранных дел». Но на конференции консервативной партии в Блэкпуле он выступил так, что самые близкие к нему люди поняли, что его отставка требовалась в интересах всей страны. 6 апреля 1955 г. он вышел в отставку. Хотя он просуществовал ещё десятилетие, настоящая жизнь его фактически кончилась.
Безусловно, Черчилль был прав, сомневаясь относительно своего преемника Антони Идена, ибо хотя тот обладал большими талантами, его характеру была присуща основополагающая нестабильность, которая усилилась приступом серьёзной болезни. «Отец Антони, — как выразился Р.А. Батлер, — был безумный баронет, а мать — очень красивая женщина. Вот и Антони — наполовину безумный баронет, наполовину красивая женщина». Его мать сначала хотела выйти замуж за Фрэнсиса Ноуллза, но её отговорил будущий Эдуард VII. Женщина, чуждая условностям — ходили слухи, что на самом деле отцом Антони был Джордж Уиндем, — она была бездумна и экстравагантна. «Своим распутством и неблагоразумием она не только уничтожила Уиндлстон (семейный дом), но и полностью отдалила от себя детей».
Отец Антони, сэр Уильям Иден, которого не без оснований называли «зловредным баронетом», был человеком с исключительно дурным характером и таким нетерпимым и несдержанным, что кое-кто считал его почти ненормальным. «Опять эта чёртова баранина», — кричал он перед тем, как выбросить в окно поданное на завтрак баранье филе. Разносторонне талантливый, он был лучшим наездником графства, одним из лучших стрелков, боксёром-любителем высокого класса и к тому же культурным и образованным человеком. «Природа, — писал его сын Тимоти, — осыпала его щедрой рукой одинаково своими дарами и своими проклятиями, и он получил их все без всяких ограничений и без всяких ограничений их расходовал».
Несмотря на свои таланты, ум, способности и обаяние, Антони Иден так и не избавился в нужной мере от унаследованных особенностей и от травм, оставленных воспитанием. Когда он был министром иностранных дел в правительстве Черчилля в 1952 г., ему потребовалась операция на жёлчном пузыре, но, к несчастью, «нож соскользнул» и случайно перерезал жёлчный проток, в результате чего у него сильно поднялась температура. Последовала вторая операция, от которой он чуть не умер. По совету американского специалиста доктора Ричарда Каттелла его прооперировали третий раз, чтобы освободить жёлчный проток, операция продолжалась восемь часов. Хотя операция восстановила циркуляцию, у него с тех пор случались приступы острого обструктивного холангита или периодическая лихорадка Шарко. Когда Иден стал премьер-министром, он формально не был болен, но здоровье его было ненадёжно, так что в напряжённые моменты он становился чрезвычайно раздражительным и подозрительным, а сила суждения ослаблялась.
Эти физические и невротические слабости могут в какой-то степени объяснить его поистине катастрофический подход к Суэцкому кризису 1956 г. Некоторые из его коллег утверждали, что он «напичкан лекарствами». Действительно, врачи периодически давали ему амфетамины и транквилизаторы, которые могли провоцировать странную смену его настроений. Неврофизические последствия закупорки жёлчного протока были ещё важнее, а сочетание физической болезни и нагрузок, связанных с политической напряжённостью, привело к самым худшим результатам в личном и в политическом плане.
Кризис произошёл в конце августа 1956 г., когда у Антони Идена сильно поднялась температура, а за этим последовали периоды расслабления и возбуждения. «Суэцкий канал, — как выразилась его жена Кларисса, — протекал через гостиную». Хотя собственные врачи Идена не могли определить, то ли он очень болен, то ли просто страдает от острого переутомления, по приглашению Иана и Энн Флеминг Идены поехали для восстановления здоровья в их дом, «Голденай», на Ямайку. Это дало повод зловредному Рандолфу Черчиллю заметить, что единственная параллель тогдашнему пребыванию английских войск в Египте — это отказ Гитлера убрать свою армию от Сталинграда, но «Гитлер не проводил зиму на Ямайке». Когда премьер-министр вернулся, стало очевидно, что он не способен к эффективному выполнению своих обязанностей. «Какое-то мгновение он смотрел прямо на меня, — рассказывал правительственный чиновник, — …в его глазах я увидел человека, одержимого всеми бесами». 8 января он вышел в отставку и его сменил Гарольд Макмиллан, чья собственная отставка впоследствии была вызвана плохим самочувствием из-за болезни мочевого пузыря; правда, об этом решении он потом пожалел.
Этот краткий обзор выявляет ряд тревожных особенностей. Похоже, в подходе к власти и в проведении политики влияние характера может иметь такое же, если не большее, значение, как и провозглашённые принципы, которым политики обещают следовать. Трудно, порой даже невозможно подкрепить этот тезис ссылками на особые случаи или конкретные решения, но существуют глубины, скрытые от взгляда общественности, которые временами приводят к неправильным мыслям и некомпетентным решениям.
Предположение, что о политическом деятеле можно судить независимо от его психического или телесного здоровья или нестандартных особенностей его личной жизни, оказалось, похоже, исторически ошибочным. Даже поведение Ллойда Джорджа на посту премьер-министра и лидера либеральной партии было как-то связано с его сексуальными неосторожностями; на политическую деятельность Асквита повлияли личные особенности его характера. Циклотимическая натура Черчилля сделала его подходящим лидером во время войны, хотя даже при этом он несколько раз катастрофически неправильно оценивал ситуацию, поддавшись эмоциональным побуждениям. Отпечаток наследственности и телесные болезни Антони Идена превратили Суэцкий кризис в личное и общественное несчастье.
Обзор подводит к выводу, что процесс продвижения на высокий пост и долгое пребывание в должности может повлиять на человека таким образом, что он как политик отделяется от избирателей и склоняется к ошибочным оценкам политических реалий. Долговременное пребывание Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра привело к утрате ею политической прозорливости и, очевидно, породило всепоглощающее стремление сохранить власть над кабинетом, партией, страной.
Британские премьер-министры, страдающие от болезней, мешающих им с должным качеством исполнять свои обязанности, обычно рано или поздно сами уходили в отставку; так или иначе, они обладают гораздо меньшей властью, чем соответствующие им по должности американцы. Опыт Америки по большому счёту оказался менее удачным, так как власть, которую получает американский президент, даёт больше возможности неблагоприятно влиять на управление, особенно если президент страдает от физической болезни, могущей повлиять на его умственные способности. Это особенно ярко проявилось в последние годы президентства Вудро Вильсона.
Добившись успеха, президент Принстонского университета, Вильсон, при том, что на его воспитание повлияла трудная домашняя обстановка, придав его характеру определённую неуравновешенность, был безусловно человеком высоких идеалов и выдающейся интеллектуальной силы. Однако его здоровье давно вызывало опасения, так как с 1874 до 1910 г. он уже переболел двенадцатью серьёзными болезнями (среди них три нервных срыва) и у него рано начали проявляться признаки артериального перерождения. Когда в 1913 г. Вильсон сменил Вильяма Говарда Тафта на посту президента, его тогдашний врач, Виер Митчелл, понимающий, в каком состоянии здоровье Вильсона, выразил сомнения относительно того, сможет ли он выдержать срок.
Хотя в первые годы своего президентства Вудро Вильсон как будто находился в хорошей форме, проталкивая важные внутренние законы, появлялись некоторые предупреждающие сигналы в виде слепящих головных болей, болезни почек и кровоизлияния в глаз, что свидетельствовало о гипертоническом сосудистом заболевании. Похоже, что ухудшение здоровья подчеркнуло некоторые характерные особенности личности. Его неспособность к гибкости, неготовность к компромиссу, которые уже приводили к ожесточённым спорам, когда он возглавлял Принстонский университет, проявлялись ещё сильнее. Вильсон втянул Америку в 1917 г. в Первую мировую войну, и та роль, какую он сыграл на последующей мирной конференции в Париже в 1919 г., носила явный отпечаток ослабления как его физического здоровья, так и умственных способностей.
К 1919 г. стало ясно, что у Вильсона «быстротекущие познавательные и эмоциональные изменения на основе гипертонии и болезни мозговых сосудов» прогрессируют по мере того, как уменьшался приток крови к мозгу. «Я никогда, — замечал один из его близких сотрудников Гилберт Клоуз, — не видел президента в таком трудном состоянии разума, как сейчас. Даже лёжа в постели, он проявляет странности». Раздражительность, некоторая потеря памяти, резкое сужение поля зрения, возрастающие капризность и скрытность порождали трудности при общении с партнёрами на мирной конференции — Клемансо и Ллойдом Джорджем, привели к разрыву с его доверенным советником полковником Хаузом. Казалось, он даже неспособен объяснить американскому народу свои политические шаги. «Отсутствие контакта с народами и их руководителями, — говорил Герберт Гувер, — отделяло его от действительности, на основе которой приходят к разумным компромиссам».
Особенно Вильсон не был подготовлен к тому, чтобы понимать детали обсуждаемого, и ему не удалось их понять, он сосредоточил всё своё внимание, почти до одержимости, на предложении образовать Лигу Наций и на её уставе, совершенно поглощённый нереальной идеей решить таким образом все важнейшие политические и экономические проблемы мира. Идеализм перерос в потерю чувства реальности. Он уже устал, а здоровье ещё ухудшилось, когда он серьёзно заболел или страшной формой инфлюэнцы, или энцефалитом, которые свирепствовали в Европе и Америке с 1917 до 1919 г.
После того, как он выполнил свою миссию, подписав мирный договор, он отправился домой полной развалиной. В конце сентября, выступая в Пуэбло, он еле взобрался на трибуну и в основном его речь была «бормотанием; он изрекал некоторые слова так, как будто раньше никогда их не произносил. Он делал длинные паузы. Ему трудно было следить за ходом своей мысли. Это была карикатура на его обычное блестящее исполнение и безупречную логику».
Вскоре после этого с ним случился сильный удар, поставивший под угрозу зрение и парализовавший левую сторону. Здравый смысл и политическая мудрость должны были бы подсказать ему, что надо уходить в отставку, но его врач Кэри Грейсон, подстрекаемый второй женой Вильсона Эдит Голт, скрыл от народа истинное состояние президента, поставив неправильно понятую личную преданность выше национальных интересов. Может, и сам президент не осознавал серьёзности своей болезни, у него вполне могла быть анозогнозия, непонимание болезни, что является симптомом определённых мозговых нарушений, таких как тромбоз или сгусток крови в правом мозговом полушарии.
Решение оставаться на посту было и трагическим, и катастрофическим как с личной, так и с политической точки зрения, ибо это означало, что в течение двух лет, с октября 1919 по март 1821 г. Америка практически оставалась без руля. Рулевой, под усиленной защитой своей жены и врача, жил в относительной изоляции, отгороженный от любого действительного контакта с окружающим миром. Семь месяцев он не встречался с кабинетом, месяц был не в состоянии читать газеты. Мышление его было спутано, иногда он несколько часов подряд просто смотрел в пространство. Когда наконец Вильсон встретился с кабинетом 13 апреля 1920 г., он, по мнению Герберта Гувера, «полностью не восстановил свою умственную и физическую энергию». В результате его настигла органическая потеря интеллектуальных способностей; он стал жертвой деменции. Он стал упрямым, ворчливым, потерял хватку и эмоциональную устойчивость. Когда Стоктон Астон читал ему осенью 1920 г., президент «начинал рыдать… когда, казалось бы, было не из-за чего». Сенат уже отказался ратифицировать основной пункт его политической программы — образование Лиги Наций.
Вильсон не искал переизбрания, поддерживая притязания своего зятя Уильяма Макаду, но неудивительно, что убедительную победу одержал Уоррен Г. Хардинг. Президентство Хардинга было отмечено коррупцией и скандалом, которые он пытался скрыть или хотя бы завуалировать карточной игрой и пьянством. Не вполне ясно, была ли его преждевременная смерть вызвана также и стрессом, но он мог способствовать болезни коронарных сосудов, которая закончилась апоплексическим ударом. Хардинг умер 2 августа 1923 г. Вильсон его пережил и скончался 3 февраля 1924 г. Болезнь Вильсона имела катастрофические последствия для него самого и для его страны, хотя и как личность, и как президент он несравнимо превосходил Хардинга.
Слабое здоровье Вильсона в конце концов сказалось пагубным образом, но в первые годы оно не влияло на его политические оценки. Не произошло этого и с Франклином Д. Рузвельтом, деятельность которого показала яркую победу духа над телом. Он родился в известной и богатой семье, поскольку его дядя Теодор был президентом в начале столетия; женился он на своей шестиюродной сестре Элеоноре, очаровательной и умной женщине, в 1905 г., когда ему было двадцать три года. Он стал юристом и начал политическую карьеру сенатором от демократической партии в сенате штата Нью-Йорк в 1910 г. Энергичный, волевой, красивый, он был ярым сторонником Вильсона и безуспешно баллотировался в качестве вице-президента в 1920 г.
В августе 1921 г. Франклин с семьёй поехал в отпуск в свою летнюю резиденцию на острове Кампобелло в Нью-Брансуике в Канаде. После дневной прогулки на яхте он помогал тушить лесной пожар на соседнем острове и, чтобы охладиться, искупался в ближайшем озере. Вскоре, поплавав в холодных водах залива Фанди, Рузвельт заболел, у него была высокая температура и боли в спине и ногах, что оказалось симптомами инфекционной болезни, полиомиелита. По соседству проводил отпуск очень известный восьмидесятилетний хирург У.У. Кин, который за двадцать восемь лет до этого сыграл решающую роль в спасении жизни и политической репутации президента Гровера Кливленда.
Кин, который не знал полиомиелита или детского паралича, поставил Рузвельту диагноз «повреждение спинного мозга» и рекомендовал интенсивный массаж — самое худшее при такой болезни. Через две недели Рузвельта, всё ещё испытывающего сильные боли, так как паралич распространялся, а не проходил, стал лечить врач из Бостона Роберт У. Ловетт, который поставил правильный диагноз и отменил массаж.
Рузвельт выздоровел только частично. Он пробовал все возможные гимнастические упражнения для укрепления мышц, много времени проводил в Уорм-Спрингс в Джорджии, где тёплый бассейн с постоянной температурой 88° по Фаренгейту приносил ему некоторое облегчение. Но работа ног так и не восстановилась, он не мог ходить без тяжёлых металлических скоб и стоять без посторонней помощи. Психологически болезнь была для него испытанием, которое он встретил стойко и решительно. «Болезнь Франклина, — писала Элеонора Рузвельт, — на самом деле оказалась скрытой удачей, потому что она дала ему силы и мужество, которых у него раньше не было. Ему пришлось продумать жизненные основы и выучить величайший из всех уроков — бесконечное терпение и никогда не прекращающуюся настойчивость».
В июне 1924 г. он поехал, чтобы выдвинуть А.Л. Смита кандидатом от демократической партии на пост президента; это кончилось неудачей, но его мужественное появление на конвенции в инвалидной коляске вызвало всеобщую похвалу и оказалось долгосрочной предварительной стадией к выдвижению его собственной кандидатуры в 1932 г.
Нет необходимости перечислять достижения Франклина Д. Рузвельта: «Новый курс», возрождение американской экономики, сочувствие к обездоленным и искалеченным, положение которых он, наверное, хорошо понимал в силу своего собственного состояния, его роль, в мировой политике, высшей точкой которой было вступление Америки во Вторую мировую войну в 1941 г. И всё же, видимо, рано или поздно болезнь должна была собрать свою дань. Даже до того, как его поразил последний недуг, он не отличался отменным здоровьем: у него был брюшной тиф в 1912 г., аппендицит в 1914 г., тонзиллит в 1916 г., ангина в 1918 г., воспаление лёгких в 1918 г., а в 1919 г. ему вырезали гланды, что, как думал кое-кто, понизило сопротивляемость к полиомиелиту.
Президентская нагрузка была каторжной, и к 1943 г., если не раньше, его силы начали сдавать, а анализ стал менее точным. Насколько ухудшение здоровья влияло на принятие решений непосредственно перед и сразу же после вступления Америки во Вторую мировую войну, установить трудно, но были намёки на угасание сил. Суждения становились менее определёнными, что и показала его непоследовательная политика по отношению к Японии перед нападением на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 г. (что, впрочем, дало ему возможность оправдать вступление Соединённых Штатов во Вторую мировую войну).
Признаки стали более явными после Тегеранской конференции в 1943 г., где он установил сердечные отношения со Сталиным, что может частично объяснить политику, которой он следовал в Ялте два года спустя. После возвращения он казался уставшим до крайности, и «было впечатление, что он совершенно без сил». Молодой кардиолог доктор Хауард Бруен провёл обследование в национальной больнице в «Бетезде» в конце марта 1944 г., показавшее, что президент страдал от обменной гипертонической энцефалопатии, которая проявлялась временным помутнением сознания и потерей ориентации. Его лицо казалось серым, кончики пальцев и губы выглядели синими, состояние верхних дыхательных путей говорило о хронической болезни лёгких, застойной сердечной недостаточности и гипертонии. Его врач, доктор Росс Макинтайр, между прочим, рекомендованный ему врачом Вудро Вильсона Кэри Грэйсоном, в той или иной мере не дал хода отчёту, так что в результате неверных сообщений Макинтайра о здоровье президента общественность оставалась намеренно не информированной, как это ранее было с Вудро Вильсоном.
Но энцефалопатия и сопровождающие её болезни постоянно ослабляли способность Рузвельта к руководству и влияли на его политические и военные оценки. Признаки этого уже проявлялись, хотя и периодически, во всё возрастающей усталости, затуманенном сознании, в некотором ослаблении интеллекта, отклонениях от норм поведения; «рот, — как выразился Джим Бишоп, — ненамеренно остаётся открытым, и мыслительные процессы иногда остаются незавершёнными, некоторые предложения повисают в воздухе». Нелегко привести конкретные примеры того, как это повлияло на общественные дела, но его поддержка плана Моргентау о будущем Германии на Квебекской конференции в конце августа 1944 г., вероятно, была одним из таких случаев. Рузвельт вне сомнений был уже очень больным человеком, когда он согласился с выдвижением своей кандидатуры на беспрецедентный четвёртый срок и был избран.
Так что когда он в марте поехал в Ялту для встречи со Сталиным и Черчиллем, предзнаменования были неважные. «Он был, — говорил доктор Роджер Ли из Бостона, — вспыльчив и становился очень раздражительным, если ему приходилось надолго сосредоточиваться. Если возникало нечто, что требовало обдумывания, он менял тему. Кроме того, он плохо спал». Лорд Моран, сопровождавший Черчилля, отзывался о Рузвельте как об «очень больном человеке. У него присутствовали все симптомы мозгового артериосклероза, зашедшего далеко, так что, по моему мнению, он не проживёт больше нескольких месяцев». «Корделл (Халл) и я, — писал Джим Фарли, — согласились что он болен… и нельзя требовать, чтобы он принимал решения, важные для его страны и мира». «Он выглядел мертвецом после возвращения из Ялты» и погрузился в очевидную апатию; его обращение к конгрессу, прерывистое, бесполезное и запутанное оставило гнетущее впечатление.
Были ли действия и политика Рузвельта проявлениями его болезни — это вопрос спорный. Хотя задним числом видимая готовность уступать Сталину и передать ему контроль над Восточной Европой может показаться плохо продуманной, возможно, он владел материалом лучше, чем предполагали комментаторы позже. Кажется, в своём отношении к Сталину он проявил понятную наивность, но по крайней мере в тот момент, возможно, продолжал служить своей стране как нужно. 12 апреля он умер от обширного удара, которого давно уже следовало ожидать, в Уорм-Спрингс в Джорджии. В то время как его исключительность в качестве политического лидера бесспорна, так же бесспорно и то, что болезнь подтачивала его интеллект.
Некоторые из его первых помощников были ещё в худшем состоянии, чем президент. По странной психологической причуде Рузвельт назначил на государственные посты людей, которые, будучи способными и умными политиками, в некоторых отношениях отличались ещё более слабым здоровьем, чем он сам. Посмотрим, например, кто занимал пост министра военно-морского флота при Рузвельте и его преемнике Трумэне. Клод А. Суонсон, назначенный министром в 1933 г., был настолько тщедушен, что почти не мог стоять без опоры, нуждался в помощи при входе и выходе из кабинета, не мог держать сигарету и говорил так непонятно, что его почти никто не слышал и не понимал. «В своём физическом состоянии, — писал Гарольд Икес о церемонии в Белом Доме, в январе 1937 г., — он не может долго стоять. Кончилось тем, что ноги у него начали ослабевать, а трость скользнула по гладкому полу. Он упал в глубоком обмороке». «То, что Суонсон продолжает оставаться членом кабинета, — замечал он позже, — когда все знают, что он ни физически, ни умственно к этому не пригоден, должно быть, производит плохое впечатление». «В течение двух или трёх лет, — писал Икес, когда он умер в июле 1939 г., — Суонсон был не столько жив, сколько мёртв. Он месяцами не в состоянии был присутствовать на заседаниях кабинета или приходить на службу, много недель пролежал в больнице совершенно беспомощный. Он сам не может войти в зал заседаний кабинета и вынужден сидеть там до тех пор, пока не приходит его адъютант, поднимает его со стула и помогает доплестись до машины». Но несмотря на свою телесную немощь, а может благодаря ей, Суонсон был на редкость напористым и влиятельным политиком, он убеждал Рузвельта в необходимости начать войну с Японией после бомбардировки канонерской лодки «Пэней» в 1937 г.
Не в лучшей форме пребывали и непосредственные преемники Суонсона. Фрэнк Нокс умер от сердечного приступа в апреле 1944 г. В 1947 г. Трумэн назначил Джемса Форрестола, который ранее привлёк одобрительное внимание Рузвельта. Воинствующий антикоммунист и антисемит, он в конце концов не выдержал напряжения. Бессонница, проблемы с пищеварением и тревога так его измучили, что он всё больше поддавался паранойе, стал таким до того подозрительным, что не допускал посетителей без строжайшей проверки. Он начал думать, что «жучки» были даже в пляжных зонтиках. Колеблющийся, нерешительный и подавленный, он выбросился из окна с шестнадцатого этажа военно-морского госпиталя США в Бетезде 22 мая 1949 г. и разбился насмерть.
О военном министре в правительстве Рузвельта в 1940 г. говорили как об «очень усталом дряхлом старике» семидесяти трёх лет; жёсткий и непреклонный, страдающий бессонницей, он занимал, несмотря на угасающие силы свою должность до сентября 1945 г. Его коллега, государственный секретарь Корделл Халл, который ушёл в отставку в возрасте семидесяти трёх лет после двенадцати лет службы, страдал от истощения, артериосклероза и диабета; он был так чувствителен к холоду, что у него в кабинете температура была как в теплице. Его суждения были не всегда надёжны, но обычно его считали рупором президента.
Ещё большее влияние на мировую политику оказывал личный советник Рузвельта Гарри Хопкинс. Гарольд Икес заметил 20 сентября 1941 г.:
«Билл Буллитт с печалью сказал мне, что президенту нужен около него кто-то зависимый от него и обязательно бледный, больной и измождённый. Одним таким человеком был Луи Хау, а теперь Гарри Хопкинс. Билл утверждал, что эти двое были физически похожи друг на друга, изнурённые, сутулые и худые».
Хопкинс был очень тесно связан с Рузвельтом со времён «Нового курса» и до самого конца жизни президента, когда совет Хопкинса, возможно, имел решающее значение при принятии решений в Ялте. Когда Моран встретил его в Вашингтоне в декабре 1941 г., он был потрясён его видом. «Его губы такие бледные, — писал он, — как будто у него внутреннее кровотечение, кожа у него жёлтая, как натянутый пергамент, а веки оставляют щёлочки, так что видно только, что глаза у него всё время бегают, как будто его мучит боль». У Хопкинса была длинная история болезней: язва желудка и двенадцатиперстной кишки в 1936 г., рак в 1939, жировая диарея, белковая недостаточность, и в конце концов он умер от гемохроматоза, нарушения обмена веществ, влияющего на печень. Болезнь лишила Хопкинса сил и сделала его раздражительным и импульсивным в суждениях.
По мнению многих, в лице президента Джона Ф. Кеннеди Америка пережила возрождение. Молодой, энергичный, красивый, из хорошей семьи, он обладал харизмой, которой нелегко было противостоять. С годами блеск несколько потускнел. Он был закоренелым бабником: «Интересно, — заметил он как-то удивлённому, если не сказать ошарашенному Макмиллану, — как это бывает у тебя, Гарольд? Если у меня три дня нет женщины, у меня страшно болит голова». Его убийство сыграло положительную роль в его политической и личной репутации, может быть, не вполне справедливо. Ибо его привлекательная внешность, казалось бы, настоящего мужчины скрывала непрерывную физическую слабость и острую боль, последствием чего вполне могло быть то, что его политические решения не всегда бывали вполне взвешенными. Во время инцидента в Заливе Свиней (Плайя-Хирон) Кеннеди поддался убеждению, что Куба как политический сателлит Советской России представляла угрозу для безопасности Америки. Он знал, что ЦРУ обучает кубинских эмигрантов в Гватемале, и одобрил решение, в противовес совету экспертов, начать вторжение на остров; но высадка в Заливе Свиней оказалась роковой ошибкой, кубинцы разгромили предполагаемую оккупационную армию. Кеннеди предупреждали, что не стоит осуществлять эту, как сказал Дин Ачесон, «безумную идею», но он допустил грубый просчёт. Его решение поехать в Даллас в 1963 г. было непродуманным и даже безрассудным, так как он хорошо знал, что это центр сильных антиправительственных настроений и что визиты Эдлая Стивенсона и сенатора Фулбрайта чуть не привели к беспорядкам. Он только заметил своему брату, что от этого поездка станет более захватывающей.
Кеннеди всё время испытывал боль, что требовало применения стероидов, местной анестезии и стимуляторов. Он ушёл из Принстонского университета, не закончив курс, из-за вирусного гепатита. Сначала его признали непригодным к военной службе, но в конце концов приняли во флот, где травма, которую он первоначально получил, играя в футбол в Гарварде, проявилась, когда японский истребитель протаранил его корабль. Впоследствии ему нарастили левую пятку, и он носил скобу с зубьями.
Что ещё более важно — он страдал от нарушения функции надпочечников, болезни Аддисона, которая приводила к слабости и неспособности бороться с инфекцией. Это могло сказываться на умственных процессах. Он всегда очень старался скрыть свои физические немощи. Чтобы не было заметно начало болезни Аддисона, он загорал и пользовался лосьоном для загара. Во время президентских выборов в 1960 г. Линдон Джонсон, на недавний сердечный приступ которого Кеннеди намекнул в речи, произнесённой на съезде демократической партии в Лос-Анджелесе, в ответ сообщил, что у Кеннеди болезнь Аддисона. В то время сторонники Кеннеди яростно опровергали это, но утомляемость, эмоциональная неустойчивость, депрессия и раздражительность, от которых он страдал, были характерными симптомами этой болезни. Частично он мог бороться с нею, принимая стероиды, но это грозило психиатрическим осложнением. Его лечили стимуляторами, такими, как прокаин с амфетаминами, не понимая потенциально опасных побочных действий болеутоляющих средств, без которых он не мог жить до конца своих дней.
Его главный медицинский советник стал затем модным врачом в Нью-Йорке, это доктор Макс Джейкобсон, который лечил многих знаменитостей, в том числе Трумэна Капоте и Теннесси Уильямса. Джейкобсон, которого Кеннеди прозвал «Доктор Фил Гуд» («будь здоров») сопровождал Кеннеди в Вену, где тот встречался с советским руководителем Хрущёвым. Есть причина предполагать, что лекарства, которые применял Джейкобсон, оказывали вредное воздействие, и в апреле 1975 г. Совет регентов штата Нью-Йорк отобрал у него лицензию по обвинению в нарушении врачебной этики по сорока восьми пунктам.
Можно было бы поразмышлять о проблемах психологии и здоровья, с которыми сталкивались и последующие американские президенты. Например, возможно, у Ричарда Никсона было что-то от мании величия. «Глянь, — сказал он спутнику в президентском самолёте, когда он кружил над Вашингтоном и Белым домом, — глянь на всё это! И это всё моё!» Возможно, обращение миссис Рейган к астрологии подводило итоги власти чрезвычайно популярного, но пожилого президента, чьё влияние на дела в стране давно казалось минимальным. Но достаточно уже сказанного, чтобы проиллюстрировать, что даже в Стране Свободы самые высшие должностные лица были далеко не свободны от недостатков.
Проблемы здоровья не тревожили Макензи Кинга, премьер-министра соседней с Америкой Канады, но Кинг был, как показывает его дневник, жертвой психологического отклонения в форме странных верований — занятие спиритизмом, столоверчением, чёрной магией — которые целиком определяли его личную жизнь. Категорически утверждалось, что эти увлечения не оказывали значительного влияния на его политические решения, но кажется более чем вероятным, что бывали времена, когда они просачивались из его исключительно личной жизни в общественную область.
Уильям Лайон Макензи Кинг был, вероятно, самым выдающимся канадским политиком XX в., и он оставался в премьерском кресле дольше, чем любой другой премьер-министр Содружества, включая сэра Роберта Уолпола. Несмотря на кризисы и деления внутри его партии, не будучи выдающимся оратором и не обладая личной харизмой, он сплотил канадскую либеральную партию в прочную политическую фалангу. Со стороны его карьера казалась почти непревзойдённой.
И всё же по характеру Кинг был загадочной и сложной личностью. В ранние годы его жизни и в сущности ещё долго после своей смерти в 1917 г. главной фигурой для него была мать, Изабел Грейс, дочь Уильяма Лайона Макензи, руководителя восстания 1837 г., от кого Макензи Кинг, возможно, унаследовал глубокий интерес к либеральным и социальным реформам. Похоже, что даже в молодости он был весьма одинок. Он интересовался женщинами и, как У.Ю. Гладстон, проявлял некоторый интерес к перевоспитанию проституток, на уловки которых, возможно, время от времени попадался. У него была пылкая, но очевидно не гомосексуальная дружба с товарищем по учёбе Бертом Харпером, который рано умер: он утонул, пытаясь спасти конькобежца, и это было для Макензи Кинга неподдельным горем. После этого он был в основном одиночкой, у него было мало близких друзей, жил он за дверями Лориер-Хауса и в своём сельском поместье в Кингзмире, чувствуя там себя помещиком.
Он был реалистичным и даже беспощадным политиком, но настоящим миром для него стали внеземные пришельцы из средних веков, мир духов, которых он вызывал при помощи медиумов, постукиванием по столам, сновидениями, магическими числами. На земле единственной его привязанностью был ирландский терьер Пэт. «Крошка Пэт, — писал он в 1932 г., — вышел из спальни и облизал мне ноги — милая добрая душа, он почти человек. Я иногда думаю, что он — это утешитель, которого мне послала моя дорогая мама». «Крошка Пэт, — писал он в 1939 г. в день, когда Британия объявила войну Германии, — …маленькая ангельская собачка», которая когда-то станет «маленьким собачьим ангелом». Прежде чем достичь этого звания, Пэт прожил ещё два года и умер в преклонном возрасте семнадцати лет. Когда он умирал, Кинг пел ему вслух «Спасён в объятиях Иисуса» («когда я пел, я смотрел на фотографию моей дорогой мамы»). Потом появился другой Пэт, который выполнял ту же роль. «Перед тем как лечь спать, — писал он в канун Рождества 1944 г., — я немного побеседовал с Пэтом в его корзине. Мы вместе говорили о Младенце Христе и как его положили в ясли». Когда в 1947 г. король Георг VI оказал Кингу высокую честь, наградив его орденом «За заслуги», Кинг признался в своём дневнике, что его собаки были более достойны этой чести, чем он сам.
Навязчивый интерес к спиритуализму проявился сравнительно поздно в его политической жизни, так как только во время избирательной кампании 1925 г., когда Кингу был уже пятьдесят один год, он встретил медиума, миссис Л. Блини из Кингстона, которая оказала огромное влияние на его житейскую философию. «Разговор с этой женщиной, — Писал он, — оказывает странное влияние, он очень приблизил меня к дорогим мне людям в великом загробном мире, который сейчас мне представляется скорее великим вездесущим, здесь и теперь». «Вы благополучно, — сказала ему миссис Блини, намекая на выборы, — перейдёте в чистую безупречную атмосферу, где снова будете дышать свежим сладким воздухом свободы и справедливости после тяжёлой борьбы». Кинг решил, что эти слова — «воистину удивительное видение ситуации, которую можно было предсказать только при помощи спиритизма».
Через семь лет на сеансе в Броквиле, организованном вдовой канадского сенатора миссис Фулфорд, он встретил миссис Этту Райт, тоже медиума, которая связала его с ушедшими: с его матерью, сэром Уилфридом Лориером и другими политиками. «Не может быть совершенно никакого сомнения, — писал он, — что лица, с которыми я разговаривал, были мои близкие и другие, которых я знал и которые от нас ушли. Это были духи ушедших».
Начиная с этого времени, такого рода занятия играли преобладающую роль в его жизни. Во время своих поездок в Европу и особенно в Англию он консультировался с другими медиумами, которые весьма расширили его знакомство с почившими, приведя к разговорам, помимо других, с Леонардо да Винчи, Лоренцо ди Медичи, Пастером (он посоветовал, как лечить болезнь сердца у его собаки), лордом Греем из Фаллодена, Гладстоном и Роузбери. В январе 1935 года он связался с духом своего деда, который заверил его: «Ты станешь премьер-министром в июне этого года… Подготовься к долгой борьбе… Когда есть возможность, ложись спать пораньше, не ешь много, не пей спиртного или вина, старайся молиться сколько можешь». Предсказание его деда было подтверждено духом сэра Уилфрида Лориера, хотя, что, вероятно, легко объяснить, он был неточен с цифрами действительного большинства, которое Кинг получил.
Во время поездки в Европу Кинг встретился с Гитлером и был достаточно дальновиден, чтобы предупредить его, что в случае войны Британская империя сплотится, но кое в чём фюрер ему понравился. «Я убеждён, — писал он 27 марта 1938 г., — что он спиритуалист, что существует видение, которому он предан, — его любовь к матери; — я уверен, что дух матери им руководит».
После начала Второй мировой войны в его дневнике поубавилось ссылок на спиритуалистические темы, возможно, потому, что духи оказались не столь хорошо информированы о будущем развитии событий. Его отец ему сказал, что Гитлер был застрелен поляком, а мать предсказала, что войны не будет. Но он продолжал заниматься парапсихологией, и на одном из сеансов родители рассказали ему, что Пэт благополучно прибыл в загробный мир и встретился с Дерри, собакой его друзей Паттерсонов.
После окончания войны он продолжал активно заниматься спиритуализмом, записав во время визита в Англию, что «большую часть утра занял президент Рузвельт (который недавно умер) и очень его хвалил». «У вас есть, — сказал он Кингу, — эта неторопливая шотландская манера. Вы не умны. Вы мудры!». Сэр Уилфрид Лориер сообщил, что, как он знал, Кинг «очень» нравился Черчиллю. Король Георг V подтвердил, что визиты его сына Георга VI и королевы Елизаветы в Канаду были вызваны «их любовью к вам».
Неоднократно повторялось, что Кинг не допускал, чтобы эти потусторонние интересы вмешивались в его политическую жизнь и влияли на его политические решения. «Никогда, — говорила его друг Джоан Паттерсон, — он не допускал, чтобы его верования повлияли на общественную жизнь». И всё же эти увлечения так много значили в его личной жизни, что они не могли не сказаться на общественной деятельности. Когда в 1944 г. произошёл острый правительственный кризис по поводу воинской повинности, Кинг заметил, что «только потусторонние силы» помогли решить вопрос.
Но ещё более тревожно то, до какой степени этот авторитетный политический лидер позволял влиять на свою жизнь и мнения тому, что интеллектуально было явно банальным, а духовно избитым и глупым. Это подчёркивало его безграничный эгоцентризм. Обычно советники-спириты говорили ему то, что он хотел услышать. Он спрашивал о том, что было отражением его собственных желаний. «Сочетание простодушия и эгоизма, — писал Стейси, — несколько захватывает дух… (оставляя) неизгладимое впечатление интеллектуальной ограниченности». Указания из неведомого мира проникали в его подсознание и способствовали формированию его идей. Возможно, Макензи Кинг был политическим гигантом, но основа его была слаба; к счастью для Канады, он удержался на ногах.
Этот образ наверняка показал, что существует важное соотношение между телесными болезнями и психической неполноценностью, и в случае, когда политик занимает положение, дающее ему колоссальную власть, это может иметь пагубные последствия для тех, кем они правят. В XX в. проблема политического несоответствия стала, возможно, более серьёзной из-за увеличения срока человеческой жизни, что привело к значительному росту числа престарелых лидеров. Хотя Гладстон всё ещё был премьер-министром в 1894 г., когда ему было 85 лет, а папа Лев XIII оставался папой до своей смерти в 1903 г. в возрасте девяноста трёх лет, влияние стариков на политику в XX в. было значительно больше, чем в прошлом. И Пилсудский в Польше, и Гинденбург в Германии испытывали влияние наступившей дряхлости. Конрад Аденауэр был германским канцлером в 1963 г. в возрасте восьмидесяти семи лет. Генерал Франко, испанский диктатор, умер при исполнении обязанностей в 1975 г. на восемьдесят третьем году. Аятолла Хомейни, фактический правитель Ирана и в каком-то смысле его злой гений, господствовал до своей смерти в 1989 г. на восемьдесят седьмом году (на самом деле он родился в 1898 г.). В восемьдесят девять лет в 1993 г. Дэн Сяопин ещё продолжал возглавлять Китай вместе с дружками-старичками. Рональд Рейган завершил свой последний срок пребывания у власти в семьдесят семь лет. Президент Франции Миттеран был переизбран до семидесяти девяти лет. Часто говорят, что старость приносит мудрость и опыт, но она также способствует непреклонности суждений и неспособности воспринимать и создавать новые идеи, что не может принести пользу управляемым; она также способствует физическому упадку, который, как часто иллюстрировалось выше, может привести к умственной деградации.
В основном большинство избирателей в большинстве стран обычно, похоже, просто верят, что человек, которого они выбрали на высокую должность, физически и психически здоров, но последующие события могут эту веру не подтвердить. Чем демократичнее процесс выборов, тем меньше возможностей для злоупотребления, но, как с неохотой хотя и реалистично признал Руссо, то, чего хочет большинство, не всегда лучший вариант. Выбор народа не обязательно правильный, так как его можно увлечь чисто эфемерными эмоциями, поверхностными оценками средств массовой информации или искажённой риторикой больной психики. Осознание этих возможных опасностей — лучшая защита против вреда, который может принести психическая неуравновешенность или физическое нездоровье, но нет непогрешимой панацеи, чтобы обеспечить выбор хорошего правительства со стороны народа, и нет уверенности, что те, кто правит, уйдёт в отставку, когда исчезнут их способности управлять. Единственное эффективное средство — это непрерывная бдительность, единственный подходящий совет подытожен в старом латинском выражении «caveat emptor» («пусть покупатель будет осторожен»).
XVI. Безумцы в кованых сапогах
Более, чем какой-либо другой исторический период, двадцатое столетие было веком диктаторов, которые спровоцировали взрыв человеческого страдания и разрушительную войну, несравнимую ни с чем в анналах прошлого, даже с нашествиями Аттилы и Чингисхана. Такое явление требует не только исторического объяснения.
Мы не утверждаем, что историческое развитие не сыграло существенной роли в возвышении диктаторов и в удержании ими власти. Именно исторические обстоятельства дали диктаторам возможность завоевать власть: бури русской революции дали возможность прийти к власти Ленину и создали условия для зверской диктатуры Сталина; безответственная политика Италии в 1920-х гг. проложила дорогу фашистской гегемонии Муссолини; унизительные условия после поражения, которые вызвали ужасную депрессию и гиперинфляцию в Германии после первой мировой войны, подготовили сцену для захвата верховной власти Гитлером. И всё же чисто исторического объяснения недостаточно для понимания того, как случилось, что они получили власть и, когда получили, то использовали её так бесчеловечно.
Часто цитируемое изречение лорда Эктона, что власть всегда развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, вероятно, не аксиома. В прошлом были абсолютные монархи, например, Людовик XIV во Франции, и даже диктаторы XX в., такие, как Салазар в Португалии или Франко в Испании, правление которых, наверное, не принесло большой выгоды их народам, но которые не производили впечатления ненормальных людей.
И всё же кажется, что великие диктаторы образуют свою собственную категорию, они целиком одержимы обладанием властью, так что оно вытесняет всё остальное. И в таких случаях мания власти, похоже, в конце концов искажает и разрушает личность. «Патологический ум, — заметил Гарольд Лассуел в своей ныне классической книге „Психопатология и политика“, — напоминает автомобиль, включённый на одну скорость; нормальный ум может переключаться». Диктатор — это политик с узким кругозором, опьянённый властью, который пытается навязать свою волю и свои ценности всем своим подданным и устраняет тех, кто их не принимает. Захват и сохранение власти становится единственной целью их существования.
Какие же особенности его личности прокладывают дорогу для такого сценария? Фрейд объяснял умственную деградацию, анализируя детство, иногда прослеживая причины фрустрации до переживаний во чреве матери. Случаи, которые мы уже рассмотрели, ясно показывают, что детство, полное лишений и невзгод, может иметь решающее значение для развития будущих неврозов или психозов. Значит, в детстве и отрочестве происходят процессы, формирующие развитие психопата или социопата, и большинство диктаторов проявляют именно эти черты.
Отличительной чертой в жизни диктаторов было обеднённое детство и отрочество, не только в смысле материальных условий, но и на уровне семейных отношений. У Гитлера, Муссолини и Сталина обстановка в доме была жалкой и несчастливой (любящая мать и ненавистный отец). Юношеское неповиновение привело их к столкновениям с властями, вызвав непрекращающийся протест. Лишённые любви, неуверенные, унижаемые в отрочестве, неспособные к созданию счастливой сексуальной связи, они были вынуждены искать компенсацию своему пострадавшему самоуважению в стремлении к власти и в злоупотреблении ею.
Разумеется, было бы смешно предположить, что всем детям с таким прошлым суждено стать диктаторами, преступниками или психопатами. Но тем не менее семена будущего следует поискать в ранних годах диктаторов; взрастали же эти плевелы позже, в зависимости от обстоятельств, прирождённого ума и способностей их носителей.
Можно ли объяснить развитие характерных черт будущих диктаторов с точки зрения физической и психоаналитической? Сталин был с оспинами и частично искалечен. Муссолини чересчур хотел выглядеть настоящим мужчиной. У Гитлера было почти женское сложение. Подозревали, что и Муссолини, и Гитлер были заражены сифилисом, но подтверждающих доказательств, очевидно, нет. Врач Гитлера говорил, что тот заболел энцефалитом в Виннице в 1942 г. и его определённо перекормили амфетамином. Тяжёлое состояние здоровья Муссолини в последние годы могло повлиять на его психическую уравновешенность. Как мы уже видели, состояние физического здоровья может быть важной причиной и частью психической неполноценности. Безжалостные действия турецкого диктатора Кемаля Ататюрка становятся более понятными в свете того фактора, что он болел корсаковским психозом, формой органического мозгового расстройства, результатом дефицита тиамина, вызываемого алкоголизмом, что ведёт к потере памяти и в качестве компенсирующего фактора к изобретению воображаемых действий. Время он времени проблемы здоровья могли бы оказать раздражающее влияние на настроение диктаторов, но самих по себе их недостаточно, чтобы объяснить неуравновешенность личности.
Значит, ключом к разгадке их натуры являются, во-первых, условия развития диктаторских наклонностей, затем — обстоятельства, позволившие им злоупотреблять властью до такой степени, что это привело их на грань помешательства. Для диктатора власть становилась навязчивой идеей, главным делом жизни, обеспечивая ему возможность проявлять долго скрываемое недовольство, удовлетворять личные амбиции и давать волю своим подсознательным порывам, так что личные побуждения преображались в общественные проблемы. То, что, возможно, было личной обидой, внешне преподносилось как идеология, нацеленная на благо общества, которая излагалась с большим искусством, чтобы вызвать всеобщий энтузиазм по поводу политики диктатора. Это потрясающая сторона психологии масс — миллионы нормальных мужчин и женщин позволяют так одурачить и околдовать себя, что без оглядки посвящают себя делу одного человека, даже маньяка. Чтобы постоянно поддерживать своё положение, диктатору нужно его возвеличивание, находит ли оно внешнее выражение в безграничном подхалимстве, пышных церемониалах или помпезной архитектуре. Ему нужно также подавлять всяческую оппозицию, реальную или воображаемую. Но даже в центре подхалимского окружения и безудержного низкопоклонства вышеупомянутые диктаторы оставались на протяжении всей своей жизни фигурами, оторванными от жизни, ущербными личностями, обманывающими самих себя. Они принимали решения, которые в конце концов оказывались самоубийственными и саморазрушительными. Сталин умер в своей постели, но ходили слухи, что вполне возможно, будто ему, как и Тиберию, помогли умереть. Гитлер покончил с собой в берлинском бункере. Муссолини позорно повешен итальянскими партизанами. Чаушеску и его жена расстреляны после молниеносного суда. Возможно, клинически эти диктаторы не были умалишёнными, но как личности они были опасно ненормальными.
Если существует эталон диктатора XX в., то первым кандидатом безусловно является итальянский диктатор Бенито Муссолини. Широкоплечий, мускулистый, с грозным взглядом, наполеоновской позой, даже своей внешностью он подчёркивал ту роль, которую намеренно для себя создал, воплощая культ «дучизма». Он культивировал образ настоящего мужчины как крутого, спортивного самца; видели, как он водил спортивные автомобили, скакал на лошади, управлял самолётом. К негодованию Гитлера, он даже сфотографировался полуголым. Когда он производил смотр войскам, то не просто шёл, а делал быстрые широкие шаги. Подобным же образом он приказывал тем, кого вызывал, на беседы, подбегать к его столу, а после её окончания быстро выбегать, при этом отдавая ему честь на римский лад, заменяя рукопожатие (ибо он отличался почти болезненным отвращением к физическому контакту).
«Если человеку сто раз на день твердят, что он гений, то рано или поздно он поверит в собственную непогрешимость». Так произошло с Муссолини и фактически с большинством его коллег-диктаторов. Женщины подносили ему детей, чтобы он их благословил. Ходили слухи, что только силой своей воли он остановил поток лавы с вулкана Этна. Новый город назвали Муссолинией. Он считал себя по меньшей мере равным Наполеону и Иисусу Христу. Он был фокусником высшего класса, и ему много лет удавалось успешно скрывать физические и психические пропасти под поверхностью.
Насколько важны были эти «пропасти»? Кто-то считал, что, как и другие тираны до него, он болен сифилисом, которым заразился, когда работал учителем в Тольмеццо на австро-итальянской границе в 1905–1906 гг., за четыре года до того, как Пауль Эрлих предложил лечить сифилис с помощью органических соединений мышьяка. Намного позже граф Чано и его начальник полиции задумывались, не поражена ли сифилисом его нервная система, пытаясь объяснить его непостижимые решения; но проверка на реакцию Вассермана дала отрицательный результат. Его телесное здоровье всё время ухудшалось, и это без сомнения оказывало влияние на его окончательные решения. Но ключ к пониманию лежит не в его физическом, а в психическом устройстве. Муссолини, как заметил его английский биограф Денис Мак Смит, «не был сумасшедшим, он просто пытался произвести на людей впечатление всевластного человека». И всё же похоже, что в этом комплексе власти были составляющие, которые привели его на нейтральную полосу психических отклонений. Мегаломаньяк и параноик, он был подвержен патологическому нарциссизму и эгоцентризму. «Первая его забота, — заметил британский посол, — это Муссолини, вторая — фашистский режим, а третья Италия». Отсутствие совести, мрачный взгляд на природу человека, его жестокость, его внутреннее одиночество дают основание считать, что как минимум он отличался некоторыми особенностями типичного психопата.
Его замысловатое чувство собственного значения раздулось только с успехом, и, очевидно, было компенсацией за глубокое ощущение неполноценности и ненадёжности, которое он испытывал в детстве и в отрочестве. Он родился 29 июля 1883 г. в Предаппио, деревушке в Романье, отец его был местным кузнецом, лентяем, который работал, только если была охота, один из первых социалистов, антиклерикал, бабник и алкоголик, полная противоположность матери Муссолини, набожной католичке, которая стала кормильцем в семье, а позже приняла положение предмета культа, в память которой дети пели «Felix Mater» («счастливая мать»). Такую обстановку нельзя назвать счастливой, даже если Муссолини, как и его сотоварищ Гитлер, испытывал искушение преувеличить те лишения, от которых он страдал в детстве. Что дом у него был мрачный и несчастливый, это ясно. В школе он тоже не находил утешения, так как ходил в школу в Фаэнце, школа принадлежала религиозному ордену, и порядки в ней были строгие и суровые, а сам Бенито был учеником вспыльчивым и непослушным. Современники считали его хулиганом. Кто-то заметил, что если он выигрывал спор, то требовал больше, чем причиталось, а если проигрывал, пытался не заплатить. В припадке ярости он ударил ножом соученика за ужином, и его исключили.
Когда он стал взрослым, жизнь не улучшилась. Воспитание сделало его социалистом и антиклерикалом. Ему удалось получить диплом об образовании временную работу учителя, а потом он уехал в Швейцарию, вероятно, чтобы избежать призыва на военную службу. Он прожил в Швейцарии два года в бедности, а в швейцарских полицейских отчётах из-за его крайних социалистических взглядов фигурирует как «вспыльчивый и неуправляемый». Хотя он был бабником, как и отец, у него было мало близких друзей. По крайней мере некоторым из них он казался не вполне нормальным.
Начало Первой мировой войны было для него, как и для Гитлера, тропой к спасению. Покончив со своими марксистскими взглядами, он стал ярым патриотом и, как и Гитлер, дослужился до чина ефрейтора, а потом его освободили по состоянию здоровья в июне 1917 г. Война наполнила его национальным рвением и глубоким презрением к правящим политикам Италии. Послевоенное недовольство и неразбериха подтолкнули и его политические амбиции, и взрыв его психопатической агрессивности.
Воспользовавшись положением, когда либерально-демократические силы оказались слабыми и нерешительными, Муссолини захватил власть путём запугивания и политической подтасовки. Двадцать лет он оставался «дуче» (il duce). Невозможно отрицать силы его лидерства, его ума, жизненной энергии и его крупных достижений, но чем дольше он оставался неоспоримым главой государства, чем больше низкопоклонства он требовал и получал, тем слабее владел ситуацией. Психопатические черты его личности становились всё явственнее: в безжалостном истреблении его критиков, в колоссальном эгоцентризме и в его готовности использовать войну как оружие в своей политической и жизненной философии. При тогдашнем течении событий, фашистском обновлении Италии, осуществлении того, что Муссолини считал её имперской судьбой, выражением чего являлась Эфиопская война, а затем союз с Гитлером, который предшествовал вступлению Италии во Вторую мировую войну, могло быть не столь очевидно, что трещины под поверхностью его образа настоящего мужчины расширялись. Однако две особенности его личности определённо играли всё большую роль в его жизни: ухудшение физического здоровья с неблагоприятным воздействием на психическое равновесие и политические оценки и всё растущая пропасть между иконой, которую он себе написал, и исторической реальностью, в пределах которой он вынужден был действовать.
Он пытался не обращать внимания на признаки плохого здоровья. Хотя представляется достаточно невероятным, что он впоследствии заболел сифилисом центральной нервной системы, здоровье его становилось всё хуже и хуже. Ещё в 1925 г. у него была кровавая рвота и он свалился в своём автомобиле, мучаясь от опасной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Через четыре года его лечили от внутреннего кровотечения и держали на жидкой диете, включая три литра молока в день. Он настолько болел, что, как и Гитлер, стал меньше есть и отказался от алкоголя и табака. Когда он в 1942 г. поехал в Северную Африку, у него были серьёзные внутренние боли; доктора объясняли их глистами и амёбной дизентерией, но скорее всего это была язва. В самый критический период войны, в январе 1943 г., он жил на болеутоляющих и жидкостях.
Ослабление его владения ситуацией было более серьёзным, свидетельствуя о возможном начале психического расстройства. Когда разразилась Вторая мировая война, он казался удивительно нерешительным, тогда как его страна была роковым образом неподготовлена. Он пытался начисто отрицать все свои недостатки на встрече с Гитлером, которому не понравились итальянские военные действия в Фельтре в июле 1943 г.; но он выглядел очень жалко, и во время встречи двух диктаторов на Рим падали бомбы союзников. Когда король Виктор-Эммануил, которому рассказали о его угасающих способностях, попросил его подать в отставку, он не возражал.
После того, как ему на смену пришёл маршал Бадольо, Муссолини был заключён на острове Понца, а потом Ла Мадделена, где он, по всей видимости, проводил много времени за чтением о жизни Христа и находил любопытную аналогию между предательством Искариота и тем, как обошлись с ним. Из этого положения его спас молниеносный набег немцев, которые сделали его главой марионеточного правительства под защитой Германии. Но его способности к руководству исчезли вместе с крушением прошлых надежд и с ослаблением его связи с действительностью. Пока его здоровье временно улучшилось, он проводил много времени на курорте Гарньяно на озере Гарда, совершенствуя свой немецкий, переводя «Кольцо» Вагнера на итальянский и делая заметки о «Государстве» Платона. Он был бесконечно удручён перспективой победы союзников, но ничего не мог сделать, чтобы её предотвратить. «Я бросил миру вызов, но он оказался для меня чересчур сильным. Я презирал других людей, и теперь они отыгрываются». В последней отчаянной попытке он присоединился к группе немцев, которые пытались пробраться в Австрию, но его перехватили итальянские партизаны у озера Комо и тут же казнили вместе с его любовницей Кларой Петаччи.
Он не был сумасшедшим в клиническом смысле, но в своём отношении к жизни представляется психопатом, всё больше и больше охватываемым синдромом, который всё ближе подводил его к грани психического отклонения.
Существует поразительное сходство между его жизненным путём и путём германского диктатора Гитлера. У них обоих было бедное детство и унизительное отрочество. Оба они нашли цель и философию в военном опыте, и на газоне экономической разрухи и политической пустоты взрастили дерево нового политического порядка для своих народов. Оба не отличались крепким здоровьем и их поведение неуклонно становилось всё ненормальнее.
Британский историк А. Дж. П. Тейлор заметил о Гитлере, что «все его действия были разумными», а Невилл Чемберлен воскликнул после встречи с ним 7 сентября 1938 г., что Гитлер «не проявил признаков безумия, но был чрезвычайно возбуждён». На других, однако, Гитлер производил совсем другое впечатление. Ещё в 1930 г. сэр Роберт Ванситтарт отозвался о нём как о «полусумасшедшем и опасном демагоге». Через восемь лет британский посол сэр Невилл Хендерсон назвал его «мистиком, психопатом или безумцем; может — одно, может — два, а может — все три». Летом 1942 г. Альберт Шпеер признавался, что Гитлер «часто производил впечатление психически ненормального».
Ясно, как и с Муссолини, а на самом деле ещё очевиднее, чем в случае с Муссолини, что обстановка его детства и начало жизни могут помочь объяснить развитие того, что можно назвать психическим расстройством. Его отец Алоиз — старший таможенный инспектор, был приверженцем строгой дисциплины и заядлым курильщиком, что может объяснить, почему Гитлер всю жизнь не выносил табака, — никогда не был близок со своим сыном. Алоиз был бабником, а в 1885 г. женился на Кларе Польцль, девушке на двадцать три года моложе его; Гитлер родился через четыре года, в апреле 1889 г. Жизнь Клары была несчастливой, муж её не любил, она находила утешение в католической религии, светлым пятном была только преданная любовь её сына. Её смерть от рака груди в 1907 г., через четыре года после кончины мужа, была страшным ударом для молодого Адольфа.
Гитлер остался совсем один, и кроме романтической любви к племяннице, которая вскоре покончила с собой, и потом его связи с Евой Браун, у Гитлера так и не было близких подруг.
В детстве он был замкнутым, и во многих отношениях таким и остался, без настоящих близких друзей, компенсируя это подсознательными образами в своём воображении. Службы, на которые он ходил в церковь со своей матерью, где был певчим, производили на него неизгладимое впечатление, не столько содержанием, сколько магией и церемониалом мессы; «Я бывало, упивался великолепием службы», — признавался он впоследствии. Возможно, здесь зародилась та любовь к пышности и ритуалу, которая придавала нюрнбергским митингам религиозную, пусть и языческую, символику. В школе его считали зазнайкой, который всегда возражал. Есть по крайней мере основания думать, что это желание отомстить за неприятности в детстве частично привело к тому, что он сыграл столь роковую роль в мире, который так сурово обошёлся с ним в начале жизни.
Во многих отношениях он всю жизнь оставался незрелым и даже инфантильным. Он лучше понимал детей (и животных), чем взрослых, которых иногда стеснялся. Он любил то, что любят дети: конфеты и шоколад — в свой чай он клал семь ложек сахара, — цирк и кино, где «Белоснежка и семь гномов» и «Кинг Конг» были самыми любимыми и ему не надоедали. Он любил читать об американских ковбоях и индейцах, особенно приключенческие рассказы Карла Мая, немца, который писал об американском Диком Западе, где никогда не бывал. Он до конца жизни не растерял и других привычек, приобретённых в детстве. Фантазии детства перекочевали во взрослую жизнь.
Подростком он обнаружил, что мир — место печальное и враждебное. После смерти матери он поехал в Вену, где время от времени немного зарабатывал, продавая свои картины; но хотя они свидетельствовали о скромном художественном таланте, его не приняли в местную художественную школу, что явилось ещё одним унижением. На какой-то момент уровень его жизни очень опустился, и он жил с бродягами в ночлежке.
Именно реакцией на неспособность найти своё место в жизни было то, что в отрицательном смысле у него возникли его антисемитские взгляды, а в положительном — его глубокое увлечение музыкой Вагнера и теми идеями, которые она воплощала. Особенно он был потрясён, услышав в Линце исполнение Вагнеровского «Риенци» в ноябре 1906 г.; «в этот вечер, — заметил его друг Август Кубичек, — с Гитлером творилось что-то странное. Было так, как будто в его теле поселилось другое существо и повелевало им так же, как и мной… Это было состояние полного экстаза и восторга». Из всех ранних эмоциональных и интеллектуальных впечатлений, которые сформировали мировоззрение Гитлера, музыка Вагнера, с её романтической германской мифологией и неоязычеством, была, вероятно, самым сильным и неизгладимым. В 1938 г. он скажет фрау Вагнер, что знаменательным началом его политической карьеры явился тот день, когда он слушал «Риенци», и именно увертюру к «Риенци» он приказывал играть на всех крупных нацистских митингах. Неудивительно, что одним из самых ценимых его приобретений было письмо, написанное покровителем Вагнера, королём Баварии Людвигом II.
От унизительной жизни неудачника Гитлера, как и Муссолини, спасло начало первой мировой войны. Он был в Мюнхене и тут же завербовался. Война дала ему возможность служить, в мирное время он не мог найти цели и занятия. «Эти часы представляются мне, — писал он, — освобождением от раздражающих настроений моей молодости». Если его товарищи и считали его сухим и серьёзным, то он был храбр, он в одиночку захватил в плен четырёх французов, но хотя не был списан, как Муссолини, тоже закончил военную службу всего лишь ефрейтором; правда, был дважды награждён Железным крестом. Когда в ноябре 1918 г. было заключено перемирие, и эта интересная целенаправленная жизнь закончилась, он был крайнё расстроен. «Я заплакал впервые после того, как я стоял над могилой своей матери».
Первые послевоенные годы, обусловленные поражением и неоправданно суровыми условиями Версальского договора, с их печальной историей депрессии, безработицы и галопирующей инфляции, позволили Гитлеру заняться политикой. Он винил в поражении Германии — «удар в спину» — не столько генералов, сколько политиков и их групповые интересы, которые считал исходящими от евреев. Партия, которую он организовал, национал-социалисты, сделала отчаянную, но безуспешную попытку захватить власть в ноябре 1923 г. Хотя «Пивной путч» провалился, он дал Гитлеру ореол мученика, даже хотя он получил всего девять месяцев тюрьмы, и возможность огласить свои цели. Не прошло и десяти лет, как он стал неоспоримым лидером национал-социалистической партии, сокрушающей любую оппозицию всеми правдами и неправдами, и был признан — дряхлым германским президентом Гинденбургом — канцлером и фюрером Германии.