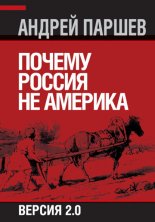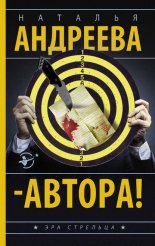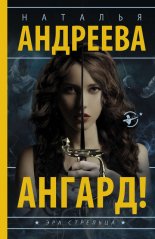Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

Она смущенно моргнула: — Извините, ничего не знаю.
— А можете узнать? Для меня?
— Не уверена… Горлас не доверяет мне в подобных делах.
— Он вообще вам доверяет? — спросил Лим и продолжил, не дожидаясь ответа: — Госпожа Видикас — Чаллиса — он растрачивает вашу жизнь, разве не ясно? Я вижу это… о боги, я разгневан! Вы умная женщина, прекрасная женщина, а он относится к вам как к одной из этих серебряных тарелок. Просто новое приобретение, новая вещь в груде богатств.
Она опустила кубок. — Чего вам нужно от меня, Шарден Лим? Это род приглашения? Хотите любовной интрижки? Свиданий за спиной мужа? Когда он будет уезжать, мы станем встречаться в какой-нибудь жалкой лачуге? Будем соединяться телами, а потом лежать рядом и строить бесполезные планы? Будем бесконечно лгать друг другу о счастливом будущем?
Он выпучил глаза.
Все слуги с необычайной быстротой исчезли в кухне и подсобных комнатах — в столовой не осталось никого. Пропал даже виночерпий. Чаллисе пришло в голову, что слуги имения Шардена оплачиваются лучше ее слуг и что сейчас скользкий молчаливый лакей сидит во дворе, передает трубку подобострастным, жадным до слухов работникам, все хохочут, фыркают, закатывают глаза и еще хуже. Слишком поздно, поняла она тут же. Ничего не исправишь. Вольные мысли уже не вычистишь из их жалких умишек.
— Вы описали, — сказал наконец Шарден Лим, — на редкость мерзкое будущее с цинизмом знатока подобных дел. Но я не верю. Вы были верны, Чаллиса. Иначе я о вас не беспокоился бы.
— О? Так вы шпионите за мной? — Насмешливый вопрос приобрел зловещую ауру, когда мужчина не стал возражать. Ее внезапно пробрало холодом до костей. — Преследовать чужую супругу… это не кажется достойным поступком, Шарден Лим.
— В любви нет чести.
— В любви? Или в одержимости? Разве не страсть к приобретению заставляет вас желать чужой жены?
— Он не владеет вами, Чаллиса. Вот я о чем. Идеи обладания — подлая ложь, прикрытая разговорами о любви. Я не хочу обладать вами. Не хочу красть … Если бы я хотел, то уже давно придумал бы повод для дуэли и убил вашего мужа без капли сожаления. Ради вас. Чтобы вернуть вам свободу жизни.
— И оказаться рядом со скорбящей вдовушкой? О, разве не странная вышла бы картина? Я под ручку с человеком, убившим моего мужа. И вы говорите о свободе?! — Она поняла, что остается на редкость трезвой. Ее отрезвило то, что открыл ей этот человек — ужасающие глубины его безнадежного желания.
— Я сказал, что верну вам свободу жизни.
— Спрашиваю снова: ради чего?
— Показать вам, что такое быть свободной. Разрубить цепи. Пригласите меня в постель, если пожелаете. Или нет. Прогоните. Оставьте след туфли на моей заднице. Выбор за вами. Я хочу, чтобы вы реализовали свою свободу, Чаллиса. В душе — пусть она горит, ярким светом или тусклым, это ваше дело; но пусть горит! Выразите себя целиком!
Она дышала резко и прерывисто. О да, самая неожиданная тактика. «Ничего не отдавай мне, женщина. Нет, сдайся самой себе. Используй меня. Как способ проверки. Степени собственной свободы. Этой ночью ты можешь освободиться вновь. Ощутить себя юной, без мужа, что виснет на руке. Вернуться во времена, когда оковы еще не поймали тебя». поистине необыкновенное предложение.
— А где мои слуги?
— Удалились до конца ночи, Госпожа Видикас.
— Прямо как Ханут Орр. Не сидит ли он в ближайшей таверне, рассказывая всем о…
— За этого ублюдка не отвечаю. Вы сами могли бы догадаться, что он станет рассказывать в любом случае. Чтобы ранить вас. Сокрушить репутацию.
— Мой муж услышит, даже если ничего и не случится.
— Если вы встанете перед ним и отвергнете слухи, он поверит?
«Нет. Не захочет». — Муж не пожелает выглядеть рогоносцем.
— Он рассмеется, ведь ему все равно. До тех пор, пока не сочтет нужным вызвать на поединок меня или Ханута. Ради чести. Он отменный дуэлянт. Жестокий. Не соблюдает никаких правил. Не верит в честь. Победа любой ценой — если нужно бросить песок в глаза противнику, он не постесняется. Очень опасный тип, Чаллиса. Не хотелось бы мне вставать перед ним с обнаженной рапирой. Но если придется, я смогу. — Он покачал головой. — Хотя это буду не я.
— Неужели?
— Это будет Ханут Орр. Он предназначал вас ему. Он отдал вас — вот еще одна причина гнева Орра. Он сбежал, ибо понял — я ему не позволю.
— Значит, сегодня ночью вы оберегали мою честь. Вместо Горласа.
— И не справился. Ханут порочит вашу репутацию в этот самый момент. Когда я сказал «используйте меня, Чаллиса», я был честен. Даже сейчас вы можете повелеть мне пойти и отыскать Ханута — да, я могу догадаться, где он сейчас — и вызвать на дуэль. Я убью его ради вас.
— Моя репутация…
— Она уже погублена, Госпожа Видикас. Мне очень жаль. Скажите, чего ожидаете от меня. Прошу.
Она молчала. Ей нелегко было мыслить ясно. Последствия обрушились лавиной, похоронив ее, выбив воздух из легких. Да, похоронило то, что даже не случилось.
Пока.
— Я попробую свободу, вами предложенную, Шарден Лим.
Он встал, опустив руку на эфес рапиры. — Миледи.
«Ох, как благородно». Она фыркнула и тоже встала. — Ты выбрал неверное оружие.
Его глаза расширились. Удивление истинное или наигранное? Не таится ли искра торжества в его синих, таких синих глазах? Она не смогла понять. И это пугало ее. — Шарден…
— Миледи?
— Ни на что не надейся. Ты понял?
— Понял.
— Я не освобожу сердце только для того, что сковать снова.
— Разумеется, нет. Это было бы безумием.
Она всмотрелась в него снова, но не вынесла никакого нового понимания. — Рада, что не напилась, — произнесла она. Он поклонился.
Одним движением превращая ночь супружеской измены в нечто… благородное.
Ночь простерлась над Даруджистаном тонким ослепляющим туманом, и люди медленно бредут по улицам или таятся в переулках. Некоторых, словно мошек, влекут освещенные участки, призывает немолчный свист газа на железных столбах. Другие стараются оставаться в темноте, пока какой-нибудь чертов черепок или гравий не заскрипит вдруг под ногами, выдавая их. И везде можно заметить блеск красных глаз или услышать шелест хвостов.
Свет сочится сквозь ставни и мутные окна; но не обращайте внимания на свет и мирный сон и беседы и все, что может открыть вам ночная иллюминация! Впечатления эти, скучные и тусклые, обязательно вскоре исчезнут из памяти.
Женщина, в рассудке которой черным, но ярким пламенем горит свобода, выгибает спину, когда второй в ее жизни мужчина входит в нее; Горлас, в конце концов, использовал для ЭТОГО пальцы, а пальцы не сравнятся с… о боги!
Но оставим их — верно, воображение поможет нам воспроизвести все эти неловкие дерганья и странные звуки и движения рук, касающиеся здесь и там, а потом и тут… хватит! Идемте во тьму истинную, к человеку без пальцев, что охотится за новой жертвой.
К новому имению и капитану Торвальду Ному, начальнику Стражи Имения — еще миг, и он передаст на ночь всю его безопасность в очень умелые руки Скорча и Леффа (да, он уже хорошо потрудился сегодня, все такое). Ном медлит, вглядываясь в черную пароконную повозку, въехавшую во двор, и в щелочках глаз его блестит подозрение, любопытство и зудящее предощущение… чего-то такого, когда фигура в плаще и под капюшоном показывается на свет — и подобно дурной мысли быстро скользит по ступеням в дом. Кто же… не задумывайся, Торвальд Ном! Иди к себе, домой, к любящей и вполне очарованной жене. Ни о чем не думай, кроме как о ней, на всем пути своем!
Стражник, которого по временам одолевает боль в груди, опрашивает завсегдатаев одного из баров, ищет свидетелей, которые могли бы опознать человека, что преследует людей в темных аллеях, забивает до смерти. Неужели никто не вступился за бедных жертв? «Ну, видишь ли… они нам самим не больно-то нравились… понимашь…»
В крипте (разумеется, до раздражения хорошо освещенной) сидит человек и замышляет падение города, которое начнется с горстки малазан, и сидит он весьма довольный отсутствием теней и всякой иной смутности, налагаемой на реальность. На Утесах кроты забылись сном на тонких подстилках, Бейниск сидит около постели Харлло, чтобы послушать новые истории про Даруджистан, ибо Бейниск родился на Утесах и никогда их не покидал, и глаза его сияют, пока Харлло шепчет о богатствах всякого вида, о восхитительной еде и чудных зданиях и статуях и повсеместном голубом огне; и не скоро заснут они — Харлло на хромой кровати и Бейниск на полу рядом; а напротив Веназ будет фыркать, выражая ненависть к Бейниску и новому любимчику Бейниска, ведь лучшим привык быть Веназ, но Бейниск предатель, врун и еще хуже, и однажды Харлло за все заплатит…
Ведь Харлло прав. Он тот мальчишка, что привлекает к себе хулиганов, словно магнит железяки, и это жестокий факт, что детей такого рода легион, и это божье благословение, что столь многие выживают и вырастают и отплачивают обидчикам, далеко уступающим им в уме — но это утешение горькое и далеко не столь приятное, как казалось им.
Так назад в Даруджистан, с облегчением. Пусть мать Великих Воронов взлетает в небо с башни имения Барука, и пусть следит за ней со злобным удовлетворением из озаренного искрами дымохода неуклюжий перекормленный демон. Это была ночь, подобная всем прочим: узоры ожиданий и замыслов, откровений и беспокойств. Поглядите вокруг. Поглядите вокруг! Со всех сторон тьма и свет, тьма и свет! Каждый шаг делается в расчете на твердую почву, готовую встретить ногу. Каждый шаг — один за другим — еще и еще, и никаких опасных расселин впереди, о нет!
Шаг за шагом, еще и еще, шаг…
Глава 10
«Конец музыке», Рыбак Кел Тат
- Ты придешь ли, расскажешь, что музыка смолкла
- Музыканты объяты огнем
- Инструменты чернеют, во прах рассыпаясь
- Что танцоры споткнулись, их ноги гниют
- Их руки трепещут и бьются
- А кожа трещит, завиваясь древесной корой?
- Ты придешь и расскажешь, что музыка смолкла
- Когда звезды, что в небо мы запускали
- Обрушатся с ревом
- Тучи, нами надутые, лопнут от гнева
- И князья привилегий пройдут слитным строем
- Улыбаясь как трупы и ложные маски роняя.
- Ты придешь ли, расскажешь, что музыка смолкла
- Если смысл утопает в суеверном болоте
- Если тысячи армий сорвались с цепей
- И сразиться спешат
- Если мы разучились глаза поднимать
- И спешим погрузиться в безмолвие вздора
- Под рыдания хора небес?
- Ты придешь и расскажешь, что музыка смолкла
- Музыканты — всего лишь горелые палки
- Инструменты визжат словно дети пред смертью
- И стоят на дороге
- Люди без языков и без губ — из зияющих дыр
- Веет духом негаснущей гари…
- Не забудешь сказать мне, что музыка смолкла
- Если вздох мой пылает огнем
- Если песня исполнена боли
- И пальцы припаяны к струнам
- Содрогаются мышцы, сгорая веревками в вечном костре
- Под твой хохот ломается хрупкое тело?
- Так приди же сказать, что музыка смолкла
- В час, когда я подпрыгну, чтобы бога увидеть
- Или целую тысячу, или ничто
- Благотворную бездну забвенья
- В час, когда я открою шкатулку, спуская жестокий и яростный гнев
- На глупцов, что столпились в дверях, паникуя
- Так следи же за мной, пораженно глаза распахнув
- Ужасаясь, не веря, сердясь, негодуя и брани предавшись
- Крики «нет!» провозвестием истины станут:
- Смолкла музыка, братцы, подонки и мерзость
- Беспутные други мои,
- Поглядите
- Вышибаю я дверь, вышибаю сплеча — вам в лицо!
Сапоги хрустели по вытертым, покрытым слизью камням, когда он спускался к воде. Пологие склоны ближайших гор зеленели, заросшие густым лесом — деревья с алой корой нависли над головой, на упавших стволах покачиваются моховые бороды.
Эндест Силан оперся на прочный посох. Мышцы ног дрожали. Он огляделся, выравнивая дыхание. Было холодно; край солнечного диска едва показался над западными пиками, и тени снова поглотили речную долину.
Он мог ощутить холод проносящейся реки — нет нужды приседать, нет нужды погружать руку в быстрое течение. Теперь он увидел, что темная река вовсе не похожа на Дорсан Рил. Да и могло бы быть иначе? Новое — всего лишь искаженное эхо старого; воображаемые шепотки узнавания несут лишь боль, обжигают потерей. Ох, что за дурака он сыграл, предприняв долгое путешествие. В поисках чего? Даже на это нет ответа. Хотя, может быть, есть. Бегство. Краткое, да, но все же бегство. Трус бежит, зная, что придется возвращаться и надеясь, что обратный путь его прикончит, отнимет жизнь — как это часто бывает со стариками. «Но слушай! Ты можешь переделать душу — сделать ее дырявым ведром и таскать с собой. Или душа может стать веревкой, толстой и перекрученной, цепляющейся за камни то одним, то другим узлом, однако не желающей рваться. Выбирай свой образ, Эндест Силан. Ты здесь, ты дошел, не так ли? И, как сказано тебе… идти особенно некуда. Вообще некуда…»
Он уловил запах дыма. Вздрогнул и в тревоге отвернулся от стремнины. Проследил, откуда веет вечерний бриз. Там, в далекой полутьме, мерцал огонек костра.
Ах, бегство невозможно. Он хотел одиночества перед ликом непостижимой, равнодушной природы. Он хотел ощутить себя… ненужным. Хотел, чтобы запустение сделало его бесчувственным, смиренным, жалким ничтожеством. О, не слишком ли многого он хотел?..
Мрачно хмыкнув, Эндест Силанн пошел вверх по течению. Костер, по крайней мере, позволит согреть руки.
Через тридцать шагов он мог уже различить одинокую фигуру, сидевшую на бревне лицом к дымному пламени. Громоздкую, широкоплечую. И Эндест улыбнулся, узнавая.
Над костром висели на шампурах две форели. Угли украшал чайник с закопченным боком. На плоском камне, что был краем «очага», грелись две оловянных чашки. Сидевший на бревне полководец Каладан Бруд не спеша обернулся и указал Эндесту на второе бревно. Широкое, до странности звероподобное лицо скривилось в ухмылке. — Среди гостей, которые могли бы придти ко мне на огонек, тебя не воображал. Прости, старый друг. Много времени потребовалось тебе для спуска в долину, но я тебя вовсе не корю. Только не взыщи, если рыба перекоптилась.
— Укоры остались далеко — далеко, Каладан, и пусть там и остаются. Ты пробудил аппетит — хочу пить, есть, но сильней всего хочу теплой компании.
— Так садись поудобнее.
— Значит, ты действительно распустил армию после осады, — сказал Эндест Силанн, обходя костер и усаживаясь. — Так говорили. Но, разумеется, не мой владыка.
— Видишь, я теперь командую армией мокрых камней, — сказал полководец. — Да, она оказалась гораздо послушнее прежней. Наконец-то могу высыпаться ночами. Хотя обхитрить в битве форель оказалось настоящим вызовом. Вот, клади рыбку на тарелку и ешь — только костей остерегайся, — закончил он, беря вторую рыбину себе.
— Один, здесь? Каладан Бруд, я гадаю, не скрываешься ли ты.
— Возможно и так, Эндест Силан. Увы, я плохо умею скрываться.
— Это точно. — Некоторое время они молчали. Форель действительно оказалась сухой, но Эндест не жаловался — все равно изумительно вкусно.
Если Аномандер Рейк был тайной в саване тьмы, то Каладана Бруда можно было назвать тайной в плаще гениальности. Скупой на слова, он умел заставить любого гостя чувствовать себя нужным и желанным. Он умел это делать, когда необходимость командовать не давила на плечи, подобно проклятой горе. Эта ночь, как отлично понимал Эндест, стала даром, даром совершенно неожиданным, а потому вдвойне дорогим.
Когда они покончили с едой, ночь вступила в свои права за пределами света от костра. Речной поток стал голосом, присутствием. Вода струится, равнодушная к взлетам и падениям солнца, к явлениям укутанной луны и неспешному хороводу звезд. Звук достигал его, словно песня без слов, и все попытки уяснить ее смысл оставались тщетными — нельзя удержать в ладони ни воду, ни звук. Поток бесконечен и неизмерим; не бывает ни абсолютного покоя, ни полной тишины.
— Зачем ты здесь? — спросил наконец Эндест.
— Хотелось бы мне суметь ответить, старый друг. Видит Бёрн, желание облегчить бремя почти побороло мою волю.
— Ты считаешь, Каладан, что я не знаю, что именно нас ждет.
— Нет, я так не считаю. В конце концов, ты предпринял паломничество к этой реке — а среди Тисте Анди здешние места славятся загадочной привлекательностью. Но ты спрашиваешь, зачем и здесь я… значит, знания твои неполны. Эндест Силан, я не могу рассказать больше. Не могу тебе помочь.
Старый Анди отвернулся, поглядев в темноту, в сторону поющей реки. Итак, сюда приходили и другие. Некий инстинкт тянет их, да, к призраку Дорсан Рил. Он принялся гадать, ощущали ли они такое же разочарование, когда глядели в темные (но недостаточно черные) воды. Это не прежняя закваска. Все изменилось, в том числе и они сами. — Я больше не верю, — проговорил он, — в прощение.
— Как насчет восстановления?
Вопрос поразил его, выбил дыхание из груди. Река текла, издавая звуки десяти тысяч голосов, крики заполнили голову, ворвались в самое сердце. В животе разлился холод. «Во имя Бездны… такое… дерзание…» Он ощутил, как ледяные слезы страха льются по согретым огоньком щекам. — Я сделаю все, что смогу.
— Он это знает, — сказал Каладан Бруд с таким сочувствием, что Эндест чуть не зарыдал. — Сейчас ты можешь не верить, — продолжал могучий воин, — но впоследствии ты поймешь, что паломничество принесло пользу. Воспоминание придает сил в тот миг, когда они более всего нужны тебе.
Нет, он не верит — и не может вообразить, что сумеет когда-либо поверить. И все же… дерзание. Столь ужасающее, столь захватывающее.
Каладан Бруд налил чая и вложил чашку в руки Силана. Тонкое олово наполнило промерзшие пальцы теплом. Полководец нависал над ним. — Слушай реку, Эндест Силан. Это звук умиротворения…
Но для древнего разума Тисте Анди звуки всё казались стонущим хором, накатывающим потоком потерь и отчаяния. Призрак Дорсан Рил? Нет, сюда излилась давно умершая река, питая полуночное безумие истории, вплетая свой водоворот в тысячи иных. Бесконечные вариации одного и того же горького вкуса.
Он поглядел в пламя и в очередной раз увидел гибнущий в пожаре город. Харкенас под яростным небом. Летящий словно тучи песка пепел ослепил его, дым заполнил легкие ядом. Мать Тьма во гневе, она отказывается от детей своих, отворачивается. А они гибнут. Гибнут и гибнут.
Слушай реку. Вспоминай голоса.
Жди, как ждет воитель. Жди, чтобы увидеть грядущее.
Запах дыма висел в воздухе еще долго после угасания огня. Они ехали по выгоревшей почве, огибали почернелые обломки. Сложившаяся внутрь себя громадная повозка все еще стояла зловещей погребальной пирамидой посреди грязной земли. Разбросанный вокруг мусор стал свидетельством распада общности. Но в этой сцене погрома недоставало трупов. Следы расходились повсюду, некоторые шире остальных.
Семар Дев оглядела сцену и стала наблюдать за Скитальцем. Тот спрыгнул с коня и прошел к краю лагеря, где начал изучать некие следы. Странный человек, решила она. Спокойный, замкнутый — мужчина, привыкший быть одиноким; но за всем этим таится поток… да, насилия. Словно его одиночество позволяет миру уцелеть.
Однажды, довольно давно, она оказалась в компании другого воина, тоже хорошо знакомого с насилием. Но тут всякое сходство кончается. Карса Орлонг — если не учитывать первое путешествие в осажденную крепость под Угаратом — наслаждался вниманием толпы. «Узри меня» — говорил он, искренне жаждая этого. Он хотел, чтобы его дела засвидетельствовали — словно все глаза мира созданы единственно ради взгляда на Карсу, а умы позади глаз ради запоминания всего, что он свершит, изречет, начнет или закончит. «Он делает историю. Каждое свидетельство вливается в легенду — житие Тоблакая, деяния Тоблакая — и все мы обречены передавать его сказание».
Цепи и кандалы звенят на боках сожженного фургона. Они пусты, разумеется. И все же Семар Дев понимала, что выжившие в этом месте остались рабами. Они прикованы к Карсе Орлонгу, освободителю, прикованы к очередному эпизоду его мрачной истории. «Он дает нам свободу и порабощает нас. Ох, какая ирония. Главная прелесть в том, что он вовсе не желает этого; нет, каждый и всякий раз он хочет прямо противоположного. Проклятый дурак».
— Многие взяли лошадей и нагрузили добычей, — сказал Скиталец, вернувшись к коню. — Один след ведет на север. Он почти незаметен. Думаю, он принадлежит твоему другу.
«Моему другу…»
— Сейчас он недалеко и все еще идет пешком. Мы должны нагнать его сегодня.
Она кивнула.
Скиталец поглядел на нее. Потом вспрыгнул на коня, взял удила. — Семар Дев, я не могу понять, что тут случилось.
— Тут случился он.
— Он никого не убил. Судя по твоим рассказам, я ожидал увидеть нечто совсем иное. Похоже, он просто пришел к ним и сказал: «Все кончено». — Скиталец нахмурился, вопросительно глядя на нее. — Как такое может быть?
Она покачала головой.
Он хмыкнул и развернул коня. — Бесчинствам скатанди пришел конец.
— Это точно.
— Мой страх перед твоим приятелем становится еще сильнее. Я все менее хочу его встретить.
— Но ведь это тебя не остановит да? Если он несет меч Императора…
Он не ответил. Не было нужды.
Они перешли в галоп. Двинулись на север.
Сухой и теплый ветер налетал с запада. Немногочисленные облака проносились над головами, тонкие и рваные. Вороны или ястребы кружили вверху, словно точки; Семар Дев подумала о мухах, собравшихся на трупе земли.
И сплюнула, избавляя рот от вкуса пепла.
Вскоре они нашли маленькую стоянку. Трое мужчин, две беременных женщины. В их взглядах страх боролся с усталой покорностью. Когда Семар и Скиталец подъехали ближе, мужчины не сбежали, проявив неожиданную смелость — женщины слишком отягощены, чтобы бежать, потому мужчины остались, и если это означает смерть, будь что будет. Подобные детали всегда наводили на Семар смирение. — Вы следуете за Тоблакаем, — сказал Скиталец, слезая с седла. Люди промолчали. Скиталец повернулся и позвал Семар Дев. Ощутив любопытство, она спешилась. — Ты не осмотришь женщин? — произнес он тихо.
— Хорошо, — согласилась она. Воин из Даль Хона отвел троих мужчин в сторону. Заинтересованная Семар подошла к женщинам. Отметила, что обе почти на сносях и к тому же… не вполне принадлежат к роду людскому. Пугливые глаза цвета жухлой травы, какая-то звериная осторожность и покорность — она не сразу ее осознала, но теперь поняла, что это фатализм жертв, добычи, тех, на кого вечно охотятся. Да, такой взор может быть у антилопы, горло которой сжал челюстями леопард.
Такой образ заставил ее встревожиться. — Я ведьма, — сказала Семар. — Кудесница.
Женщины молча сидели на траве.
Семар подошла ближе и присела напротив. Лица обеих женщин несли животные черты, словно они представляли иную ветвь развития человечества. Темная кожа, выступающие лбы, широкие полногубые рты — наверное, они очень выразительны, когда не сомкнуты в тревоге. Обе женщины казались здоровыми и упитанными. Обе были наделены той странной «завершенностью», что свойственна лишь беременным. В них все обращено внутрь. В менее великодушном настроении она могла бы назвать это скрытностью, но сейчас неподходящий момент. Аура этих полуживотных заставляла их казаться природными существами, созданными лишь ради деторождения.
Эта мысль заставила ведьму рассердиться.
Выпрямившись, она отошла к Скитальцу и мужчинам. — С ними все в порядке.
Он поднял брови, расслышав ее тон, но промолчал.
— Итак, что за тайны они раскрыли?
— Меч, который он несет, сделан из кремня или обсидиана. Он каменный.
— Значит, он отверг Увечного Бога. Я не удивлена. Он никогда не делает то, чего от него ждут. Никогда. Думаю, это часть заветов его треклятой религии. И что теперь, Скиталец?
Тот вздохнул: — Мы все равно его догоним. — Мимолетная улыбка… — С меньшим трепетом.
— Но риск… ссоры остается.
Они пошли к лошадям.
Король скатанди умирал, — объяснял Скиталец, пока они отъезжали от стоянки. — Он передал королевство твоему приятелю. А тот распылил его, освободил рабов, разогнал солдат. Себе не взял ничего. Совсем ничего.
Она хмыкнула.
Скиталец помолчал. — Такой человек… да, мне очень любопытно будет встретить его.
— Не воображай объятий и поцелуев.
— Он не рад будет увидеть тебя?
— Понятия не имею. Хотя я приведу коня, а это чего-то стоит.
— А он знает о твоих чувствах?
Семар метнула на воина быстрый взгляд и фыркнула: — Он может думать, будто знает — только я сама не знаю, какие чувства испытываю, так что он может и ошибиться. Чем мы ближе, тем сильнее я волнуюсь. Понимаю, как это смешно.
— Похоже осмотр тех женщин испортил тебе настроение. Почему?
— Не понимаю, чего ты хотел от меня. Они беременны, трудом их последнее время не перегружали. Я сама не ожидала такого здоровья. Ни к чем было осматривать и ощупывать. Обе родят; дети выживут или умрут, как и матери. Так в жизни бывает.
— Извини, Семар Дев. Я не должен тобою командовать. На твоем месте я тоже рассердился бы.
Именно это ее рассердило? Может быть. Скорее же собственная молчаливая покорность, голубиное облегчение, с которым она приняла роль подчиненной. «Как с Карсой Орлонгом. Ох, похоже, я беду по зыбкому песку над бездонной ямой. Семар Дев открывает свою тайную слабость. Было плохое настроение? Поглядите на меня сейчас!»
Талант или чувствительность — что-то — подсказало Скитальцу прекратить расспросы. Они скакали, копыта лошадей гремели по затвердевшей земле. Ветер был теплым и сухим словно песок. В низине слева стояли шесть длиннорогих антилоп, следя за их продвижением. На спинах сидели птицы с длинными клювами и оперением в точности того же оттенка, что шерсть зверей. — Везде одно и то же, — буркнула она.
— Семар Дев? О чем ты?
Она пожала плечами. — О том, как животные сотворены под стать окружающему. Я думала: если трава вдруг станет красной как кровь, скоро ли антилопы получат красный рисунок на боках? Ты полагаешь, что по-другому быть не может — но ты ошибаешься. Погляди на те цветы — их яркие краски привлекают определенных насекомых. Если определенные насекомые не прилетят собирать нектар, цветы погибнут. Значит, чем ярче, тем лучше. Растения и животные — все перетекает, целое неразделимо и зависимо от частей. Только это и остается неизменным.
— Верно, все меняется.
— Эти женщины…
— Гандару. Родичи киндару и синбарлов. Так объясняли мужчины.
— Не совсем люди.
— Да.
— Но, тем не менее, они верны себе.
— Думаю, что так, Семар Дев.
— Они разбили мое сердце, Скиталец. Против нас у них ни единого шанса.
Он поглядел искоса. — Странное допущение.
— Неужели?
— Мы едем к Тартено Тоблакаю. Его племя изолировано где-то на севере Генабакиса. Ты рассказывала, что Карса Орлонг намерен принести гибель всем «детишкам» мира — то есть, говоря иными словами, нам. Я видел страх в твоих лазах. Так скажи, против Карсы и его рода есть ли хоть шанс у НАС?
— Разумеется, есть — ведь мы станем отбиваться. А на что способны мягкосердечные гандару? Ни на что. Они умеют прятаться, а когда их все же находят, то убивают или беру в рабство. Эти женщины, наверное, были изнасилованы. Использованы. Стали сосудами мужского семени.
— Если не упоминать насилие, любые звери, на которых мы охотимся, имеют такой же скудный выбор. Прятаться или умирать.
— Пока не остается места, где можно спрятаться.
— Но когда умрут животные, умрем и мы.
Она грубо захохотала.: — Думай как хочешь, Скиталец. Но мы так просто не сдадимся. Мы заполним пустыри скотом, козами и овцами. Или взроем землю плугом, посадим растения. Нас не остановить ничем.
— Может, Карсой Орлонгом?
Да, в этом, может, и скрыта истина. Карса Орлонг предрекает время гибели и разрушения. И она желает ему всяческой удачи…
— Там, — другим тоном произнес Скиталец, привстав в стременах. — Недалеко же он ушел…
Семар и сама смогла разглядеть его со спины Ущерба. Карса встал в тысяче шагов и смотрел на них. Вокруг в траве виднелись горбы, похожие на валуны или кочки — хотя она понимала, что это нечто совсем иное. — На него напали, — сказала Семар. — Идиоты не хотят оставить его в покое.
— Думаю, теперь их духи дерутся между собой.
Они подъехали ближе.
Тоблакай казался таким же, как в последнюю встречу — на песке арены Летераса. Таким же твердым, уверенным, неотразимым. «Я убью его… один раз». Он так и сделал. Преодолев… всё. О, он смотрит на нее и Ущерба с тем же видом хозяина, подозвавшего любимых собак. Она вновь разгневалась. — Я тебе ничего не должна! — бросила она, бешено натягивая поводья, остановив жеребца у самого его носа. — Ты бросил нас — там, в треклятом иноземном городе! «Выбери нужное время», сказал ты. Я выбрала! Но ты куда пропал, во имя Худа? Там…
И она завизжала, ибо громадный воин стянул ее с седла одной ручищей, и прижал к себе в удушающих объятиях. Негодяй смеется, и даже Скиталец — проклятие дураку! — улыбается, хотя и напряженной улыбкой, не забывая о дюжине трупов, простершихся в кровавой траве.
— Ведьма!
— Опусти меня!
— Поразительно, — проревел великан, — как Ущерб терпел тебя все время пути!
— Опусти!
Тогда он бросил ее. Колени подогнулись, женщина шлепнулась на спину, так что застонала каждая косточка. Она смотрела на него снизу вверх — но Карса Орлонг уже отвернулся и взирал на Скитальца, оставшегося в седле. — Так ты ее муж? У нее должен был быть муж — иначе почему она отказывала мне? Отлично! Мы будем драться, ты и я…
— Тише, Карса! Он мне не муж, и никто не будет за меня драться! Потому что я не принадлежу никому, кроме себя самой. Понял? Хоть когда поймешь?
— Семар Дев все сказала, — заявил Скиталец. — Мы повстречались недавно, потому что путешествовали по равнине, и решили ехать вместе. Я из Даль Хона, что на континенте Квон Тали…
Карса осклабился: — Малазанин.
Ответный кивок. — Я зовусь Скитальцем.
— Таишь имя.
— Мои тайны только начинаются с имени, Карса Орлонг.
Глаза Тоблакая сузились.
— На тебе клейма беглого раба, — продолжал Скиталец. — Точнее, раба сбежавшего и пойманного. Ясно, что цепями тебя надолго не удержать.
Семар Дев встала и отряхивала одежду от пыли. — Это скатанди? — махнула она рукой в сторону трупов. — Карса?
Великан отвел глаза от малазанина. — Идиоты, — заявил он. — Желали мести за мертвого короля. Как будто я его убил.
— А ты?..
— Не убил.
— Ну, теперь я хотя бы нашла лошадь по росту.
Карса подошел к Ущербу и положил руку ему на холку. Ноздри бестии раздулись, губы дернулись, обнажая слишком длинные зубы. Карса засмеялся. — Да, старый друг, я пахну смертью. А когда было иначе? — И он засмеялся снова.
— Худ тебя подери, Карса Орлонг! Что случилось?
Он нахмурился: — О чем ты, Ведьма?
— Ты убил императора.
— Обещал — и сделал. — Он помолчал. — А теперь малазанин говорит так, словно хочет снова меня поработить.
— Вовсе нет, — уверил его Скиталец. — Просто мне кажется, ты прожил полную событий жизнь, и жаль, что никогда не удастся услышать рассказ о ней. Похоже, ты не из говорунов.
Карса оскалился и прыгнул в седло. — Поеду на север.
— Как и я, — ответил Скиталец.
Семар Дев подобрала поводья обоих ничейных коней, привязала на длинную веревку того, на котором решила сделать запасным, и влезла в седло второго — бурого мерина с широким крупом и равнодушными глазами. — Думаю, мне пора домой, — сказала она громко. — А это значит — нужно найти порт, желательно на западном берегу континента.
— Я еду в Даруджистан, — сказал Скиталец. — Корабли выходят в озеро и по реке добираются до нужного тебе берега. Рад составить компанию, Семар Дев.
— Даруджистан, — буркнул Карса. — Я слышал о таком городе. Он бросил вызов Малазанской Империи, но все еще свободен. Хочу увидеть его своими глазами.
— Отлично, — бросила Семар Дев. — Поедем к следующее куче трупов. В твоей компании, Карса Орлонг, долго ждать не придется. Потом к третьей и так далее — через весь материк. В Даруджистан! Где бы он ни был, во имя Худа!
— Я увижу его, — продолжал Карса, — но надолго не задержусь. — Он глянул на нее вдруг яростно заблестевшими глазами. — Возвращаюсь домой, Ведьма.
— Создавать армию, — ответила она, кивнув. Горло внезапно пересохло. — А потом… мир узрит.
— Да.
Миг спустя трое двинулись в путь. Карса ехал слева от Семар, Скиталец справа; оба молчали, хотя каждый был историей, томами прошлого, настоящего и будущего. Между ними она ощущала себя сплющенным листком пергамента, а жизнь свою — случайной помаркой.
Высоко, высоко вверху Великий Ворон устремил сверхъестественно острый взор на троицу и пронзительно каркнул, распростер широкие паруса крыльев и начал ловить холодный, ведущий к востоку воздушный поток.
Она думала, что уже умерла. Каждый шаг делается без усилий — результат воли и ничего больше — ни сопротивления веса, ни движения ног или сгибания суставов. Воля понесла ее туда, куда ей хотелось, по стране бесформенного белого света, и песок ослепительно сверкал внизу, как раз на привычной высоте роста; однако, опустив взор, она не увидела тела. Ни туловища, ни ног. Да и тени нет.
Где-то впереди бубнят голоса, но она еще не готова. Она встала тут, согреваемая теплом и омываемая светом.
Медленно приближаются мерцающие огни, словно факелы в тумане; они никак не связаны с крикливыми голосами. Наконец она увидела ряд фигур. Это женщины — головы опущены, длинные волосы закрывают лица; все они голые и беременные. «Факелы» висят над каждой: солнца размером в кулак, разбрасывающие лучи всех цветов радуги.
Селинд хотелось убежать. Она же Дитя Мертвого Семени. Рождена из чрева безумия. Ей нет дела до этих женщин. Он более не жрица, она уже не может никого благословить — ни от имени бога, ни тем более от имени себя самой. Пусть дети сами ступают в мир.
Однако бурлящие шары пламени (она знала, что это души не рожденных, но уже готовых родиться) и их матери брели к ней — намеренно, с жаждой.
«Мне нечего дать вам! Прочь!»