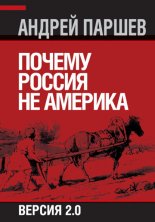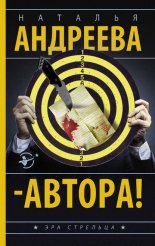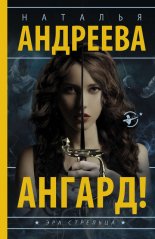Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

— А ты понимаешь? Нет, Раллик, суть в том, что если я ничего не понимаю, то только потому, что отошел от дел…
— Надо бы этому радоваться.
— Не нуждаюсь в снисходительном дерьме, Раллик Ном. Ты стал сплошной тайной. Ничего кроме секретов. Но ты живешь со мной, ешь то, что я готовлю — и оставляешь меня в стороне. Ну, мне это не по нраву, так что можешь уходить. Не думай плохо — Себе я ничего не расскажу.
— Я не могу купить твою отставку, Крут?
— Нет.
Раллик кивнул и отошел к двери. — Береги себя, Крут.
— И ты, Раллик.
Выйдя из узкой задней двери дома, Раллик Ном оказался в узкой, заваленной отбросами улочке. Последний выход в мир обернулся тяжелым ранением от руки Крокуса Свежачка; он долго лежал, выздоравливая, в «Гостинице Феникса», и уже очевидно — никто из знающих о его визите не проболтался. Ни Крюпп, ни Коль, ни Муриллио, ни Миза с Ирильтой. Гильдия не проведала о его тайном возвращении. Даже дальний родственник Торвальд промолчал — хотя этот тип так откровенно его избегает, что это кажется смешным и даже обидным.
Итак, в каком-то смысле Раллик стал невидимкой.
Он постоял на улочке. Все еще не стемнело — над головой полоса света. Странно оказаться на улице днем; они понимал, что вскоре кто-нибудь бросил на него взгляд, узнает — глаза раскроются от удивления — и понесется словечко к Себе Крафару. Что потом?
Ну, Мастер Гильдии, вероятно, подошлет одного из подручных — узнать, чего нужно Раллику. Чего он ждет от Гильдии? Может даже последовать приглашение назад… но так или иначе, ему крышка. Прими, и попадешь прямиком в ловушку. Откажись, и начнется охота. Мало кому удастся сразить Раллика в схватке один на один, но они выберут не такую тактику. Нет, его ждет стрела в спину.
Есть и другие места, где можно прятаться — и можно прямиком пойти в Дом Финнеста. Но не один Крут стал нетерпеливым. К тому же он никогда не любил тянуть время, хитрить. Конечно, если это не требовалось для выполнения заданий Гильдии.
Нет, пришло время ворошить угли. Если вера Себы Крафара в себя пошатнулась от драки с кучкой упрямых малазан… что же, сейчас его можно повалить.
Мысль вызвала у Раллика Нома слабую улыбку. «Да, я вернулся».
Он направился к «Фениксу».
Сигналы тревоги раздавались на неровной границе районов Дару и Приозерного; Баратол, тащивший Чаура за руку, словно ребенка-великана, успел миновать шесть улиц. Они разминулись с несколькими патрулями, но приказы еще не успели догнать беглецов — хотя было очевидным, что уйти бесследно не получилось. Стражники и прохожие легко припомнят встречу с двумя здоровенными иноземцами — один ониксовый, другой оттенка дубленой кожи — которые торопливо шли куда-то.
Баратолу пришлось оставить всякие попытки маскироваться. Чаур всю дорогу завывал с пылким негодованием впервые высеченного ребенка — ребенка, пораженного страшным открытием: не все поступки одобряются любящими родителями и сталкивать, к примеру, брата с утеса почему-то не дозволено.
Он пытался успокоить Чаура, но тот, хоть и дурачок, легко уловил оттенок неодобрения в голосе, тем более Баратол не особенно и старался скрыть неодобрение — что же, он имел на это право, он был потрясен внезапностью событий! — и теперь громадное дитя будет голосить до полного изнеможения, а изнеможение наступит ох как нескоро…
В двух улицах до гавани трое стражников в тридцати шагах позади них внезапно разразились криками; охота пошла по — серьезному. К удивлению Баратола, Чаур вдруг замолчал. Кузнец на бегу подтащил его поближе. — Чаур, слушай. Иди назад на корабль — понял? Назад на корабль, к леди, понял? Назад к Злобе — она тебя спрячет. На корабль, Чаур, понял?
Чаур Кивнул. Глаза его были красными, по щекам текли слезы, лицо опухло.
Баратол толкнул его: — Иди один — я тебя догоню. Иди!
И Чаур пошел, пошатываясь и расталкивая людей, пока перед ним словно чудом не открылся проход.
Баратол повернулся, готовясь задать взбучку троим стражникам. Нужно дать Чауру хоть сколько — то времени…
Он управлялся вполне успешно — кулаки и сапоги, локти и колени — и если бы не прибывшие подкрепления, он остался бы победителем. Шестерых на одного оказалось слишком много, и его повалили на землю, забили почти до потери сознания.
Случайная мысль проплыла сквозь миазмы боли и смятения, пока его тащили в ближайшую каталажку. Он уже видывал камеры. Там не так уж плохо, пока дело не доходит до пыток. Да он мог бы устраивать экскурсии по тюрьмам — из страны в страну, с континента на континент. А всего — то хотелось основать кузницу без разрешения местной Гильдии.
Что может быть проще?
Затем обрывки размышлений уплыли и его, хотя бы на время, благословило забытье.
— … и это великая глупость с нашей стороны, милый Резак, видеть все свои ошибки, но не находить в себе сил их исправить. Мы сидим, отупев от отчаяния, и при всей своей гениальности, всей своей чувствительности и необычайной способности видеть истину вещей тонем, словно улитки в половодье — цепляясь за насиженный камень и с ужасом ожидая момента, когда нас от него оторвет. Перед лицом страшного бедствия мы всего лишь цепляемся за место.
Можешь ли ты вообразить мир, в котором все преступления наказываются, в котором правосудие воистину слепо и не протягивает рук, готовясь радостно склониться под весом денег и влияния? Мир, в котором человек принимает ответственность за все свои ошибки, небрежности, за жестокие следствия равнодушия и лени? Нет, мы всё скорее убегаем и кружимся, пляшем и вертимся, впадая в круговерть плясобега, пока ноги не станут размытыми пятнами! Наши души превратились в тени, снующие в хаотическом несогласии. Мы поистине мастера уверток — не сомневаюсь, прежде это было способностью к выживанию, хотя бы в физическом смысле, но прилагать инстинкты к деяниям души — вот самое ужасное преступление против морали. И мы совершаем его снова и снова, чтобы продолжить существование. Итак, вот доказательство, что способность к выживанию может обращаться в свою противоположность и, отрекаясь от морали, мы обретаем тупое, жалкое, пустое выражение, пример которого Крюпп видит ныне напротив себя.
— Извини… что?
— Милый Резак, это тяжелый день. День неправильных решений и недопониманий, день неудач и убожества. День, в который мы скорбим о неожиданном, разверзнутой пасти «слишком поздно», глотающей нелепые решения, глотающей сами звезды. Если бы мы были истинно смелыми, мы с великим безрассудством шагнули бы в бездну, на высокую и шаткую тропу богов и, увидев то, что видят они, смогли бы наконец осознать безумие борьбы, абсурдность надежды, и шагнули бы за край, плача по темному будущему. Мы рыдали бы, друг, рыдали бы.
— Может, насчет убийства я знаю все, — пробубнил Резак, уставив остекленевшие глаза в кружку, которую сжимал в руках. — И может, ассасины не тратят времени на мысли, заслужила жертва смерть или нет. И даже на мысли вообще. Монета в руках или любовь в сердце — у награды так много… оттенков. Но этого ли она хочет на деле? Или это какой-то мгновенный… всплеск, как будто лопнула фляжка, которую вовсе не намеревались открывать… вино течет, руки красные, всё… красное.
— Резак, — сказал Крюпп тихим, но решительным тоном. — Резак. Ты должен выслушать Крюппа. Ты должен услышать… он покончил с блужданиями, испил свою долю ужасной и горькой беспомощности. Слушай! Резак, есть пути, по которым нельзя ходить. Пути, с которых нет возврата, как бы сильно ты не желал, как бы громко не кричала душа. Дорогой друг, ты должен…
Резак вздрогнул и вскочил. — Она не могла иметь в виду, — сказал он. — Она не могла намекать… Будущее, ей расписанное… волшебная сказка. Конечно, так и будет. Должно быть. Нет, нет и нет. Но все же…
Крюпп следил, как молодой человек уходит, как Резак проскальзывает в двери «Феникса» и пропадает из вида.
— Печальная истина, — сказал Крюпп, и неприсутствующие слушатели согласно вздохнули, — что привычка к излишней пышности речи затемняет точный смысл. Намерение легко скрывается за величественным избытком нюансов, за ритмом одновременно серьезным и шутовским, за склонностью к самовлюбленному лукавству, и немудрый легко проскальзывает мимо, погружаясь в воображаемые миры, в которых он столь чудесен, что не нуждается в убеждениях, ибо ему вполне достаточно своей непревзойденной мудрости. Вздохнем и вздохнем снова.
Поглядите на Крюппа, ковыляющего в высоких башмаках — но нет, его равновесие не всегда точно, пусть он и заслужил почести за весьма многие дела. Ковыляет, я говорю, и падают звезды, и плачут боги, и беспомощность стала кровавым океаном, он вздымается — но ведь мы утонем не одни? Нет, мы соединимся со славной компанией в сем леденящем уюте. Виновные и невинные, быстрые и вялые, умные и глупые, праведные и порочные — потоп равняет всех, опускает лицами в волну. Увы мне.
Увы мне…
Чудо — не услышанное в пересказе из вторых, третьих уст, но увиденное. И вы засвидетельствуйте: четверо носильщиков могли бы пронести паланкин мимо, но — смотрите! — слабая, узловатая рука протягивается, влажные пальцы касаются лба Мирлы.
И носильщики, привыкшие к подобным жестам случайной милости, останавливаются.
Она уставилась в глаза Пророка и узрела ужасающую боль, до совершенства очищенное ничтожество, знание, выходящее далеко за пределы понимания ее бесполезного, полного чепухи разума. — Мой сын, — прошептала она. — Мой сын… моя суть… мое сердце…
— Суть, да, — сказал он, и пальцы впились в лоб стальными гвоздями, обнажая весь ее стыд и срам, ее слабость, ее бесполезную глупость. — Я могу благословить. Ты чувствуешь мое прикосновение, милая женщина?
И Мирла смогла лишь кивнуть, ибо она почувствовала, о да, почувствовала.
Сзади наплыл на нее трепещущий голос Бедека: — Славный Пророк… наш сын похищен. Мы не знаем, где он, и мы думали, мы думали…
— Ваш сын недоступен спасению, — заявил Пророк. — В его душе мерзость знания. Я могу ощутить, как вы двое слились ради его зачатия… да, твоя кровь стала ядом рождения. Он понимает сочувствие, но не сочувствует. Он понимает любовь, но пользуется ею как оружием. Он понимает будущее и знает, что оно не будет ждать никого, даже его самого. Твой сын — живая пасть, живая пасть, и пищей ему будет весь мир. — Рука отдернулась, оставив на лбу Мирлы ледяные пятна — в этих местах умерли все нервы. Навсегда. — Даже Увечный Бог должен отвергнуть такую тварь. Но тебя, Мирла, и тебя, Бедек, я благословляю. Благословляю вашу пожизненную слепоту, ваше бесчувственное касание, бегство недокормленных умов. Благословляю увядание двух прекрасных цветков — дочерей ваших — ибо вы сделаете из них точные свои копии, если не хуже. Мирла. Бедек. Я благословляю вас во имя пустой жалости. Теперь идите.
И она сделала шаг назад, споткнулась о тележку, повалила ее и Бедека. Он завопил, тяжело ударившись о мостовую, а через мгновение жена шлепнулась на него сверху. Левая рука громко треснула, пока носильщики с Пророком удалялись; толпы поклонников ринулись следом, бездумно и безжалостно топча упавших. Тяжелый башмак наступил на бедро Мирлы, и она закричала, потому что новый перелом послал волну мучительной боли по всей ноге. Другая нога, босая, ударила ее в лицо, ногти рассекли щеку. Пятки топтали руки, пальцы, лодыжки.
Бедек ухитрился мельком взглянуть вверх и увидел лицо человека, отчаянно перелезавшего через них — они оказались на пути к Пророку, и когда этот человек поглядел вниз, просительное выражение на его лице сменилось черной злостью. Он вогнал каблук сапога в горло Бедека, раздавив трахею.
Потеряв способность дышать после этого несчастья, Бедек выпучил глаза. Лицо его стало сине-серым, а потом багровым. Сознание покидало его, глаза тускнели, тускнели.
Все еще вопя, Мирла подползла к мужу — увидев только, что он неподвижен — и пробилась сквозь лес твердых, движущихся ноги — колени и щиколотки, подошвы… и оказалась вдруг на открытом пространстве, на скользких камнях.
Хотя она не могла видеть, но пятна гангрены расползались по лбу — она только ощутила нечто мерзкое, ужасающе мерзкое, как будто кто-то бросил рядом какую-то падаль. Она просто не может разглядеть… Боль в сломанном бедре пульсировала, нога стала мертвым грузом, как бы отделившись от тела.
Мы бежим с места, где нас ранили. Как любой зверь, мы бежим от места, где нас ранили. Бежим или ползем, ползем или тащимся, тащимся или хотя бы дергаемся. Мирла поняла, что даже такого усилия ей не совершить. Она сломана. Она умирает.
Она умирает.
«Глядите! Я благословлена. Он меня благословил.
Благослови вас всех».
Он едва способен стоять на ногах — а придется вести дуэль. Муриллио развязал кошель и бросил только вернувшемуся мастеру. Кошель упал с тяжелым стуком, подняв облако пыли. Я пришел за мальчиком, — сказал Муриллио пыхтящему, покрасневшему от натуги старику. — Тут больше, чем он стоил — вы принимаете плату, мастер?
— Не принимает, — сказал Горлас. — Я придумал для малыша Харлло нечто особенное.
— Он никоим образом не вовлечен в…
— Ты только что вовлек его, Муриллио. Один из вашего клана. Может, даже отродье одного из твоих бестолковых друзей в «Гостинице Феникса». Вы ведь там привыкли околачиваться? Ханут узнал о вас все, что только можно узнать. Нет, мальчик уже вовлечен, и поэтому тебе его не получить. Я возьму его и вдоволь потешусь.
Муриллио вытащил рапиру. — Что делает людей такими, как ты, Горлас?
— Могу спросить то же самое про тебя.
«Что же, вся жизнь — сплошная ошибка. Возможно, мы с ним схожи сильнее, чем готовы признать». Он увидел, как мастер поднимает кошелек. Мерзавец взвесил его на ладони и ухмыльнулся: — Насчет тех процентов, Советник…
Горлас улыбнулся: — Кажется, ты наконец-то очистился от долгов.
Муриллио принял стойку: клинок выставлен, правая рука слегка согнута в локте, левое плечо назад, чтобы уменьшить площадь поражения тела. Не спеша покачался, ища точку равновесия.
Все еще улыбаясь, Горлас Видикас встал почти в такую же позицию, только чуть сместил торс вперед. Этот дуэлянт явно не готовится отступать. Муриллио припоминал виденную им схватку: до самого финала Горлас не сделал даже шага назад, не желая сдавать и пяди земли, не заботясь о преимуществах, которые иногда дает тактическое отступление. Нет, он будет давить и напирать, ничем не поступаясь.
Горлас щелкнул рапирой по клинку Муриллио, бросая презрительный вызов и желая оценить реакцию.
Реакции не было. Муриллио просто вернулся в первоначальную позицию.
Горлас нанес несколько пробных выпадов, целя в разные точки возле оружейного пояса, играясь с гардой; Муриллио мог бы попытаться заклинить перекрестьем гарды рапиру противника, но при этом пришлось бы изогнуть запястье — не намного, но Горлас поспешил бы сделать прямой выпад сквозь ослабевшую защиту. Поэтому Муриллио не мешал ему. Он не хотел торопиться. Он подозревал? что ему, уставшему, сбившему ноги, удастся нанести лишь один решительный удар. Пронзить острием коленную чашечку, или голень опорной ноги, или нанести порез в область сухожилий, навсегда лишив врага возможности сражаться привычной рукой. А может быть, выше, в плечо, когда противник присядет для низкого выпада.
Горлас наседал, сокращая дистанцию. Муриллио отступил.
Ноги пронзила боль.
Он ощутил, что в сапогах стал мокро. Проклятая вонючая сукровица из вскрывшихся мозолей…
— Думаю, — заговорил Горлас, — у тебя что-то не то с ногами. Муриллио, ты стоишь как на гвоздях.
Муриллио пожал плечами. Ему было не до разговоров — сохранить концентрацию под уколами боли становилось все труднее.
— Что у тебя за немодная стойка, старикан. Слишком… высокая. — Горлас продолжал играть рапирой, угрожая то тут, то там. Он начал раскачиваться на пятках, вынуждая Муриллио повторять эти движения.
Когда он наконец перешел к нападению, движения стали быстрыми как удары молний.
Муриллио заметил обманный выпад, отвел выпад настоящий и выбросил руку в ответ — однако в этот миг он качнулся назад, и острие рапиры только порвало кружева на рукаве Горласа. Прежде чем он успел вернуть равновесие, молодой дуэлянт резко отбил его выпад и выбросил руку вперед еще сильнее, помогая все телом — приблизившись так сильно, что защита Муриллио оказалась неэффективной, как прежде нападение.
Жжение в левом плече. Пошатнувшись назад (движение заставило рапиру противника выйти из раны), Муриллио выпрямился. — Кровь пущена, — сказал он, и голос задрожал от боли.
— Ой, — сказал Горлас, снова принявшись качаться взад и вперед, — а я передумал.
«Одного оскорбления недостаточно. Я ничему не учусь».
Муриллио ощутил, как тяжело бьется сердце. Шрам от недавней, почти смертельной, раны запульсировал, готовый открыться. Он чувствовал, как сочится кровь из плеча, чувствовал теплые капли, промочившие рукав до локтя.
— Кровь пущена, — повторил он. — Сам можешь видеть, что больше я фехтовать не способен. Мы заключили соглашение при свидетеле, Горлас.
Горлас глянул на ручного мастера: — Ты точно помнишь, о чем мы говорили?
Старик пожал плечами: — Вроде бы насчет ранения…
Горлас нахмурился.
Мастер прочистил горло. — Ни и всё. Думаю, это был спор. Никак не слышал, чтобы вы соглашались.
Горлас кивнул: — Свидетель свое слово сказал.
Сотни зрителей в яме шумели и свистели. Муриллио гадал, нет ли среди них Харлло.
— Готовься, — сказал Горлас.
Что же, будь что будет. Десять лет назад Муриллио уже стоял бы над трупом этого типа, сожалея, конечно же, что не удалось решить дело миром. Благодать ушедших дней, старого ясного мира. А сейчас все так… перепуталось.
«Я сюда не умирать приехал. Лучше что-то сделать. Я должен выжить. Ради Харлло». Он вернулся к прежней стойке. Что же, для ослабевшего пригодна лишь защита; он должен отражать выпады, а если контратаковать, то лишь ради нанесения смертельной раны. «Так должен думать Горлас, так текут мысли в его ублюдочном уме. Ну, пора его удивить».
Шаг и выпад получились элегантным и очень быстрыми для человека его возраста. Горлас, только что качнувшийся вперед, был вынужден отпрянуть, парировав с трудом и без всякого изящества. Ответный удар он нанес торопливо и неаккуратно; Муриллио поймал его рапиру, отбил и сделал второй выпад — тот, который готовил с самого начала — вытянулся, целясь в сердце или легкое — все равно, сойдет и то и это…
Но каким — то непостижимым образом Горлас уже оказался ближе, сместившись вбок — он, оказывается, и не отступал назад, просто отклонил торс — и на этот раз выпад его был очень обдуманным, точным.
Муриллио уловил блеск даруджийской стали и перестал дышать. Что-то текло по боку, заполняло рот.
Он еще ощутил, как рвется горло — Горлас выдернул острие рапиры из раны и отступил вправо.
Муриллио начал поворачиваться за ним, но потерял контроль над телом, ноги согнулись… он лежал на твердой земле.
Мир померк.
Он слышал, как Горлас что-то говорит — то ли сожалеет, то ли нет.
«О Харлло. Мне так жаль… жаль…»
И наступила тьма.
Его пробудил удар ногой в лицо, но боль тут же исчезла, унося с собой всё прочее.
Горлас Видикас встал над трупом Муриллио. — Позови возчика, пусть отвезет тело в город, — сказал он мастеру, склоняясь и вытирая оружие о ручное кружево шелковой рубашки жертвы. — Доставьте его в «Гостиницу Феникса», и рапиру, и все остальное.
В яме люди веселились и стучали кирками, словно толпа оборванных варваров. Горлас обратил лицо к ним и поднял руку в приветствии. Крики усилились. Он повернулся к мастеру: — Дополнительный бочонок эля рабочим.
— Они будут пить за ваше здоровье, Советник!
— Да, и найдите мне мальчишку.
— Думаю, это его смена в шахте, но я кого-нибудь пошлю.
— Отлично. Не церемоньтесь с ним. Но проследи, чтобы его не забили до смерти. Если его убьют, я лично выпущу кишки каждому. Убедись, что все поняли.
— Слушаюсь, Советник. — Мастер помешкал. — Никогда не видывал такого умения… казалось, он вас сделает…
— Уверен, он и сам так думал. Иди ищи возчика. Быстро.
— Спешу, Советник!
— Да, я беру кошель. Мы в расчете.
Мастер поспешил поднести деньги. Ощутив тяжесть кошеля, Горлас поднял брови. Годовое жалование мастера у него под носом. Похоже, Муриллио принес все свои сбережения. В три раза больше всех процентов, не уплаченных этим дураком. Но если бы мастер начал пересчитывать и откладывать лишнее… что же, тут осталось бы два трупа. Может быть, старый дурак не так — то глуп.
Это был, как подумал Горлас, отличный денек.
Итак, вол начал долгое возвращение в город, заковылял по выбоинам дороги, и на дне телеги лежало тело человека, ставшего слишком порывистым и, вполне возможно, слишком старым для опасных авантюр; но кто посмеет сказать, что сердце его очерствело? Кто упрекнул бы его в нехватке мужества? Но отсюда возникает более тяжелый вопрос: если сердца и мужества недостаточно, что нам делать?
Вол чуял кровь, и она ему не нравилась. Это запах хищников, охотников. В косном мозге животного пробудились самые темные инстинкты. Он ощущал за спиной смерть, и сколько бы шагов он ни делал, запах смерти не отставал. Вол ничего не понимал и потому покорялся.
В сердце зверя нет места скорби. Он горюет лишь по себе самому. Вот двуногие хозяева, они совсем другие.
Мухи летали, тоже не задавая вопросов. Свет дневной угас.
Глава 18
«Король всходит на трон», надпись на Стене Поэтов в Королевских темницах Анты
- Он из толпы, его никто не знает
- Вам не запомнить стертого лица
- В душе кружится темных страхов стая
- Не ведая начала и конца
- Он так себе, хотя не хуже прочих
- Не падайте в его бездонный взгляд
- Звезда любви объята мутной ночью
- И не найти уже пути назад
- Ни брат он вам, не друг и не спаситель
- Подходит, лишь стремясь сорвать цветок
- Сочувствия. Но руку оттолкните
- Куст розовый ему не был бы впрок
- Он ощипал свой сад, оставив кости
- Плоть изодрал, взлелеяв боль и страх
- Похоронив себя, блуждает по погосту
- Скрипит зубами, топчет пыль и прах
- Я вижу с ужасом, что он воссел на троне
- Стыда и срама сбросив пелену
- Навеяв нам мечты о теплом доме
- И каждому суля покой и тишину
- Он в равнодушии людском черпает силы
- Никто не смеет возражать ему
- Лишившись воли, мы бредем уныло
- И убивают нас по одному.
С рычанием повернув голову, Шен бросился на Локона. Громадный белый зверь не стал огрызаться или убегать, но просто сместился в сторону, оскалив пасть в подобии смеха. Блед следил за ними с недалекой дистанции. Все еще скалясь, Шен нырнул в высокую траву.
Барен, Слепая, Руд и Геар даже не замедлили бега — такие стычки случались уже не раз — и продолжали двигаться в строе, напоминающем полумесяц (Руд и Геар были на флангах). Антилопы завидели их с юго-западного холма — малейшее движение головы одной из Гончих, и животные умчатся со всех длинных ног, и в сердцах их барабанами застучит смутный ужас.
Но сегодня Гончие Тени не охотятся. Ни на антилоп, ни на бхедринов, оленей или норных ленивцев. Ордам тварей, живущих в состоянии благословенной незаметности или страха, не придется переходить от первого состояния ко второму — по крайней мере из-за чудовищных Гончих. Что до равнинных волков, курносых увальней-медведей и охряных котов в высокой траве, то их нет поблизости — слабый намек на запах Псов, и они убежали за лиги.
Великие Вороны кружили высоко над Гончими, подобные мельчайшим соринкам на лазурном своде небес. Шену не нравились новые компаньоны, эти пятна грязно-белого цвета с безжизненными глазами. В особенности его злил Локон, имевший привычку бежать с ним бок о бок, безмолвно, словно призрак. Сильнее всего раздражало то, что по силам они были ровней.
Где-то далеко позади шли преследователи. За необычайно долгую жизнь Гончих Тени преследовали множество раз. Чаще всего охотникам приходилось сожалеть о своем решении, принятом под влиянием инстинкта или мгновенного побуждения; порожденное злобой душ или окриком хозяина желание оказывалось роковым.
Но иногда бегство от погони доставляло им столь изысканное удовольствие, что Гончие не бросались на охотников. Пусть погоня продолжается и продолжается. Давайте танцевать на краю тропы этой ярости, этой слепой нужды.
Все вещи отбрасывают тени. Если огонь пылает как в аду, тень становится густой, ее очертания острыми; она начинает двигаться. Ее форма — отражение. Но не все отражения истинны. Некоторые тени лгут. Обман рождается воображением, а воображение страхом; а может быть, наоборот — воображение возбуждает страх. Как бы там ни было, тени процветают.
В темном пространстве возбужденного ума все воображенное может стать реальным. Зверь и тень, им отброшенная. Тень зверя и свет, которым она рождена. Они разделяются, ссорятся, превращаясь в кошмары.
Философы и дураки могут заявлять, что свет лишен формы, что он существует лишь ради обрисовывания формы вещей, являясь побочным эффектом зрения. Что в отсутствии вещей он прозябает в незримости, бездеятельности. Без вещей, которые можно обрисовать, он не играет, не струится, не отражается. Скорее он — вечный поток. Если так, то свет уникален для вселенной. Но у вселенной есть лишь один нерушимый закон: ничто не уникально.
Философы и дураки, увы им, не поняли суть света.
Вообразите форму зверей, Псов, монстров, злыдней, ночных кошмаров из света, тьмы и тени. Пригоршня глины, вдох жизни, и силы внутри тела закипают в ссоре, следуя вложенным в души правилам.
Дераготы темны и, в грубой дикости своей, готовы предъявить права на отброшенные ими тени. Локон и Блед, однако, являются светом, что придал форму Дераготам, и без них ни Дераготы, ни Гончие Тени не могли бы существовать. Если преследователи и преследуемые так захотят, однажды звери могут встретиться, скрестить злобные взоры, желая взаимного уничтожения… и тут же, в мгновенной вспышке тупого удивления, испариться. Ха, ха. Не все инстинкты способствуют выживанию. Жизнь отражается в глупости, никак иначе, и чем мудрее жизнь, тем глупее она может стать. Гончие Тени не отличаются ни гениальным умом, ни полной глупостью. Они всего лишь хитры.
Приветствия сей трехчастной вселенной, столь взаимонастойчивой. А почему нет? Она даже не существует нигде, кроме клетки отчаянно нуждающегося в упрощениях разума.
«Разума вроде моего», подумал Котиллион.
И оглянулся на компаньона. «Но не его. Когда находишься в центре игры, вопросов не возникает. Почему? На что это похоже — быть в «глазе» урагана? Что происходит, дорогой Амманас, когда ты моргаешь?»
— Это, — пробормотал Темный Трон, — было неожиданно.
— Мерзкое усложнение, — согласился Котиллион. — Нам нужны Гончие именно здесь, хотя бы ради безопасности.
Темный Трон фыркнул: — Все всегда небезопасно. Боги, я должен снова использовать безумного Верховного Жреца.
— Искарал Паст. — Котиллион не сразу понял, что улыбается. И поскорее стер улыбку, ибо если бы Темный Трон увидел, его мог бы разбить паралич. — Сордико Шквал прекрасна, но даже она ничего не гарантирует… особенно теперь.
— Как и Паст! — крикнул Темный Трон.
Они увидели, что Гончие приблизились, заинтересовавшись нежданным перерывом. Их задача ведь проста и пряма. Пряма как стрела.
Котиллион оглянулся через плечо и прищурил глаза, рассматривая приближающуюся тощую фигуру. Она шла прямо к ним. Нет, не совсем — она шла на треклятое схождение сил, и что же он сможет изменить?
— Слишком много историй, слишком много полуправд и откровенной лжи. — Темный Трон словно выплевывал каждое слово. — Щенки Тисте Эдур — кажется, сойдет любой, знающий старые команды. Но теперь…
— По моим… э… исследованиям, это зовут Тулас Отсеченный. Но я не знаю точно, какого он пола и что вообще осталось от его пола. Кажется, так немного, что уже не понять.
Темный Трон хмыкнул и ответил: — По крайней мере, оно изменило форму — ох, как я ненавижу драконов! Если у паразитов есть трон, на нем сидит дракон.
— Где случается заваруха, там они в самой сердцевине. Верно. Элайнты, Солтейкены — мало разницы, когда дело доходит до драки.
— Это хаос в их венах, Котиллион. Вообрази, как скучно было бы без них… Слава скуке!
— Как скажешь.
— Итак, — решил завершить разговор Темный Трон, — как все это укладывается в твои столь смехотворно закрученные теории?
— Они закручены только потому, что лишены твердой основы… если извинишь неловкую игру слов. Свет, Тьма, Тень. Гончие такие и сякие. Эти твари могут существовать только по вине семантики.
Темный Трон фыркнул: — Тебе не приходилось за ними подчищать. Вот причина столь дурацкого суждения. Они воняют, они чешутся и пускают слюни, храпят и еще лижутся, Котиллион. Ох, они рвут вещи на куски. Когда захотят.
— Потому что мы этого ожидаем.
— Да ладно.
— Слушай — почему у Дераготов такое запутанное происхождение? Дикие звери из пыльных эонов древности, их осталось всего семь во всем мире — и Первый Император, бывший кем угодно, только не первым, выбрал их как вместилища своей разделенной души. Очень хорошо. Но вот Гончие Тени и вероятные Гончие Света…
— Они просто альбиносы, Котиллион. Деталь не особенно важная и, к тому же, их всего два…
— Известных нам, а знаем мы о них лишь потому, что они забрели в наше Королевство — зачем? Кто или что их призвало?
— Я, разумеется.
— И как?
Темный Трон дернул плечом: — Подумал вслух о… необходимости замены.
— И это заменило призывание? Кажется, однажды я слышал, как ты думал вслух о «необходимости» потрясающе прекрасной Королевы Теней, рабыни каждого твоего желания…
— Ты прятался за шторой! Я так и знал!
— Не в этом суть. Где она?
Вопрос остался без ответа, потому что подошел Тулас Отсеченный, встав в десяти шагах. — Кажется, — начал неупокоенный Эдур, — мои Гончие нашли себе новых … питомцев.
— Отпили ему голову, Котиллион, — приказал Темный Трон. — Я уже его ненавижу.
Шен проскользнул мимо Котиллиона, устремив взор на Туласа. Миг спустя подбежали остальные, окружив Тисте Эдур.
Он протянул руки, как бы призывая псов подойти ближе.
Они не двинулись.
— Полагаю, живым ты нравился им больше, — заметил Котиллион. — Мертвые так много теряют…
— Если бы во мне умерли чувства! — сказал Тулас и вздохнул, опуская руки. — Но я рад их видеть. Хотя двух недостает.
Котиллион быстро огляделся. — Да, ты прав.
— Убиты?
— Убиты, — подтвердил Темный Трон.
— Кем?
— Аномандером Рейком.
При звуке этого имени Тулас Отсеченный вздрогнул.
— Он еще бродит поблизости, — сказал Темный Трон. — Да. Ха-ха. Убийца Псов.
— И, похоже, любой из вас недостаточно силен, чтобы отмстить. Удивляюсь, что мои Гончие приняли столь слабых хозяев.
— А мне казалось, питомцев. Неважно. Ганрод и Доан умерли, потому что были неосторожны. Позор плохому дрессировщику. Я тогда так и сказал.
— Я хочу вас испытать, — после непродолжительного молчания сказал Тулас.
— Ты жаждешь Трона Тени, не так ли?
— Первое мое правление быстро окончилось. С тех пор я многому научился…
— Вряд ли. Ты умер. — Темный Трон повел призрачной рукой. — Чему бы ты ни учился, научился немногому. Это очевидно.
— Ты кажешься уверенным.
— Он такой, — сказал Котиллион.
— Значит, его поразила мегаломания?
— Ну… да. Но это к делу не относится.
— Какому делу?
— Дело в том, что ты мало чему научился.
— Почему вы так думаете?
— Потому что ты только что сказал, будто намерен нас испытать.
Тулас Отсеченный склонил голову набок. — Воображаете, что Гончие вас защитят?
— Эти? Возможно, и нет.
— Тогда… — Он не договорил, потому что Локон и Блед подбежали, опустив головы, взъерошив шерсть, и встали по бокам Амманаса и Котиллиона. Увидев их, Тулас сделал шаг назад. — Во имя Бездны… вы оба разум потеряли? Они не могут быть здесь… им не место среди вас…
— Почему? — спросил Котиллион, с внезапным интересом склоняясь вперед.
Но Тисте Эдур только качал головой.
Белые как кость Гончие с трудом сдерживались, готовясь броситься в смертельную атаку. В глазах полыхала ненависть.
— Почему? — снова спросил Котиллион.
— Неумолимые силы… Нам кажется, что мы победили, но дикость остается. Контроль — заблуждение ума самозваных хозяев. — Последние слова были наполнены презрением. — Поводок, глупцы… перетерся. Неужели вы совсем ничего не видите?
— Может…
Тулас Отсеченный снова воздел руки — на этот раз в охранительном жесте. — Мы думали так же. Когда-то. Мы обманули себя мыслью, что мы хозяева, что все силы склонились перед нами. И что случилось? Они уничтожили всё!
— Я не пони…
— Так пойми! Узри! Это создания — проявления — служащие, чтобы предостерегать вас. Они — объяснение, что всё, вами порабощенное, обернется против вас. — Он отвернулся. — Конец начинается снова. Снова и снова.
Котиллион сделал шаг: — Свет, Тьма и Тень — эта троица — ты говорил…
— Троица? — Тулас Отсеченный захохотал дико и горько. — А как насчет Жизни? Огня, Камня и Ветра? Как насчет Гончих Смерти, глупцы? Я сказал — проявления. Они предадут, обещаю! Для этого они и существуют! Клыки и ярость — неумолимая ярость — каждый из аспектов лишь вариация, оттенок урагана разрушения!