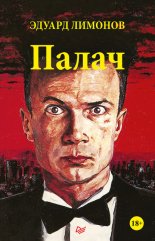Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик
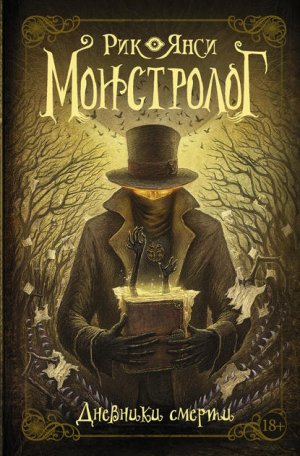
– Было бы ужасно, а, – сказал Граво с искорками в темных глазах, – если бы он, эта незаменимая шестерня в нашем механизме, пал жертвой того, кого мы ищем?
– Страшная мысль, – хмыкнул Пельт.
– Я монстролог, – легко возразил Граво. – Это моя профессия – думать страшные мысли.
Разумеется, Рийс выжил той ночью. Он появился около середины утра, когда дискуссия затихла, и ограничивалась рассеянными замечаниями с долгими паузами между ними. День, как назло, потемнел. Здания по другую сторону Пятой авеню стояли в полутьме; снег, которого нападало полдюйма, лежал на тротуарах, отсвечивая серым. Фон Хельрунг два раза затянулся сигарой и отложил ее. Когда прозвенел звонок, он соскочил с кресла и сшиб пепельницу, и потухшая сигара покатилась по персидскому ковру. Граво ее подобрал и сунул себе в карман.
– Уортроп, – сказал датский журналист, пожимая доктору руку. – Вы выглядите ужасно.
– Я тоже рад снова вас видеть, Рийс.
– Я не хотел вас обидеть. В утешение могу сказать, что я видел людей, которые после Мюлберри были и в состоянии похуже – им нужен был катафалк.
– Спасибо, Рийс, теперь мне стало гораздо лучше.
Рийс улыбнулся. Но улыбка быстро пропала.
– Ну, фон Хельрунг, открывайте свою коробку с красными булавками. Ваше чудовище трудилось вовсю. Было еще трое, возможно, четверо, – проинформировал он монстрологов. Он показывал точки на карте, и фон Хельрунг втыкал туда символически окрашенные булавки. – Я говорю «возможно», потому что есть одно исчезновение, из богемского квартала. Очевидцев не было, но обстоятельства подпадают под те тревожные критерии, которые вы обрисовали. Свидетели говорят о жутком запахе, о виденной мельком призрачной фигуре с огромными светящимися глазами. А в одном примечательном свидетельстве не очень надежного источника упоминается большой серый волк на ближней крыше.
– Волк? – повторил Торранс.
– Оно способно менять форму, – сказал фон Хельрунг. – Это хорошо описано в литературе.
– Да, в той, что проходит в каталогах как беллетристика, – презрительно бросил Уортроп.
Рийс пожал плечами.
– Другие случаи – это явно работа нашего человека – или кто он там. Останки – именно останки – были обнаружены высоко над улицей. Двое лежали на крышах, а третий был насажен на печную трубу харчевни там, – он кивнул на булавку, – в китайском квартале. Этот случай особенно поразителен хотя бы потому, какая сила потребовалась, чтобы протолкнуть такой предмет сквозь человеческое тело.
Я бросил взгляд на доктора. Подумал ли он о том же, о чем я? Встал ли перед глазами его памяти, как у меня, расщепленный ствол, торчащий из оскверненного трупа Пьера Ларуза?
– У всех исчезли глаза и кожа лица, – продолжал Рийс. – Кожа была отодрана от мышц с хирургической точностью. Все трупы были обнаженными. – Он сглотнул, в первый раз немного надломившись. Он достал из кармана платок и вытер лоб. – И все трое были молоды. Самый старший был единственным сыном китайца, который приехал только в августе. Мальчику было пятнадцать лет, и он был очень маленьким для своего возраста.
– Самые слабые, – пробормотал фон Хельрунг. – Самые уязвимые.
– Самую младшую нашли на изгибе Мюлберри, всего в нескольких кварталах от моей конторы. Девочка. Ей было семь. Она была изуродована больше всех. Я опущу детали.
С минуту все молчали. Потом фон Хельрунг тихо спросил:
– Их сердца.
– Да, да, – кивнул Рийс. – Вырваны из груди – и когда я говорю «вырваны», я имею в виду, что они именно вырваны. Плоть разодрана, ребра сломаны пополам, а сами сердца…
Он не закончил. Фон Хельрунг утешающе положил ему на плечо руку, которую Рийс тут же стряхнул.
– Я думал, что видел все ужасы, которые только можно представить в трущобах этого мегаполиса. Голод, пьянство, пороки. Лишения и отчаяние, сравнимые с худшими из европейских гетто. Но это. Это.
– Это только начало, – мрачно сказал фон Хельрунг. – И только та часть начала, о которой мы знаем. Боюсь, сегодня обнаружится еще больше жертв.
– Тогда не будем терять времени, – сказал Торранс. От сообщения Рийса у него заиграла кровь. – Давайте сделаем то, чему мы обучены, джентльмены. Давайте отыщем и убьем эту тварь.
Уортроп отреагировал моментально. Он развернулся к молодому человеку и так ударил по столу тростью, что Торранс дернулся в кресле.
– Всякий, кто причинит вред Джону Чанлеру, ответит передо мной! – прорычал доктор. – Я не пойду на хладнокровное убийство, сэр.
– Я тоже, – согласился с ним Пельт. – Только если не будет другого выбора.
– Конечно, конечно, – поспешно сказал фон Хельрунг. Он избегал ледяного взгляда Уортропа. – Линия раздела между тем, что мы есть, и тем, чего мы добиваемся, тонка, как лезвие бритвы. Мы будем помнить о своей человечности.
Фон Хельрунг предложил разделиться на три группы, чтобы расследовать преступления, о которых доложил Рийс. Уортропу идея не понравилась; он настаивал, чтобы мы оставались вместе; разделение нас только ослабит и умалит наши шансы на успех. Его мнение отвергли, но он отступал не ярдами, а дюймами: следующее, что он оспорил, был состав групп, определенный фон Хельрунгом. Тот поставил Уортропа в пару с Пельтом, себя с Доброджану и Торранса с Граво.
– Опыт надо объединять с молодостью, – доказывал он. – Я должен идти с вами, Meister Абрам. Пельт с Торрансом. Граво с Доброджану.
– Пеллинор прав, – согласился Пельт. – Не годится, чтобы с ним столкнулись вы с Доброджану, если оно такое сильное и быстрое, как вы говорите.
Доброджану напрягся. Он обиделся.
– Я с возмущением отвергаю намек на то, что я не могу за себя постоять в критической ситуации. Надо ли напоминать вам, сэр, кто в одиночку поймал – напомню, поймал живым – единственный в истории монстрологии экземпляр Malus cerebrum comedo?
– Это было довольно много лет назад, – сухо сказал Пельт. – Я не хотел вас обидеть. Я ненамного моложе вас, и я думаю, что предложение Пеллинора абсолютно здравое.
Это – и необходимость спешить – положило конец спорам. Рийс ушел, пообещав вернуться к ночи с новыми сведениями и, как он надеялся, с поздравлениями по случаю успешного преследования.
Мне выпало проводить Рийса до дверей. Он заправил под пальто теплый шарф и поднял воротник, прищурившись сквозь круглые очки на серый ландшафт. Снег вернул тревожные воспоминания: мы покинули серую землю, а теперь казалось, что серая земля пришла за нами.
– Хотел бы дать вам один совет, молодой человек, – сказал он. – Вы хотите его выслушать?
Я покорно кивнул.
– Да, сэр.
Он наклонился ко мне, задействовав всю силу своей мощной личности:
– Уходи. Беги! Сейчас же, не откладывая. Беги, как будто за тобой гонится сам дьявол. Во всем этом деле есть что-то тревожное. Это не для детей. – Он поежился на холодном воздухе. – Кажется, ему нравятся дети.
Я вернулся в штабную комнату, где фон Хельрунг выложил шесть коробок и несколько длинных ножей с длинными посеребренными лезвиями. Все, за исключением Уортропа, проверяли свое оружие, пробовали спусковые крючки и с неподдельным любопытством изучали содержимое коробок, рассматривая на свет сверкающие серебряные пули.
– В литературе нет никаких сведений о том, что Lepto lurconis нуждается во сне, – говорил австрийский монстролог. – И я не склонен думать, что мы найдем его в таком удачном для нас состоянии. Легенда настаивает, что оно нападает с огромной скоростью и с ужасающей силой. Аутико использует глаза, чтобы загипнотизировать свою жертву. Посмотреть в Желтый Глаз – значит погибнуть. Не забывайте об этом! Не расходуйте понапрасну боеприпасы – они очень ценные. Вы можете уничтожить Lepto lurconis, только пронзив ему сердце.
– И только в крайнем случае, – вставил Уортроп.
Фон Хельрунг отвел глаза и сказал:
– Еще сильнее его глаз его голос. Маленький Уилл слышал его прошлой ночью и почти поддался. Если оно зовет вас по имени, сопротивляйтесь! Не отвечайте! Не думайте, что можете его обмануть, притворившись, что попали под его чары. Оно вас поглотит.
Он по очереди посмотрел на каждого. Над нашим маленьким собранием нависла атмосфера суровой серьезности. Даже Граво казался подавленным, уйдя в свои темные мысли.
– То, что мы преследуем, джентльмены, старо, как сама жизнь, – сказал фон Хельрунг. – И постоянно, как смерть. Оно жестоко, коварно и вечно голодно. Оно может быть таким же скрытным, как Люцифер, но по крайней мере в этом оно с нами честно. Оно не таит от нас своей подлинной сущности.
Оставался один маленький вопрос: что делать со мной. Естественно, я надеялся, что буду сопровождать доктора, но эта мысль, похоже, не привлекала даже самого доктора. Он не без оснований опасался, что я в любой момент могу впасть в спровоцированное ядом бредовое состояние и стать нежелательной, а может быть, и фатальной помехой. Столь же непривлекательно выглядел и вариант оставить меня одного. Этому особенно противился фон Хельрунг; он был убежден, что минувшей ночью чудовище меня «пометило». Доброджану предложил отвезти меня в Общество.
– Если он не будет в безопасности среди сотни монстрологов, то где будет? – вопрошал он.
– Я думаю, ему надо пойти с нами, – сказал Торранс. Похоже, он не оставил мысли каким-то образом использовать меня как наживку. – Если не считать Уортропа, он единственный из нас, кто сталкивался лицом к лицу с одной из этих тварей.
Уортроп поморщился.
– Джон Чанлер не «тварь», Торранс.
– Ну, кем бы он ни был.
– Но я согласен, что его опыт может оказаться незаменимым, – продолжал Уортроп. – Поэтому он должен идти, но не со мной. Граво, его возьмете вы с Доброджану.
– Но я не хочу, чтобы они меня брали! – выкрикнул я, забывшись от невыносимой перспективы быть отлученным от него. – Я хочу идти с вами, доктор.
Он проигнорировал мою мольбу. В его глазах появился знакомый мне свет, обращенный внутрь. Казалось, он одновременно и с нами, и где-то очень далеко.
Пока мужчины заряжали свое оружие серебряными пулями и навешивали на пояса серебряные ножи, он отвел меня в сторону.
– Пойми, Уилл Генри, моя главная забота – уберечь Джона от этих безумцев. Я не могу сразу быть во всех местах. Я поговорил с Пельтом, и он согласился держать слишком рьяного Торранса на коротком поводке. Граво меня мало волнует – этот человек в жизни не стрелял и не смог бы попасть даже в стену амбара. А Доброджану не видит дальше четырех дюймов от своего носа. Но, хотя он и стар, он свиреп. Нож все еще у тебя?
Я кивнул.
– Да, сэр.
– Это все чепуха, ты ведь знаешь.
– Да, сэр.
– Джон Чанлер очень болен, Уилл Генри. Я не стану притворяться, будто все понимаю о его болезни, но он и сам не стал бы отрицать, что у тебя есть полное право себя защищать.
Я сказал, что понимаю. Монстролог давал мне разрешение убить его лучшего друга.
Часть двадцать седьмая. «Вода»
Вообще говоря, они не очень отличались – место, где он пропал, и место, где его нашли.
Пустыня и трущобы были лишь двумя ликами одной опустошенности. Серая земля рвущего душу ничтожества трущоб была столь же безысходной, как выжженная огнем и занесенная снегом лесная brl. Обитателей трущоб преследовал тот же голод, за ними гонялись такие же хищники, не менее жестокие, чем их лесные собратья. Иммигранты жили в убогих домах, набиваясь в комнаты чуть больше чулана, и их жизнь была жалкой и короткой. Только двое из пяти детей, родившихся в гетто, доживали до восемнадцати лет. Остальные становились жертвами алчного голода брюшного тифа и холеры, ненасытного аппетита малярии и дифтерии.
Неудивительно, что чудовище выбрало для охоты это место. Дичь здесь исчислялась сотнями тысяч, была упакована на территории, измеряемой не милями, а лишь кварталами; дичь безымянная и еще более беспомощная, чем самые затерянные в лесах ийинивоки, но так же хорошо знакомая с летящим на сильном ветру зовом, манящим на всем понятном языке желания.
Придя сюда, чудовище пришло к себе домой.
Моей группе достался богемский квартал, где днем раньше пропала девочка по имени Анешка Новакова. О ее исчезновении не сообщили в полицию, но известили местного священника, который, в свою очередь, рассказал об этом Рийсу.
Анешка, как мы узнали, была не из тех девочек, которые могут просто сбежать. Она была крайне застенчивой и маленькой для своего возраста, послушной старшей дочерью, помогавшей родителям крутить сигары за 1,20 доллара в день (чтобы кормить, одевать и обеспечивать жильем семью из шести человек). Она каждый день по восемнадцать изматывающих часов безвылазно проводила в их крохотной двухкомнатной квартире – одна из тысяч контрактных рабов табачных королей. Семья обнаружила ее пропажу утром. Анешка Новакова пропала посреди ночи, когда семья спала.
Доброджану, который сносно говорил по-чешски, получил адрес от священника, который не очень понимал наш интерес к этому делу, но имя Рийса имело большой вес в его приходе. Вовлеченность реформатора придавала нашему делу легитимность, хотя священник и проявил свое привычное недовеие к чужакам.
– Вы сыщики? – спросил он Граво. Он был особенно подозрительно настроен к этому французу, сующему свой галльский нос на его территорию.
– Мы ученые, – обтекаемо ответил Граво.
– Ученые?
– Это как сыщики, святой отец, только лучше одетые.
Квартира Анешки была в пределах пешего хода, но эта прогулка скорее напоминала поход в преждевременно сгустившихся из-за сильного снегопада сумерках. На каждом углу горели бочки с углями, как маяки, указывающие путь в трущобы, и дым от них еще больше сгущал снежную завесу, скрывая от глаз ландшафт. Мы шли в мир, почти лишенный красок, спускались в серое ущелье.
Посреди квартала Доброджану нырнул в какой-то просвет (это трудно было назвать переулком) между двумя ветхими зданиями, такой узкий, что нам пришлось пробираться боком, спиной к одной стене и почти упираясь носом в другую. Мы вышли на открытую площадку размером не больше гостиной фон Хельрунга.
Мы пришли на участок задних домов, называемых так, потому что они выходили не на основную улицу. Там было, наверное, от тридцати до сорока домов, наспех и кучно построенных по три-четыре вместо одного, разделенных кривыми проходами, узкими, как тропы в джунглях, с лабиринтом ветхих заборов, висящим на натянутых веревках бельем, шаткими перилами лестниц, безжизненной землей, утрамбованной до бетонной крепости тысячами худых ботинок. Я слышал блеяние коз и чувствовал вонь от сортиров, стоящих над мелкими канавами, переполненными человеческими испражнениями.
– В каком из них? – нервно поинтересовался Граво. Его рука исчезла в кармане пальто, где лежал револьвер, заряженный серебряными пулями.
Доброджану нахмурился.
– Я и на три фута ничего не вижу в этом чертовом тумане.
Из этого тумана материализовалась группа из четырех оборванцев – старшему было не больше десяти лет, – одинаково одетых в грязнейшие лохмотья, их мешковатые штаны держались на ремнях из связанных тряпок. Они сгрудились вокруг двух монстрологов, тянули их за пальто, протягивали ладони и на разные голоса тянули:
– Dolar? Dolar, pane? Dolar, dolar?
– Да, да, – раздраженно сказал Граво. – Ano, ano.
Он вложил требуемые монеты в их пригоршни, а потом вынул из кошелька пятидолларовую банкноту и покрутил ее перед их ошарашенными лицами. Они вдруг затихли, как церковные мыши.
– Zn Novkov? – спросил Доброджану. – Kde je Novkov?
При упоминании этого имени маленькая группа сразу посерьезнела, настырность сменилась страхом. Они быстро перекрестились, а двое еще и сделали жест против дурного глаза, бормоча:
– Upir. Upir!
– Kdo je staten? – жестко спросил Доброджану. – Kdo m vezme dom?
Трое ребят переминались, опустив глаза, а один – отнюдь не самый старший и не самый большой из них – выступил вперед. У него было изможденное лицо, высокие скулы и огромные глаза. Он старался говорить как можно смелее, но дрожь в голосе его выдавала.
– Nebojim se, – сказал он. – Vezmu vs.
Он выхватил банкноту из руки Граво. Она исчезла в каком-то потайном кармане его грязных лохмотьев. Его товарищи растворились в тени, оставив нас четверых на этом маленьком островке лысой земли, окруженном огромными обшарпанными домами.
Наш новый проводник уверенным шагом вел нас по немыслимому лабиринту бельевых веревок и заборов. Это была его вселенная, и, несомненно, если бы исчезла последняя частичка света, он бы нашел дорогу и в кромешной тьме.
Он остановился на подходе к зданию, неотличимому от всех других – те же шаткие лестницы, маскирующиеся под пожарные, зигзагом идущие через четыре этажа на крышу, те же выступающие плиты вместо балконов, огражденные сломанными перилами.
– Novkov, – прошептал мальчик, показывая на дом.
– Какой этаж? – спросил Доброджану. – Jak patro? Какая квартира? Kter byt?
Вместо ответа оборванец молча протянул ладонь. Граво с тяжелым вздохом дал ему еще одну пятидолларовую банкноту.
– Ve tvrtm pate. Posledn dvee vlevo. – Выражение его лица стало очень серьезным. – Nikdo tam nen.
Доброджану нахмурился.
– Nikdo tam nen? Что это значит?
– Что это значит? – эхом повторил Граво.
Мальчик показал на дом пальцем.
– Upr. – Он схватил рукой воздух и оскалил зубы. – To mu ted’ pati.
– Он говорит, что это сейчас принадлежит upr.
Оборванец отчаянно закивал.
– Upr! Upr!
– Upr? – спросил Граво. – О каком это upr он говорит?
– Вампир, – ответил Доброджану.
– Ага! Это уже что-то!
– Здание пустое, – сказал второй монстролог. – Он говорит, что теперь оно принадлежит upr.
– Вот как? Тогда мы зря тратим время. Я предлагаю вернуться к фон Хельрунгу и обо всем ему доложить – tout de suite, пока не наступила ночь.
Доброджану обернулся, чтобы задать мальчику еще один вопрос, и с удивлением обнаружил, что тот пропал. Он исчез в ледяном тумане так же внезапно, как и появился. С минуту все молчали. Граво для себя уже все решил, но пожилой монстролог еще раздумывал – идти вперед или давать сигнал к отступлению. Наводка была жуткая – брошенное здание, которое теперь принадлежало upr – самое близкое, что было в лексиконе к Lepto lurconis. Однако он подозревал, что наш проводник, возможно, просто отрабатывал деньги. Еще за пять долларов он бы нас радостно проинформировал, что в подвале есть лестница, ведущая в ад.
– Может, он соврал, – предположил он. – И дом вовсе не покинут.
– Вы видите внутри свет? – спросил Граво. – Я не вижу. Мсье Генри, у вас молодые глаза. Вы где-нибудь видите свет?
Я не видел. Только темные окна, тускло отражающие блики от бочек с углями во дворе.
– И у нас нет света, – заметил Граво. – Какой толк бродить в темноте?
– Еще не совсем стемнело, – возразил Доброджану. – У нас есть несколько часов.
– Может быть, мы по-разному понимаем, что такое темнота. Пусть нас рассудит мсье Генри. Каково твое мнение, Уилл?
Меня так редко спрашивали о моем мнении, что я даже не знал, есть ли оно у меня, пока оно не выскочило у меня изо рта.
– Нам надо войти. Мы должны знать.
Мы поднимались по шаткой задней лестнице. Доброджану шел впереди, одна рука была засунута в пальто и наверняка сжимала револьвер. Я шел следом, нащупывая пальцами рукоятку ножа, чтобы успокоить нервы. Граво был в арьергарде и по-французски бормотал что-то похожее на проклятия. Раз или два я уловил слово «Пеллинор».
Лестница была тревожно непрочной и раскачивалась с каждым нашим шагом, старые ступени жалостно скрипели и протестующе стонали. Мы добрались до площадки четвертого этажа, где наш предводитель достал из кармана револьвер и толкнул дверь. Мы последовали за ним.
Во всю длину здания шел узкий, плохо освещенный коридор; его стены почернели от копившейся десятилетиями грязи, на полу блестели пятна воды и более темные кляксы неизвестного происхождения, возможно, моча или испражнения, потому что в коридоре воняло и тем, и другим, а также вареной капустой, табаком, дровяным дымом и еще особым запахом человеческого отчаяния.
Было очень холодно и смертельно тихо. Мы с минуту стояли не двигаясь и едва дыша, пытаясь услышать какие-нибудь признаки жизни. Ничего.
Доброджану прошептал.:
– Конец коридора, последняя дверь налево.
– Уилл Генри должен пойти первым, – предложил Граво. – Он самый маленький, и у него самая легкая поступь. Мы останемся здесь и прикроем его.
Доброджану уставился на него из-под густых седых бровей.
– Как вы вообще стали монстрологом, Граво?
– Комбинация семейного давления и социальной недоразвитости.
Доброджану хмыкнул.
– Пойдем, Уилл. Граво, оставайтесь здесь, если хотите, но следите за лестницей!
Мы осторожно двинулись по коридору, по пути оставив справа центральную лестницу. Единственным источником света был пожарный выход, и по мере того как мы шли, этого света становилось все меньше.
Дброджану перешагнул через сверток из тряпок и указал мне на него, чтобы я в темноте не запнулся. К своему удивлению, я увидел, что сверток шевелится и что в тряпье завернут ребенок всего нескольких месяцев от роду, с широко открытым в жалостном беззвучном крике ртом. Его темные глаза беспокойно крутились в глазницах, тонкие, как тростинки, руки хватали воздух.
Я потянул старика за рукав и показал на ребенка. Он изумленно поднял брови.
– Он жив? – прошептал он.
Я присел перед брошенным ребенком на корточки. Маленькая ручонка крепко схватила меня за палец. Глаза, казавшиеся очень большими на истощенном лице, уставились на меня. Ребенок с явным любопытством меня изучал, сжимая мой палец.
– Где-то здесь должны быть его родители, – предположил Доброджану. – Пошли, Уилл.
Он заставил меня встать. Ребенок не заплакал, когда я отнял свой палец. Возможно, он был слишком слаб или слишком болен, чтобы плакать.
Доброджану пошел по коридору, но я не двинулся с места. Я смотрел на ребенка у своих ног. Для меня это было слишком. Как часто я оплакивал свою судьбу, огромную несправедливость смерти моих родителей или свою службу у эксцентричного гения, чьи мрачные погони толкали меня в самые тревожные ситуации и даже заставляли рисковать жизнью? Но что это было по сравнению с голодным ребенком, брошенном в грязном коридоре, пропахшем мочой и капустой? Да что я знал о страдании?
– В чем дело? – спросил Доброджану. Он обернулся и увидел, что я не схожу с места.
– Мы не можем просто бросить его здесь, – сказал я.
– Если мы его возьмем, то что случится, когда за ним вернутся его родители? Оставь его, Уилл.
– Мы можем отнести его священнику, – сказал я. – Он разберется, что нужно сделать.
Я видел, как темные глаза ребенка ищут меня в сгущающейся ночи.
«Линия раздела между тем, что мы есть, и тем, чего мы добиваемся, тонка, как лезвие бритвы. Мы будем помнить о своей человечности».
Моя душа корчилась от боли. Мне казалось, будто меня размалывают между двумя огромными жерновами.
Доброджану был уже в конце коридора.
– Уилл! – тихо позвал он. – Оставь его!
Прикусив губу, я перешагнул через ребенка. Что я мог сделать? Его страдания никак не были связаны со мной. Будь я рядом или нет, он бы все равно оставался в этом холодном вонючем коридоре. Поэтому я перешагнул через него. Я повернулся к нему спиной и ушел.
Ребенок не заплакал обо мне; в его глазах я опознал то же тупое безразличие, которое видел в пустыне; так смотрел сержант Хок в ночь своего исчезновения – пустой взгляд голода, невыразимая боль желания.
Доброджану начал стучать в дверь. Звук бился между близко стоящими стенами, как все звуки в почти полной темноте, казался очень громким. Мы подождали, но никто не отвечал. Тогда он повернул ручку, и дверь с недовольным скрипом открылась.
– Эй! – позвал старый монстролог. – Je nkdo doma? – Он достал свой револьвер.
Квартира Новаковых была типичной жалкой ночлежкой: стены с осыпающейся штукатуркой, потолок с пятнами от протекшей воды, покоробленный пол, жалобно скрипящий от каждого шага. Однако комната была опрятной, мрачные стены кто-то пытался расцветить дешевыми наклейками с изображением ярких солнечных пейзажей. Это было печально – почти жестоко: поля нарциссов и лилий, насмехающихся над окружающим их убожеством.
Во всю длину одной из стен стояли стол и скамья. Место под столом было занято плетеными корзинами с резаным табачным листом. Здесь Анешка и ее родители, сгорбившись, сводимыми судорогой пальцами крутили сигары, которые, пройдя через механизмы великой американской коммерции, оказывались во ртах таких людей, как старший инспектор Томас Бернс.
В квартире была всего еще одна комната, отгороженная от первой замызганной занавеской, – спальное место размером с чулан, с кучей скомканных простыней и мятой одежды. Я разглядел куклу, сидящую в дальнем углу, ее яркие глаза поблескивали в скудном свете, сочащемся из окна позади нас.
– Куда они ушли? – прошептал я.
– Искать ее, – предположил Доброджану, но это было сразу и утверждение и вопрос.
– Остальную часть здания тоже?
Он покачал головой и повернулся ко мне. Он тронул меня за плечо и показал на стоящую на столе лампу. Я сразу понял. Когда я зажег лампу, он сказал:
– Нам придется обыскать здание. Стучать во все двери, сверху донизу… Либо они куда-то убежали в эту мерзкую погоду – мне на ум приходит только одна возможная причина, – либо в ужасе затаились где-то здесь. Выяснить это можно только одним способом, Уилл!
Мы вышли из квартиры. Я сразу же стал высматривать ребенка, но он пропал. Это не ускользнуло от внимания Доброджану.
– Во всяком случае, кто-то здесь есть, – сказал он. Он повернулся к пожарному выходу и остолбенел. – Мерзкий трус! – тихо прорычал он.
Граво, как и ребенок в коридоре, исчез.
Доброджану толкнул дверь и вышел на пожарную лестницу. Он наклонился за шаткие перила и посмотрел на лежащий внизу двор.
– Бесполезно, – пробормотал он. – Совершенно бесполезно! – Он расстроенно покачал головой. – Что делать, – пробормотал он. – Что делать?
С лестницы в конце коридора раздался грохот, словно что-то упало. Сразу за этим мы услышали тяжелые «топ-топ-топ» какого-то крупного объекта, спускающегося по деревянным ступеням. Доброджану выхватил револьвер и со всех своих старых ног бросился к выходу на лестницу. Я шел в нескольких шагах позади, и сердце колотилось у меня в ушах, как эхо этого не увиденного падения. Наша лампа пыталась бороться с темнотой, но ее свет пробивался лишь фута на три. Доброджану положил руку мне на плечо.
– Останься здесь, – прошептал он. Он взял у меня лампу и пошел вниз на площадку третьего этажа. Вытянув руку с оружием перед собой, он свернул за угол, его тень четко отпечаталась на половицах, как будто отгравированная, и он пропал из виду. Свет лампы тоже пропал.
– О, нет, – долетел до меня его бестелесный голос. – О, нет.
Я пошел за светом. Посередине следующего пролета, привалившись спиной к стене, сидел Доброджану и держал в руках безжизненное тело Дэмиена Граво – его белая рубашка блестела свежей артериальной кровью, жизнерадостное лицо было обмотано теми же засаленными пеленками, в которые был завернут ребенок в коридоре. Его глаза были вырваны из глазниц и болтались по щекам на зрительных нервах.
– Я его нашел, – сказал Доброджану. Это было до абсурдности очевидное наблюдение.
Он положил тело на лестницу и встал, все еще опираясь на стену. Я взял со ступени лампу.
– Что мы будем делать? – прошептал я, хотя собственный голос показался мне ужасно громким.
– То, чему мы обучены, – мрачно ответил он, повторяя слова Торранса. Его серые глаза горели. Он крикнул вниз по лестнице: «Чанлер!» и сорвался с места, спускаясь со скоростью человека вдвое моложе него. Я догнал его на площадке первого этажа, где он остановился, прислушиваясь.
– Ты это слышишь? – спросил он.
Я покачал головой. Я не слышал ничего, кроме нашего тяжелого дыхания и где-то вдалеке «кап-кап» из трубы с водой. А потом я услышал его – тихий, жалобный плач ребенка. Казалось, он доносится отовсюду – и из ниоткуда.
– Он забрал ребенка, – прошептал Доброджану. Он посмотрел вниз на лестницу, ведущую в подвал, и нервно облизнул губы. Казалось, он рвется на части. – Как ты думаешь, это внизу?
У нас были считаные минуты, чтобы принять решение. Если мы ошибемся – если он утащил ребенка на первый этаж, а мы пойдем в другое место, – то ребенок обречен. Мой напарник, умудренный многолетним опытом, был просто парализован.
– Нам надо разделиться, – сказал я. Он не ответил. – Сэр, вы меня слышите?
– Да, да, – пробормотал он. – Вот. – Он вложил мне в руку пистолет Граво с перламутровой рукояткой и кивнул в черноту под нами. – Оставь лампу себе, Уилл. Наверху мне хватит света.
И я начал спускаться, в самый низ, один.
Ступени сужались. Сочащиеся стены сдвигались. Меня обволакивала вонь нечистот. Канализационная труба прорвалась, никто ее не чинил, и подвал превратился в ыгребную яму. Запах был почти нестерпимым. На полпути я начал давиться – у меня горело горло и мутило в животе. Теперь я ничего не слышал и поэтому приободрился: значит, его здесь нет. Но я знал, что для верности надо проверить.
Воды было больше чем на два фута, и ее покрывала желто-зеленая слизь. В этом стоячем вонючем бассейне плавали сломанные доски – останки бочек. Рядом с моими ногами проплыло тело огромной крысы, ее труп гнил и раздулся, разрывая кожу; что-то уже выело ей глаза. Я видел, как желтые клыки поблескивали в ее пасти, открытой в беззвучном крике.
Я остановился на последней ступеньке, на берегу этого зловонного подземного пруда. Я высоко поднял лампу, но она не могла рассеять тьму до конца. Дальний конец поглощала адская тень. А что это там покачивается на самом краю освещенного пятна? Сломанная доска? Старая бутылка? Покрытая нечистотами поверхность шевелилась, доски покачивались на вонючей черной воде. Я ничего не слышал, кроме размеренного «кап-кап» из протекающей трубы.
Я повернулся, собираясь уходить – здесь явно ничего не было, – когда у меня в голове заговорил голос. Это был голос моего хозяина:
«Внимание, Уилл Генри! Что ты замечаешь необычного с водой?»
Я заколебался. Мне надо было выбираться. Я не мог дышать в этой мерзкой дыре. Здесь не было Чанлера. Здесь не было ребенка. Я был нужен Доброджану.
Но голос настаивал:
«Вода, Уилл Генри, вода».
Я начал подниматься по ступеням. Надо ли позвать Доброджану? Или его уже постигла судьба Граво, и теперь моя очередь?
«Уилл Генри, вода…»
«Заткнись с этой водой! – закричал я беззвучно на голос. – Я должен найти доктора Доброджану…»
Я замер в шести футах над бассейном. Я повернулся назад. На меня смотрели пустые глазницы крысы.
– Вода движется, – сказал я мертвой крысе. – С чего бы ей двигаться?
Голос в моей голове замолчал. Наконец-то я начал использовать этот незаменимый придаток между ушами.
Мои глаза обожгло горячими слезами – частично из-за вони, но в основном из-за понимания. Я понял, почему движется вода. И я понял, почему не слышал плача.