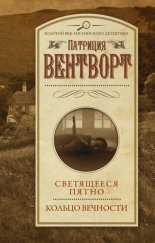Дань псам. Том 1 Эриксон Стивен

Затем Провидомин словно шагнул сквозь портьеру и оказался на солнце; утренние лучи согревали ему лицо. Он стал подниматься на холм, где раскинулся лагерь. На такие выходы Провидомин специально надевал старое обмундирование – знак покаяния, знак самоистязания. Воин чувствовал, что должен выставить свою вину напоказ – пускай нападают, защищаться он не станет. Так он совершал каждодневное паломничество к Великому кургану, хоть и понимал: не все грехи можно смыть, а искупление есть самое глубокое из заблуждений.
Множество взглядов провожали Провидомина, пока он шел к горе сокровищ – столь большой, что принадлежать она могла только мертвецу. Тот не станет алчным взором созерцать накопленное, не будет денно и нощно ощущать на плечах его груз или мучиться ужасным проклятьем. В глазах, следивших за Провидомином, без сомнения, читались ненависть и презрение, а то и желание убить. Что ж, пускай. По крайней мере, эти помыслы чисты.
Скрипя доспехами и позвякивая кольчугой, Провидомин приближался к кургану.
Огромные богатства теперь были погребены под разного рода безделушками, хотя в глазах Провидомина именно такие скромные подношения дороже всего. Ценность жертвы измеряется относительно той боли, с какой она принесена, – только так можно отличить подлинную добродетель.
Солнце играло на капельках росы, устилавших медные монеты, гладких морских камушках разных цветов и оттенков, глиняных черепках – наследии золотого века некоей ушедшей цивилизации, обтрепанных перьях, кожаных косичках с амулетами, тыквенных погремушках из колыбелек новорожденных или больных детей. Среди этого многообразия то тут, то там попадались свежеобглоданные черепа – часть верующих так поминала т'лан имассов, которые склонились перед Искупителем и стали его бессмертными прислужниками. Провидомин знал, что на самом деле все куда сложнее и возвышеннее: т'лан имассы не могли поступить в услужение ни к кому, кроме заклинательницы по имени Серебряная Лиса, так что двигало ими не смирение, но благодарность.
При одной мысли по коже бежали мурашки, и дыхание перехватывало от восхищения. А ощерившиеся черепа казались чуть ли не оскорблением.
Провидомин ступил на изрезанную канавками тропу, которая вела к самому кургану. Впереди выстроилась очередь из паломников; они оставляли дары, а затем возвращались. Провидомина обходили стороной, украдкой поглядывая на него. Из-за спины доносился шорох молитв и тихие песнопения, мягко подталкивавшие воина вперед.
Дойдя до изломанной гряды даров, обрамляющей курган, Провидомин сошел с тропы, опустился на колени у алтаря, склонил голову и закрыл глаза.
Кто-то подошел, но ничего не сказал. Только замер, тихо дыша.
Провидомин молился молча. И каждый день молитва у него была одна ита же:
Искупитель. Мне не нужно твоего прощения. Я недостоин искупления, но я его и не ищу – ни в твоих объятиях, ни в чужих. Я не принес тебе даров, а лишь пришел сам. Верующие и паломники не признают твоего одиночества. Они отвергают в тебе все человеческое, ибо только так они могут сделать тебя богом. Но ты когда-то был смертным, поэтому я и предлагаю тебе свое общество. Скромный дар, я знаю, но больше мне предложить нечего.
Искупитель, благослови этих паломников.
Благослови их спокойствием, ибо они в нем нуждаются.
Он открыл глаза и медленно поднялся с колен.
– Осененный Ночью, – произнес женский голос.
Провидомин дернулся, но оборачиваться не стал.
– Меня зовут не так.
– Что ж, ладно, Провидомин, – сказала женщина с легкой усмешкой. – Мы часто говорим о тебе у костра по ночам.
– Изливайте свой яд, я его не боюсь. Даже если мне суждено от него погибнуть, быть посему.
Женщина ахнула, вся веселость из ее голоса улетучилась.
– Искупитель помилуй, в наших речах нет никакого яда.
Провидомин с интересом обернулся и, к своему удивлению, увидел молодое, не обезображенное морщинами лицо (хотя голос – глубокий, слегка дребезжащий – предполагал иное). Блестящие черные волосы коротко подстрижены и рядами ниспадают на плечи. Глаза большие и темно-карие, складки в уголках указывают на усталость, а не на возраст. Девушка была одета в шерстяную мантию простого покроя с цветочным орнаментом. Мантия не подпоясана, и из-под нее выглядывает бледно-зеленая льняная туника, облегающая округлый живот. Судя по неналитым грудям, Провидомин заключил, что она не беременна, а просто еще не до конца сформировалась как женщина.
Девушка подняла застенчивый взгляд, снова заставив его содрогнуться.
– Мы зовем тебя Осененный Ночью в знак уважения. Всем вновь прибывшим мы рассказываем о тебе, и этого хватает, чтобы предотвратить воровство, насилие и прочие преступления. Искупитель избрал тебя охранять его детей.
– Неправда.
– Возможно.
– Я слышал, у Великого кургана паломникам ничто не угрожает.
– Теперь ты знаешь почему.
Провидомин ошарашенно молчал. Ответить ему было нечего. То, что говорит девушка, – безумие. К тому же еще и несправедливое.
– Не Искупитель ли показал нам, что у каждого есть бремя? – продолжила она. – И наш долг – принять это бремя на свою душу, встретить его без страха и с распростертыми объятиями?
Ответ вышел грубее, чем Провидомин рассчитывал.
– Не знаю, что вам там показал Искупитель. Еще одного бремени моя душа не выдержит. Оставьте меня. Я не собираюсь охранять вас и ваших паломников. Я не… я здесь…
«Я здесь не за тем!» – хотел прокричать он, но вместо этого молча зашагал в сторону тракта.
Паломники расступались перед ним, только усугубляя злость.
Так он и пронесся через лагерь, не сводя глаз с темноты на горизонте. О, как он хотел снова вернуться в прохладный сумрак города. Серые стены, мощеные улицы, промозглая таверна, бледные и усталые лица – вот его мир. В этом мире никто ничего не требует и не навязывает; от него ждут только, что он сядет за стол и разыграет очередную партию, очередное бессмысленное завоевание.
Прочь, прочь отсюда – к заблудшим голосам скучных призраков. Сапоги со звоном выбивают пыль из камней.
Проклятые идиоты!
Мост, пересекающий ров вокруг Цитадели, был весь устлан трупами, и кровь потоками стекала по бокам. В небе на севере творилось нечто невообразимое. Всполохи обезумевшей радуги разрывали и пожирали тьму. Что это – боль, скрутившая даже воздух? Или же некая новая жизнь, чье появление рушит само мироздание?
Коннест Силанн, простой послушник в Храме Матери Тьмы, шатаясь, шел к Внешним воротам. Он спотыкался о тела и поскальзывался в лужах крови и внутренностей. За островерхой аркой расстилался город, крыши домов напоминали шестерни какого-то сложного механизма. Они будто могли смыкаться с небом, с самим творением. То был Харнакас – Перворожденный среди городов. Но небо изменилось. Идеальный механизм мироздания сломан… Взгляните на небо!
Город содрогался, линия крыш покрылась изломами. Завывал ветер, многоцветная буря сопровождалась громовыми раскатами и вспышками ослепительного пламени.
Мы брошены! Оставлены!
Коннест дошел до ворот и, привалившись к стене, стал утирать слезы. Верховная жрица, жестокий поэт, с истошными воплями, как будто ее насилуют, извивалась в нефе храма. Рядом с ней, на мраморном полу, содрогались в некоем извращенном чувственном танце остальные женщины. Жрецы и мужчины-послушники пытались утихомирить их, унять хриплые вопли, вырывающиеся из глоток, но слова были тщетны. А потом, один за другим, они отпрянули: по мраморным плитам под женщинами разливался так называемый нектар экстаза – и отделаться от этого наваждения было нельзя.
Тогда они бежали, охваченные ужасом – и чем-то иным. Не завистью ли?
Кровавая распря разбушевалась подобно грозе. Брат восстал против брата, дети против отцов – и так в каждой семье, от Цитадели до хижин простолюдинов. Харнакас окрасился андийской кровью, и некуда было бежать от нее.
Коннест Силанн шагнул за ворота. Отчаяние душило, но вдруг показался он. Он поднимался из города. Его руки были покрыты черной блестящей чешуей, на обнаженной груди сверкала естественная броня. Тиамова кровь бушевала в его жилах, вызванная к жизни сопряжением хаотического колдовства. Глаза пылали звериной жестокостью.
Коннест упал на колени перед Аномандром.
– Владыка, мир рушится!
– Встань, жрец, – ответил тот. – Мир не рушится, он меняется. Идем, ты мне нужен.
И пошел дальше. Коннест встал и последовал за воителем – так крепко, будто железной рукавицей, сдавила его сердце воля владыки Аномандра.
Силанн утер глаза.
– Владыка, куда мы?
– В храм.
– Туда нельзя! Женщины… они… сошли с ума!..
– Я знаю, жрец, что их мучит.
– Верховная жрица…
– Мне нет до нее дела. – Аномандр замер и обернулся. – Как тебя зовут?
– Коннест Силанн, послушник третьей ступени. Владыка, прошу…
Но воитель прервал его взмахом чешуйчатой, когтистой руки и пошел дальше.
– Во всех бедах этого дня, Коннест Силанн, виновна Мать Тьма.
Именно тут юный послушник понял замысел Владыки. Действительно, Аномандру нужна его помощь – его душа, Матерь помилуй, – чтобы открыть проход на Незримую дорогу.
И там Сын встанет перед Матерью. Высокий, несгибаемый, бесстрашный. Он не убоится ни ее, ни собственного гнева. Да, буря только начинается…
Коннест Силанн сидел у себя в комнате – холодном каменном мешке, похожем на склеп. Перед ним стол, на столе – небольшая масляная лампа, свидетельство слабеющего зрения и пятна Света на душе, настолько застарелого и сросшегося со шрамами, что не отличается от кожи.
Одна из радостей старика – возможность переживать воспоминания о прошлом, воскрешать в плоти и костях мгновения юности, когда в суставах еще не поселилась боль, когда хрупкие истины еще не ослабили скелет и не согнули его.
– Держи проход открытым, Коннест Силанн. Она обрушит на тебя всю свою злость, попытается выдворить меня, закрыться. Но ты не уступай, держись.
– Но, владыка, я поклялся ей жизнью.
– И в чем смысл этой клятвы, если Мать нельзя призвать к ответу за ее деяния?
– Но она сотворила нас, владыка!
– Да, именно за это ей и придется ответить.
Юность – пора горячих суждений. С возрастом пламень угасает. Уверенность слабеет. Мечты об искуплении вянут, так и не созрев. Кто в состоянии оспорить эту больную истину? Они прошагали через цитадель, полную трупов, вскрытых и выпотрошенных. Вражда, соперничество и взаимные обиды неудержимо рвались на свободу, как внутренности. Рождение хаоса было болезненным и кровавым, и теперь младенец с горящим взглядом сидел среди истерзанных игрушек.
Дурак всегда оказывается ведомым. Всегда. Он пойдет за первым, кто позовет. Он с трусливым облегченим уступит другому право думать за него, решать, выбирать путь. Так и Коннест Силанн шел по окровавленным, пахнущим смертью коридорам, в двух шагах позади Аномандра.
– Коннест Силанн, ты выполнишь мою просьбу?
– Да, владыка.
– Выдержишь?
– Выдержу.
– Когда придет день, ты дождешься меня?
– Какой день, владыка?
– День, когда всему настанет конец, Коннест. Ты дождешься меня?
– Я пообещал выдержать – значит, выдержу.
– Что ж, друг, тогда держись. И жди. Когда настанет тот день, ты предашь меня. Нет, нет, никаких возражений. Ты поймешь, когда наступит нужный момент. Ты узнаешь его.
Видимо, это странное ожидание и поддерживало в нем жизнь до сих пор. Прошло уже столько веков, что все зачерствело, засохло и утратило всякую форму.
– Скажи мне, Коннест, что творится в Большом кургане?
– Прошу прощения, владыка?
– Это Итковиан? Мы воистину наблюдаем рождение нового бога?
– Не знаю, владыка. Я таких вещей не чувствую.
Да, с того самого дня в храме.
– Точно, я забыл. Прости меня, друг. Отправлю тогда Спиннока, пусть осторожно разузнает, что к чему.
– Он выполнит любой ваш приказ, владыка.
– Да, и это тоже мое бремя.
– Вы прекрасно с ним справляетесь.
– Коннест, ты не умеешь врать.
– Это так, владыка.
– Значит, пусть будет Спиннок. Вернешься к себе – пошли за ним. И передай, пусть не торопится, спешки нет.
– Он примчится мгновенно, владыка.
Аномандр в ответ молча вздохнул – а что, собственно, тут скажешь? Я ведь тоже ваше бремя, владыка. Вот только говорить об этом не стоит.
Но знайте, владыка: я все еще жду.
Из-за полуоткрытых дверей храма волнами выкатывался ослепительный свет, затопляя внутренний двор и даже расталкивая в стороны тела, белыми неподвижными глазами уставившиеся в небо. Свет плескался у щиколоток, на удивление холодный. Коннест Силанн узнал ближайшего покойника: жрец – из тех, кто слишком замешкался и попал под вспышку. Коннест чувствовал ее, но не видел; он в это время бежал по коридорам Цитадели. На поле боя, в которое превратились священные камни, вперемешку лежали анди из разных группировок. Сторонники Силкаса Руина, Андариста, самого Аномандра. А еще Дретденана, Хиш Туллы, Ванут Дегаллы… Многие схлестнулись на этом дворе.
И в рождении будет кровь. И в смерти будет свет. Воистину то был день для рождения и для смерти, для крови и для света.
Они подошли к дверям храма, замедлили шаг и смотрели на свет, волнами стекающий по широким ступеням. Их цвет стал глубже, насыщеннее, как бы с примесью застарелой крови, но сила сходила на нет. И все-таки Коннест Силанн чувствовал, что внутри кто-то есть и этот кто-то ждет.
Нас.
Может, это Высшая жрица? Нет. Ее присутствия послушник вообще не ощущал.
Аномандр поднялся на первую ступеньку.
И застыл, потому что все вокруг заполнил ее голос.
Нет. Знай, мой дорогой Сын, от андийской крови родился новый мир. Пойми меня. Ты и твои сородичи больше не одиноки; вам пора прекратить ваши жестокие игры. Теперь есть… другие.
– Мать, – заговорил Аномандр, – ты думала, это меня удивит? Или напугает? Быть просто матерью недостаточно, мало создать и отпустить. Ты так много отдала – и что получила взамен? Нас, убийц и предателей.
В тебе течет новая кровь.
– Да.
Сын мой, что ты наделал?
– Как и ты, Мать, я решил принять перемены. Да, теперь есть другие. Я чувствую их. Грядут войны, поэтому я хочу объединить тисте анди. Противостояние близится к концу. Андарист, Дретденан, Ванут Дегалла сдались. Силкас сбежал, а с ним также Хиш Тулла и Маналле. С внутренними распрями покончено.
Ты убил Тиам. Сын мой, ты осознаешь, что теперь будет? Да, Силкас сбежал, но куда он отправился? А те другие, новорожденные – какой запах будет влечь их? За какой хаотической силой они потянутся? Аномандр, ты ищешь мира в убийстве, но пока льется кровь, мира тебе не видать. Никогда.
Я отрекаюсь от тебя, Аномандр Тиамова Кровь и от всех своих первых детей. Отныне ваш удел – бесцельно блуждать по мирам. Ваши деяния не принесут плодов. Ваша жизнь станет источником нескончаемых смертей. И Тьма – мое сердце – навеки закрыта для вас.
Аномандр так и стоял неподвижно, а Коннест Силанн закричал и больно упал на колени. Незримая рука пролезла к нему в душу и что-то оттуда вырвала. Наступит день, и он поймет, что именно: надежду.
Он смотрел на трепещущий огонек фитиля и размышлял, почему верность так легко заменяет собой отчаяние – перекладывая отчаяние на плечи лидера, ты словно освобождаешься от всего, что может причинить боль. Воистину верность – это обмен, от которого обе стороны проигрывают. Одна теряет всякую волю, другая – всякую свободу.
Одна сторона теряет волю.
Другая…
Этот медного оттенка клинок, длиной в руку, выкованный в самой Тьме еще в Харканасе, передавался по наследству в Доме Дюравов. После того как меч вышел из Густовой кузницы, его держали в руках только три предка Спиннока, не оставив на оружии ни единого следа: ни вмятин на роговой рукояти, ни стесанной резьбы на яблоке, которое подгонялось под баланс; ни зазубрин на лезвии после заточки. Такое впечатление, будто мастер-оружейник выковал клинок специально для Спиннока, под его привычки, предпочтения и стиль ведения боя.
В своих предках он видел и свою судьбу. Как и меч, он был лишь одним из многих, неизменным, но знал, что ему суждено стать последним. И однажды, возможно, в скором будущем, кто-то вынет меч из его омертвевших пальцев, поднесет к свету, чтобы рассмотреть. Клинок выточен водой, лезвие почти багровое, с одной стороны более острое, с другой – более плоское. Приглядевшись, этот кто-то увидит непонятные знаки в ложбине вдоль всего клинка и задастся вопросом, что они означают. Хотя, может, и нет.
Потом оружие повесят на стену как трофей, либо продадут на черном рынке как добычу, либо снова сунут в ножны на поясе или за спиной, чтобы оно и дальше выполняло свое предназначение: разрывало плоть, проливало кровь и отнимало жизнь у смертных. И все, к кому попадет этот меч, будут проклинать неудобную роговую рукоять, странные зазубрины и когда-то превосходную заточку, которую ни один рядовой кузнец не в состоянии повторить.
Чего Спиннок представить не мог, так это того, что меч окажется брошен где-нибудь в траве, пока клинок не покроется пылью, пока масло не высохнет и ржа не разъест металл, подобно язве, пока оружие вместе с костями последнего владельца не превратится в черную бесформенную массу и не смешается с землей.
Положив меч на голые колени, Спиннок Дюрав втирал остатки масла в клинок. Вырезанные по железу символы переливались, будто живые, и древние чары очнулись, чтобы защитить металл от ржавчины. Они слабели: возраст не шел на пользу никому, даже магии. Даже мне. Печально усмехнувшись, Спиннок убрал меч в ножны и, подойдя к двери, повесил оружие на крюк.
– Одежда тебя не красит, Спин.
Он обернулся и окинул взглядом стройную женщину, которая лежала поверх одеяла, раскинув руки в стороны и раздвинув ноги.
– Ну как, очнулась?
– Не льсти себе, – проворчала она. – Ты и сам прекрасно понимаешь, что мое временное… отсутствие никак с тобой не связано.
– Никак?
– Ну, лишь отчасти. Я ведь странствую по Тьме, и порой меня заносит довольно далеко.
Несколько ударов сердца Спиннок смотрел на женщину.
– В последнее время все чаще.
– Да.
Верховная жрица поднялась и, поморщившись от боли, потерла поясницу.
– А помнишь, как легко было раньше, Спин? Наши юные тела были словно созданы для этого, желание рука об руку с красотой. Мы гарцевали, готовые наброситься друг на друга, будто хищные цветы. И нам казалось, что важнее нас в мире никого нет. Мы первые соблазнились желнием, а потом соблазнили остальных, многих и многих…
– Говори за себя, – сказал Спиннок и засмеялся, хотя в глубине души эти слова его тронули, разбередили старую, уже ничего не значащую рану.
Так он, по крайней мере, убеждал себя, когда, беспечно улыбаясь, подошел к кровати.
– Ты столь давно не выбиралась в Куральд Галейн, что ритуалы открытия врат утратили всякий смысл. Остались только плотские утехи.
Она посмотрела на него из-под полуприкрытых век.
– Да.
– Значит, она нас простила?
Жрица горько рассмеялась.
– Ты спрашиваешь так просто, словно речь об обиженном родственнике! Как ты можешь, Спин? Подобные вопросы следует задавать ближе к утру.
– Видимо, с возрастом я стал нетерпелив.
– И это после мучений, которым ты меня подверг? У тебя выдержки, как у лишайника.
– Смею надеяться, что я хотя бы привлекательнее, чем лишайник.
Она села на край кровати, опустила голые ступни на каменный пол и зашипела от холода.
– Где моя одежда?
– Сгорела дотла в огне твоего желания.
– Она вон там… Принеси, будь добр.
– И кто из нас еще нетерпелив? – проворчал Спиннок, но одежду принес.
– Видения становятся все… расплывчатее.
Он кивнул, протягивая жрице ее облачение.
Она поднялась, повернулась, продела руки в рукава и прижалась спиной к Дюраву.
– Благодарю, что снизошел до моих… потребностей.
– Ритуал есть ритуал, – ответил Спиннок, поглаживая женщину по коротко остриженным волосам чернее ночи. – Да и стал бы я отказывать тебе в такой просьбе?
– Жрецы меня утомили. Они столь меланхоличны, что вынуждены приводить себя в чувство разными отвратительными травами. В последнее время нам приходится все чаще брать дело в свои руки, а они просто лежат – вялые, словно гнилые бананы.
Спиннок, рассмеявшись, пошел за своей одеждой.
– Да, бананы – самый удивительный плод, что нам довелось вкусить в этом новом мире. Бананы и келик. Однако картина, которую ты описываешь, отбивает всякий аппетит.
– Полностью согласна, Спиннок Дюрав, и потому еще раз благодарю тебя.
– Довольно благодарностей, умоляю. Иначе мне придется ответить, и ты потонешь в глубине моего несчастья.
Жрица улыбнулась.
– Не одевайся, Спин, пока я не уйду.
– Это тоже часть ритуала?
– Будь так, стала бы я просить?
Жрица ушла, и Спиннок стал одеваться, вспоминая с какой нежностью чистил свой клинок – как бы показывая оружию, что женщина, с которой он занимался любовью, есть лишь мимолетное увлечение, но сердце его, как и полагается воину, навсегда отдано мечу.
Воистину дурацкий ритуал, жалкая попытка придать смысл своим действиям. Увы, только за такие простые и бесполезные по сути своей привычки и могли держаться ныне тисте анди.
Снова одевшись, Спиннок вышел.
Его ждала игра. Задумчивый взгляд Провидомина, сидящего напротив; искусно вырезанные, но в общем-то бесполезные фигурки из дерева, рогов и кости на столе; безликие, ненужные игроки-партнеры.
Когда игра закончится и будут объявлены победители и проигравшие, Спиннок с Провидомином разделят кувшин, и Провидомин, может, снова разговорится о том, что его беспокоит – двусмысленностями и полунамеками конечно же, не напрямую. До сих пор Спиннок смог понять лишь, что речь идет о Великом кургане к северу от Черного Коралла. Провидомин в последнее время перестал совершать туда паломничество. Видно, в его вере произошел какой-то разлад, и Спиннока это ужасно пугало: если друг предастся отчаянию, то тисте анди утратит последнюю опору.
И где тогда искать надежду?
Спиннок шел по сумрачным улицам в сторону таверны, размышляя, какую услугу оказать Провидомину. Неожиданная идея заставила его замедлить шаг и свернуть в переулок. Вскоре он вынырнул на другой улице, которая вела вверх на холм. По бокам ступенями спускались дома. Когда-то их двери были выкрашены в яркие цвета, но кому под покровом вечной ночи теперь есть до этого дело?
Наконец слева показалась нужная дверь. Поверх отслаивающейся краски был выведен силуэт Великого кургана, а под ним – грубый отпечаток открытой ладони.
Где появлялись верующие, там же, неотвратимо, как плесень, возникали и жрецы.
Спиннок громко постучался.
Через мгновение дверь приоткрылась, в щели мелькнул чей-то глаз.
– Я желаю поговорить с ней, – сказал Спиннок.
Дверь со скрипом отворилась. В узком проходе стояла девочка в потертой тунике.
– Приветствую, в-владыка, – затараторила она, то и дело приседая в реверансах. – Жрица на втором этаже… уже поздно…
– Я не владыка. Правда поздно? Она еще не спит?
Девочка неуверенно закивала.
– Я не отниму много времени. Передай ей, что ее хочет видеть тисте анди, которого она встретила в руинах, когда собирала дрова. Я тогда… ничего не делал. Иди, я подожду тут.
Девочка взбежала вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки, сверкая грязными пятками.
Открылась дверь, хлопнула, открылась еще раз. На лестнице снова возникла девочка.
– Поднимайтесь! – позвала она шепотом.
Спиннок пошел наверх. Ступени под ним застонали.
Жрица – древняя заплывшая жиром старуха – расположилась в покрытом облезлой обивкой кресле. Перед ней стоял алтарь из наваленных в кучу безделушек, оранжевым огнем горели по бокам светильники. Под потолком клубился густой зловонный чад. Бельма в глазах старухи тускло блестели.
Пропустив Спиннока внутрь, девочка выскользнула из комнаты и закрыла дверь.
– Ты пришел сюда не для того, чтобы обратиться в новую веру, Спиннок Дюрав, – произнесла жрица.
– Я разве называл вам свое имя?
– Все знают, что лишь один из высокопоставленных тисте анди снисходит до общения с людьми. Есть еще Коннест Силанн, который торгуется с продавцами на рынке, но ты не он. Тот старик с трудом поднялся бы по лестнице, под твоим же весом она едва не развалилась.
– Такая слава пугает.
– Не сомневаюсь. Так что же тебе надо, воин?
– У меня к вам вопрос. Нет ли смятения среди ваших верующих?
– Понятно. Ты говоришь о Провидомине, который отказал нам в помощи.
– Отказал? Почему? Что за помощь?
– Это не твоя забота. Она не касается ни тисте анди, ни Сына Тьмы.
– Аномандр Рейк – правитель Черного Коралла, жрица, и тисте анди служат ему.
– Великий курган лежит за пределами Покрова. Искупитель не подчиняется Сыну Тьмы.
– Я лишь волнуюсь за своего друга, жрица, вот и всё.
– Ты не можешь ему помочь. А он – нам, как выяснилось.
– Так в какой помощи вы нуждаетесь?
– Мы ожидаем прихода Искупителя. Только ему под силу исцелить своих последователей.
– Но для этого ему нужны избранные смертные, разве не так?
Она испуганно дернула головой, но тут же улыбнулась.