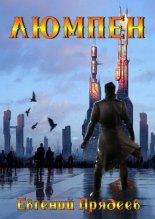Создание атомной бомбы Роудс Ричард
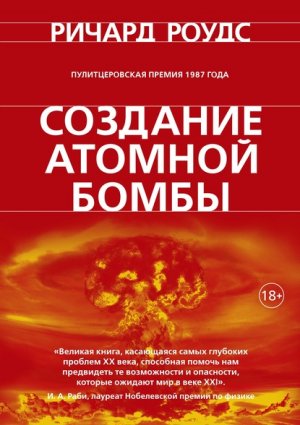
Тем временем Вашингтон начинал проявлять нетерпение. 13 августа Гровса запросили о «готовности Ваших пациентов и оценке сроков, в которые могут быть осуществлены их перевозка и размещение»[3030]. Стимсон рекомендовал отправить на Тиниан ядерные материалы для третьей бомбы. Маршалл и Гровс решили подождать еще день или два. Трумэн приказал Арнольду возобновить зажигательные бомбардировки. Арнольд все еще надеялся доказать, что ВВС могут выиграть войну; он распорядился о полномасштабном налете с использованием всех имеющихся на Тихоокеанском театре военных действий В-29 и любых других бомбардировщиков и собрал более тысячи самолетов. Самолеты сбросили 5,4 тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб и уничтожили половину города Кумагаи и одну шестую Исезаки, убив еще несколько тысяч японцев, в то самое время, когда сообщение о капитуляции Японии шло через Швейцарию в Вашингтон.
Первый намек на капитуляцию достиг американских баз на Тихом океане по радио, в виде сводки новостей японского агентства Домеи, в 2:49 дня 14 августа – в Вашингтоне было 1:49 ночи.
Молния! Молния! Токио, 14 августа. Стало известно, что вскоре будет обнародовано послание императора с согласием на условия Потсдамской декларации[3031].
Бомбардировщики вылетали и после этого, но в конце концов бомбардировки в этот день прекратились. Во второй половине дня Трумэн объявил о согласии японцев на условия капитуляции. В последний момент в Токио была предпринята попытка военного мятежа – убийство высокопоставленного офицера, провалившаяся попытка похитить граммофонную запись императорского рескрипта, кратковременный захват одной из дивизий Императорской гвардии, фантастические планы переворота. Но верность императору одержала верх. 15 августа император обратился по радио к плачущему народу; 100 миллионов его подданных никогда раньше не слышали высокого, старомодного голоса «Священного журавля»:
Несмотря на приложенные всеми величайшие усилия… военная ситуация сложилась не в пользу Японии, в то время как основные события в мире в целом повернулись против ее интересов. Более того, противник начал применять новую и в высшей степени жестокую бомбу неисчислимой разрушительной силы, унесшей много ни в чем не повинных жизней… По этой причине Мы приказали принять условия Совместной декларации Держав…
Тяготы и страдания, которым подвергнется после этого Наш народ, несомненно, будут велики. Мы остро сознаем самые сокровенные чувства всех Наших подданных. Однако время и судьба требуют, чтобы Мы решились проложить путь великому миру для всех будущих поколений, претерпев нестерпимое и вынеся невыносимые страдания.
Да пребудет весь народ единой семьей на многие поколения[3032].
«Если бы это продолжалось еще дольше, – пишет Юкио Мисима, – оставалось бы только сойти с ума»[3033].
«Атомная бомба, – подчеркивает японское исследование Хиросимы и Нагасаки, – есть оружие массового убийства»[3034]. На самом деле, как видно из простого графика, построенного на основе статистических данных по Хиросиме, ядерное оружие есть машина тотальной смерти:
Доля убитых людей зависит только от расстояния до эпицентра; процент погибших обратно пропорционален расстоянию, и уничтожение людей, как подчеркивает Гил Эллиот, лишено какой бы то ни было избирательности:
К тому моменту, когда мы дошли до атомной бомбы, до Хиросимы и Нагасаки, удобство достижения цели и моментальный характер макроскопического воздействия сделали выбор города и личности жертвы совершенно случайным; человеческая техника достигла последнего плато способности к самоуничтожению. Величайшими городами мертвых – по числу погибших – по-прежнему остаются Верден, Ленинград и Освенцим. Но в Хиросиме и Нагасаки выражение «город мертвых» наконец превратилось из метафоры в буквальное описание реальности. Будущий город мертвых – это наш город, а жертвы в нем – не французские и немецкие солдаты, не граждане России, не евреи, а все мы без какого бы то ни было разбора[3035].
«Случившееся в этих двух городах, – подчеркивается в японском исследовании, – было первой главой возможного уничтожения человечества»[3036].
24 августа доктору Митихико Хатии, которому незадолго до этого рассказали о человеке, державшем в руке свой глаз, приснился кошмар. Подобно мифу о Сфинксе – который уничтожает тех, кто не может решить его загадку, кого вводит в заблуждение невежество или невнимательность или гордыня, – сон японского врача, раненного при первой в мире атомной бомбардировке и ухаживавшего за сотнями ее жертв, следует считать одним из эпохальных видений человечества:
Ночь была душная и со множеством комаров. Поэтому я спал плохо и видел пугающий сон.
Мне казалось, что я в Токио после сильнейшего землетрясения. Вокруг меня были свалены грудами разлагающиеся трупы, и все они смотрели прямо на меня. Я видел девушку, державшую на ладони свой глаз. Внезапно он повернулся, взлетел в небо и полетел на меня; посмотрев вверх, я увидел огромный обнаженный глаз, крупнее настоящего: он висел у меня над головой и смотрел на меня в упор. Я не мог пошевелиться.
«Я проснулся, задыхаясь, с сильно бьющимся сердцем»[3037], – вспоминает Митихико Хатия.
Как и все мы.
Эпилог
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки привела Лео Сциларда в ужас. Он в полной мере ощущал вину за разработку столь ужасного военного оружия; образ грядущего, который он впервые разглядел в 1933 году, переходя Саутгемптон-роу в Блумсбери, зловеще утвердился в мире, в том числе и по его приглашению. В петиции президенту, которую он распространял среди ученых-атомщиков в июле 1945 года, – в той самой петиции, которую Эдвард Теллер, посоветовавшись с Робертом Оппенгеймером, решил не подписывать, написав Сциларду, что, как ему кажется, «было бы неправильно пытаться объяснить, как привязать джинна за ногу к той самой бутылке, из которой мы только что помогли ему освободиться»[3038], – Сцилард утверждал, что обладание атомной бомбой налагает на Соединенные Штаты огромную моральную ответственность:
Развитие атомной энергии даст народам новые средства разрушения. Атомные бомбы, имеющиеся в нашем распоряжении, – лишь первый шаг в этом направлении; не существует почти никаких пределов той разрушительной силе, которая станет доступна в ходе их дальнейшего развития. Поэтому страна, которая создаст прецедент применения этих вновь высвобожденных природных сил в разрушительных целях, может оказаться ответственной за то, что открыла путь к эпохе опустошений невообразимых масштабов[3039].
Соединенные Штаты создали такой прецедент в Японии. 6 августа Сцилард написал в своем проникнутом безнадежностью письме Гертруде Вайс, что ему трудно увидеть, какой разумный образ действий был бы возможен после этого, но уже через несколько дней он перешел к протестам и дебатам. Услышав о бомбардировке Нагасаки, он немедленно попросил капеллана Чикагского университета включить во все службы в честь окончания войны особую молитву за упокой погибших и сбор пожертвований в пользу выживших в двух японских городах[3040]. Он написал вторую петицию президенту[3041], в которой называл атомные бомбардировки «грубым нарушением наших собственных этических стандартов» и требовал их прекращения. Капитуляция Японии сделала этот призыв неактуальным, и вторая петиция так и не была отправлена.
Помимо пресс-релизов Белого дома и Военного министерства, американское правительство немедленно опубликовало подробный отчет о научных аспектах разработки атомной бомбы, который готовил в течение предыдущего года принстонский физик Генри Девулф Смит. Книга «Атомная энергия для военных целей» была очередным слабым отзвуком призыва Нильса Бора к открытости. Эта публикация возмутила британцев, показала Советам, какими способами разделения изотопов не стоит заниматься, и – в чем и заключалась ее цель по замыслу Гровса – определила, какую информацию по программе разработки атомной бомбы можно предавать гласности, а какую следует держать в секрете, тем самым предупредив возможные утечки.
Когда атомные секреты хотя бы до такой степени стали достоянием гласности, Сцилард явился к канцлеру Чикагского университета Роберту Мэйнарду Хатчинсу «и сказал ему, что необходимо как-то заставить вдумчивых и влиятельных людей подумать о том, что бомба может означать для всего мира и как мир и Америка могут приспособиться к ее существованию. Я предложил Чикагскому университету созвать трехдневную конференцию и собрать порядка двадцати пяти лучших людей для обсуждения этой темы»[3042]. Хатчинсу идея понравилась, и он начал связываться с вдвое большим числом возможных участников, в том числе с Генри Уоллесом, председателем Управления ресурсами бассейна Теннесси (Tennessee Valley Authority, TVA) Дэвидом Э. Лилиенталем, вездесущим Чарльзом Линдбергом и несколькими преподавателями и учеными. Было решено провести конференцию в конце сентября.
На следующий день после бомбардировки Нагасаки Эрнест Лоуренс улетел в Нью-Мексико, отчасти чтобы спастись от репортеров, осаждавших его с просьбами об интервью, отчасти чтобы поработать с Оппенгеймером над отчетом по послевоенному планированию, который Временный комитет запросил у своей научной коллегии. Изобретатель циклотрона, одобрявший применение бомб для предотвращения высадки и принуждения Японии к капитуляции, нашел своего коллегу по Лос-Аламосу усталым, подавленным и терзаемым чувством вины. Оппенгеймер не был уверен, не повезло ли погибшим в Хиросиме и Нагасаки больше, чем выжившим, у которых воздействие бомбы должно было породить последствия, которые останутся с ними на всю жизнь[3043]. То настроение, в котором он пребывал в эти выходные, выразилось в письмах, написанных на следующей неделе. «Поверьте, это предприятие не было свободно от дурных предчувствий, – писал он Герберту Смиту, своему бывшему учителю по Школе этической культуры, исповеднику своей юности, – и они гнетут нас сегодня, когда от будущего, в котором столько многообещающего, рукой подать до отчаяния»[3044]. В письме к Хакону Шевалье, своему другу по Беркли времен Депрессии, Оппенгеймер повторял, что «ситуация исполнена дурных предчувствий и гораздо, гораздо труднее, чем она могла бы быть, если бы в наших силах было преобразовать мир так, как нам кажется верным»[3045].
Лоуренсу не хватило терпения долго слушать об угрызениях совести Оппенгеймера. Он считал, что атомная бомба – «меч стремительный и грозный»[3046], который положил конец этой войне и, возможно, «покончит со всеми войнами»[3047]. Кроме того, он, кажется, считал, что она принадлежит лично ему. «В одном из многих интервью, напечатанных в газетах на следующий день после Хиросимы, – ехидно замечает Станислав Улам, – Э. О. Лоуренс “скромно признал”, по словам интервьюера, “что он более чем кто-либо ответственен за создание атомной бомбы”»[3048].
Из тайных участников совершенно секретного проекта эти двое, так же как их коллеги, превратились в разрекламированных героев, мастеров революции в военном деле. «Открытие деления, – отмечает Ч. П. Сноу, – почти в одночасье сделало физиков самым ценным военным ресурсом, к которому может обратиться национальное государство»[3049]. Письмо о послевоенном планировании, которое директора Беркли и Лос-Аламоса доводили до совершенства в эти последние выходные войны[3050], было испытанием их вновь обретенного могущества; в нем члены научной коллегии Временного комитета – Лоуренс, Оппенгеймер, Комптон, Ферми – оставили в стороне чисто технические советы и предложили радикальное переосмысление государственной политики. Таким образом они начали очерчивать ядерную дилемму, как они ее понимали.
По их словам, они были уверены, «что дальнейшая работа над этими задачами приведет к появлению видов оружия значительно более действенных как в количественном, так и в качественном отношении, чем имеющиеся на сегодня». В частности, они считали, что «весьма многообещающими» кажутся «технические перспективы осуществления супербомбы» в качестве одного из таких видов оружия. Однако они не могли «разработать или предложить действенных военных средств защиты от атомного оружия» и выражали «твердую уверенность в том, что военные меры противодействия ему и не могут быть найдены». Они не только не могли «наметить программу, которая обеспечила бы нашей стране на ближайшие десятилетия гегемонию в области атомного оружия», но также не могли «гарантировать, что такая гегемония, будь она достигнута, сможет защитить нас от ужаснейших разрушений». Из этого, по их мнению, вытекала необходимость политических перемен:
Разработка более действенного атомного оружия в ближайшие годы может показаться в высшей степени естественным элементом любой государственной политики, направленной на сохранение максимальной силы наших вооруженных сил. Тем не менее мы серьезно сомневаемся, что такие дальнейшие разработки могут стать существенным или постоянным вкладом в предотвращение войны. Мы полагаем, что безопасность нашей страны – в отличие от ее способности причинять ущерб неприятельским державам – не может целиком или даже в первую очередь сводиться к ее научным или техническим возможностям. Она может быть основана только на исключении самой возможности будущих войн. Мы единодушно и настоятельно рекомендуем вам принять для этого все меры и обеспечить все необходимые международные соглашения, несмотря на то что технические возможности этой области в настоящее время далеко не исчерпаны.
Оппенгеймер почерпнул такие убеждения из бесед с Бором, но Лоуренс всего двумя месяцами раньше советовал Временному комитету создавать запасы ядерного оружия. Кажется, на какое-то время в конце войны реальность бомбы внушила нобелевскому лауреату из Беркли по меньшей мере ограниченный интернационализм. «У меня нет никаких сомнений, – писал он в этот период, – что самый лучший канал для получения информации о происходящем в России можно создать, поддерживая свободный обмен научными идеями и учеными. Более того, это единственное приходящее мне в голову средство, дающее неплохие шансы на успех»[3051].
Через несколько дней после капитуляции Оппенгеймер привез письмо начной коллегии в Вашингтон и обнаружил, что Генри Стимсон в отъезде. Вместо него он поговорил с помощником Стимсона Джорджем Л. Гаррисоном и Вэниваром Бушем. «Я, разумеется, подчеркнул, что все мы ревностно исполним все, что действительно служит интересам страны, какой бы страшной или неприятной ни была эта работа, – писал он Лоуренсу, вернувшись в Нью-Мексико, – но что мы не можем обещать, что продолжение работы над атомной бомбы принесет значительное и ощутимое благо, – точно так же, как это было с отравляющими газами после прошлой войны». Однако, каков бы ни был вновь обретенный официальный авторитет Оппенгеймера, ставшего консультантом, находясь вне политического процесса, он смог повлиять на формирование политики не больше, чем до того Лео Сцилард:
У меня осталось от разговоров [с Гаррисоном и Бушем] весьма четкое впечатление, что в Потсдаме дела пошли плохо и русских почти или вовсе не удалось заинтересовать в сотрудничестве или контроле. Не знаю, насколько серьезными были приложенные в этом направлении усилия: по-видимому, ни от Черчилля, ни от Аттли, ни от Сталина не было никакой помощи, но это лишь моя догадка. Пока я был в Вашингтоне, произошли два события, и оба довольно мрачные: президент издал непререкаемый эдикт, запрещающий разглашение любой информации об атомной бомбе – причем в самых широких терминах – без его личного разрешения. Во-вторых, Гаррисон показал наше письмо [Джимми] Бирнсу, и тот передал, когда я уже уходил, что «в нынешней критической международной ситуации нет никакой альтернативы продолжению программы [Манхэттенского проекта] на полных парах»… Я по-прежнему ощущаю глубокую скорбь и глубокое замешательство относительно того направления, в котором мы движемся[3052].
Конференция по контролю над атомной энергией состоялась в Чикагском университете в четверг и пятницу в конце сентября. Дэвид Лилиенталь вел конспективную стенограмму[3053]; ее основные пункты, как и воспоминания Сциларда об этом мероприятии, говорят о поразительной прозорливости его участников. Джейкоб Вайнер, влиятельный экономист из Чикагского университета, сказал собранию, что атомная бомба – самое дешевое из разработанных до сих пор средств человекоубийства. При наличии двух гигантов, Советского Союза и Соединенных Штатов, утверждал он, никакого мирового правительства быть не может. «Тот уровень мира, который был у нас в последние два или три столетия, – отмечал Вайнер, как следует из записок Лилиенталя, – был результатом неуверенности в том, кто чей естественный враг… Теперь, если есть только два гиганта, никакой неопределенности в выборе цели нет. Это уже оказывает психологическое воздействие на нашу страну». Вайнер полагал, что «война при наличии атомной бомбы есть в большей мере война нервов… Психологическая война начнется, когда атомные бомбы будут у двух стран… Считается, что атомные бомбы окажут миротворческое воздействие; сдерживающее воздействие – последствия возможного применения противником». Всего через пять недель после первого боевого применения ядерного оружия Вайнер обнаружил фундаментальный принцип сдерживания, баланса страха в мире, обладающем ядерным оружием.
Сцилард изложил собравшимся свои идеи в пятницу. Он подчеркнул, что бомбы будут становиться все мощнее, и обошел режим секретности, процитировав публичное заявление Марка Олифанта о том, что оружие «мощность которого составляет от одного до десяти миллионов тонн в тротиловом эквиваленте… вполне возможно». Лилиенталь записал следующие положения выступления Сциларда:
Мы участвуем в гонке вооружений.
Если Россия начнет делать атомные бомбы через два-три года – вероятно, через пять-шесть лет, – то будет вооруженный мир, и этот мир будет устойчивым.
Но мы не можем получить вечный мир дешевле, чем при наличии мирового правительства. Но этого не может произойти без изменения чувства принадлежности людей. Если этого не случится, мы можем получить только устойчивый мир [т. е. сдерживание]. Единственная цель устойчивого мира – создание лет через 20–30 условий, [в которых] можно будет создать мир во всем мире. Это требует изменения чувства принадлежности.
Если у нас точно будет Третья мировая война, то чем позже она случится, тем хуже для нас.
Победитель в следующей войне создаст мировое правительство, даже если этим победителем будут Соединенные Штаты, потеряв убитыми 25 миллионов человек.
Сам Сцилард считал свои предсказания посредственными. Ему казалось, что у Вайнера получилось лучше:
Самые мудрые замечания на этой встрече высказал Джейк Вайнер, а сказал он вот что: «Ничего этого не случится. Не будет никакой превентивной войны, и не будет никаких международных соглашений, предполагающих инспекции. Америка будет [единственным] обладателем в течение нескольких лет, и бомба будет оказывать некое малозаметное влияние; она будет присутствовать в мыслях участников всех дипломатических конференций и производить свое действие. Затем, рано или поздно, у России тоже появится бомба, и тогда само собою установится новое равновесие»[3054].
Освободившись от оков военной секретности, Лео Сцилард и дальше продолжал участвовать в политической жизни своей новой родины, причем еще активнее. Но, из чувства ли вины, потому ли, что ядерная физика больше не казалась ему передовым краем науки, или потому, что он осознал, что высвобождение атомной энергии гораздо скорее могло позволить человеку уничтожить Землю, чем оставить ее и устремиться к звездам – а именно ради этого он в свое время и занялся изучением атомного ядра, – он завершил цикл, начатый в 1932 году. В 1947 году он прослушал в лаборатории Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде преподававшийся там курс лекций по бактериофагам и, оставив физику, стал заниматься биологией[3055].
Герберт Уэллс успел узнать о Хиросиме и Нагасаки. Впав в последние годы жизни в глубокий пессимизм, он умер 13 августа 1946 года в возрасте восьмидесяти лет.
Сразу после испытаний «Тринити» Эдвард Теллер и Энрико Ферми возобновили теоретическую работу над задачей термоядерного зажигания. «Искомым решением, – объясняется в технической истории Лос-Аламоса, – была бомба, сжигающая около кубического метра жидкого дейтерия. Высвобождаемая в такой бомбе энергия должна была составить около десяти миллионов тонн в тротиловом эквиваленте»[3056]. Однако с капитуляцией Японии разработка водородной бомбы в Лос-Аламосе временно замедлилась и приостановилась. Генерал Гровс, свидетельствовал впоследствии Оппенгеймер, «не был уверен, входит ли в его – и, следовательно, в мои – обязанности работа над этим новым проектом. Так я и передал сотрудникам лаборатории, работавшим над этой задачей»[3057]. Огорченный Теллер подозревал, что его коллеги «[потеряли] вкус к работе над оружием»[3058]. Некоторые действительно его потеряли. Большинство попросту хотело вернуться домой. «Всем нам казалось, – вспоминает Ханс Бете, – что мы, как солдаты, исполнили свой долг и заслужили право вернуться к той работе, которую мы выбрали делом своей жизни, к занятиям чистой наукой и преподаванию… Кроме того, в [45-м и] 46-м было неочевидно, что в мирное время потребуются крупные работы над атомным оружием»[3059].
Теллер был с этим решительно не согласен. «Он высказывал ужасно мрачные прогнозы в области отношений с Россией, – вспоминает Бете разговор, произошедший между двумя теоретиками зимой того года. – Он придерживался ужасно антикоммунистических, антирусских взглядов. Я уже знал, что он был антикоммунистом во время коммунистического переворота в Венгрии, когда ему было лет одиннадцать, но теперь это проявлялось гораздо сильнее. Теллер говорил, что нам нужно продолжать исследования ядерного оружия… что наше стремление уехать – серьезная ошибка. Война не кончена, и Россия не менее опасна, чем была раньше Германия. Я никак не мог с этим согласиться. Мне казалось, что важнее вернуться домой и возобновить работу университетов, снова начать учить молодых физиков»[3060].
Бете возвращался в Корнелл. Оппенгеймер получал предложения со всех сторон; в конце сентября он отказался от работы в Гарварде, решив, как он писал Джеймсу Брайанту Конанту, «что я хотел бы провести остаток своих дней в Калифорнии»[3061]. Ферми принял преподавательскую должность в Чикагском университете. Теллера пригласили работать вместе с Ферми. Уехать из Лос-Аламоса означало оставить супербомбу другим, но остаться в Лос-Аламосе означало «игру в команде второго состава», как говорил Оппенгеймер, который теперь снова мог позволить себе колкости.
Вместо Оппенгеймера директором стал Норрис Брэдбери, энергичный физик из ВМФ, учившийся в Беркли, который организовывал сборку «Тринити». «В первые месяцы после войны, – вспоминал Брэдбери в 1948 году, – лаборатория находилась на грани исчезновения, иначе и не скажешь»[3062]:
Вот Лос-Аламос в сентябре 1945 года. Старшие гражданские ученые, уставшие жить на военном положении, в военном режиме безопасности, на армейской базе военного времени и в условиях напряженной военной работы, тосковали по своим лабораториям и университетским аудиториям. Гражданские помоложе думали об ученых степенях, которых у них так еще и не было, и об образовании, которое им предстояло продолжить…
Не было даже общего мнения о том, какое будущее ожидает сам Лос-Аламос. Одни считали, что Лос-Аламос должен стать памятником, лабораторией-призраком, а все работы по военному применению атомной энергии следует прекратить. Другая группа смотрела со все возрастающим пессимизмом на ухудшение международных отношений и полагала, что Лос-Аламос должен стать фабрикой по производству атомного оружия. Большинство было согласно, что, по меньшей мере на ближайшее время, Соединенным Штатам нужна была лаборатория, посвященная изучению фундаментальной ядерной физики и химии и возможностей их применения в военных целях[3063].
Брэдбери попросил Теллера остаться в Лос-Аламосе в качестве руководителя теоретического отдела – на той самой должности, которой, по мнению Теллера, он заслуживал с момента основания лаборатории, когда Оппенгеймер отдал ее Бете. Теллер соглашался на эту работу только при условии получения от Брэдбери существенных обязательств. «Я сказал, что мы должны либо приложить большие усилия к созданию водородной бомбы за максимально короткое время, либо разрабатывать новые модели атомной взрывчатки и ускорить развитие в этом направлении по меньшей мере на дюжину испытаний [оружия] в год. Брэдбери сказал, что хотел бы посмотреть на обе эти программы, но не считает ни одну из них реалистичной. Государственной поддержки разработки оружия больше не было. Никого это не интересовало»[3064]. То ли у нового директора была неверная информация, то ли Теллер неверно передает его точку зрения; всего за несколько недель до этого Джимми Бирнс велел Оппенгеймеру продолжать работу «на всех парах». Самой насущной послевоенной проблемой Лос-Аламоса был не недостаток поддержки, а недостаток полномочий. Во время войны Манхэттенский проект был предприятием вооруженных сил. Теперь же для работы требовалось одобрение конгресса и выделенное им финансирование, а их получение было делом небыстрым, так как требовало появления законодательства по атомной энергии, в революционной новой области. «Требование крупномасштабных разработок супербомбы в Лос-Аламосе или двенадцати испытаний атомных бомб каждый год, которое Теллер поставил условием продолжения своей работы в лаборатории, – пишет Бете, – было, мягко говоря, явно нереалистичным»[3065].
Теллер «обратился за советом и поддержкой» к Оппенгеймеру:
Я рассказал ему о своем разговоре с Брэдбери, а затем сказал: «Эта лаборатория была вашей, и ее будущее зависит от вас. Я останусь, если вы пообещаете мне помочь своим влиянием в достижении любой из двух этих целей, если вы поможете мне получить поддержку для работы над водородной бомбой или дальнейшим развитием атомной».
Оппенгеймер быстро ответил: «Я не могу и не хочу этого делать».
Мне стало ясно и очевидно, что Оппенгеймер не хочет как бы то ни было поддерживать дальнейшие разработки оружия. Было не менее очевидно, что возбудить у правительства интерес к любой из этих программ может только человек калибра Оппенгеймера. Я не хотел работать без поддержки и сказал Оппенгеймеру, что поеду в Чикаго. Он улыбнулся: «Вы приняли правильное решение»[3066].
В этот же день Дик Парсонс устраивал вечеринку. Теллер говорит, что Оппенгеймер отыскал его и спросил: «Теперь, когда вы решили вернуться в Чикаго, вам стало легче?» Теллер пожаловался, что легче ему не стало; он считал, что их работа была только самым началом. «Мы проделали здесь великолепную работу, – возразил Оппенгеймер, – и пройдет много лет, пока кто-нибудь сможет хоть как-нибудь улучшить то, что мы сделали»[3067]. Нетактичность этого замечания рассердила Теллера, а его двусмысленность привела в замешательство. Он часто цитировал его после 1945 года, и всегда чтобы продемонстрировать проявляющийся в нем самообман. Оно могло означать, что Советы еще не скоро создадут свою бомбу. Или же оно могло означать, что Теллеру и его сотрудникам не удастся быстро добиться в области термоядерных технологий ничего лучшего, чем то, чего добились в области деления ядра Оппенгеймер и его сотрудники. Теллер интерпретировал эту фразу в обоих смыслах, и оба этих смысла ему не нравились.
Первой его реакцией было обратиться к Ферми. Ферми, по-видимому, уверял его, опираясь на письмо научной коллегии Временного комитета от 17 августа, что решение проблемы ядерного оружия должно быть решением политическим. Оптимизм Теллера относительно ранних перспектив развития термоядерных технологий Ферми также считал чрезмерным. Мало того что само получение термоядерного горения было сложной задачей; для создания атомной бомбы, достаточно эффективной, чтобы использовать ее в качестве запала термоядерной реакции, ее еще нужно было лучше понять и значительно усовершенствовать. Но они были близкими друзьями, и Ферми посоветовал Теллеру изложить свое несогласие в письме; он будет рад передать такое письмо военному министру для приобщения к материалам Временного комитета[3068].
Годом раньше, в разгар войны, Джеймс Брайант Конант приезжал в Лос-Аламос и разговаривал с Теллером о супербомбе. Тогда, как Конант доложил Вэнивару Бушу, Теллер предсказывал, что до создания супербомбы «вероятно, пройдет по меньшей мере столько же времени, сколько оставалось до создания атомной, когда… я впервые услышал об этом предприятии». Эта оценка – от четырех до пяти лет – уже была оптимистичной по сравнению с оценкой Ферми. Теперь, в октябре 1945 года, Теллер взял ее в качестве верхнего предела. Кроме того, он впервые официально выдвинул многие из тех доводов в пользу дальнейшего развития технических средств безопасности, которые он развивал в следующие годы.
«Когда, – спрашивал он в соответствии с выбранным форматом вопросов и ответов, – можно будет провести испытания первой супербомбы?» В ответ он приводил две цифры, вторая из которых дает один из первых примеров того, что впоследствии стали называть раздуванием угроз:
Я полагаю, что осторожной оценкой на данный момент можно считать пятилетний срок. Эта оценка предполагает, что разработка будет продолжена достаточно энергично. Однако эта работа может оказаться гораздо менее трудной, чем ожидается, и занять два года или меньше. При рассмотрении будущих опасностей важно не упускать эту возможность из виду.
Как скоро сможет создать супербомбу какая-нибудь другая страна? Быстрее, чем Соединенные Штаты, по-видимому, думал Теллер, несмотря на подавляющее техническое и промышленное превосходство своей новой родины: «Время, необходимое для этого… может не намного превышать время, необходимое им для создания атомной бомбы».
Как быть с этическими возражениями? В условиях стремительного развития технологий они теряют смысл:
В среде моих коллег-ученых существуют некоторые сомнения относительно желательности такого развития в связи с тем, что оно может сделать международные проблемы еще более сложными, чем они есть сейчас. По моему мнению, это заблуждение. Если развитие возможно, предотвратить его не в наших силах.
Теллер считал, что мероприятия гражданской обороны, например рассредоточение городов, могут стать действенным средством защиты от атомных бомб, но «в гораздо меньшей степени от супербомб». Он не мог пока что предложить подробных планов мирного применения термоядерной взрывчатки. «Однако я уверен, что супербомба позволит нам увеличить нашу власть над природными явлениями в масштабах, значительно превосходящих все вообразимое сейчас».
Официально выражая свое несогласие, он в то же время готовился к отъезду из Лос-Аламоса. Теллер был не склонен бороться за безнадежное дело. Он мог остаться, но «команда первого состава» уезжала. Его жена ждала второго ребенка. Он упаковал свой рояль и принял профессорскую должность в Чикаго, где мог заниматься физикой вместе с Энрико Ферми. В течение нескольких следующих лет он находил утешение в семейной жизни, преподавании и исследовательской работе.
В середине октября генерал Лесли Р. Гровс приехал в Лос-Аламос, чтобы вручить лаборатории почетную грамоту, подписанную военным министром. «Почти все население плато, – вспоминает Элис Кимбелл Смит, – собралось на церемонию, которая проводилась на улице, под сияющим небом Нью-Мексико»[3069]. Дело было 16 октября, в последний день работы Оппенгеймера на посту директора лаборатории. Он по-прежнему собирался вернуться в Калифорнию и заняться преподавательской работой, но в своей благодарственной речи он затронул тему, которой в дальнейшем суждено было занять целое десятилетие его жизни:
Мы надеемся, что в следующие годы мы сможем смотреть на этот свиток и все, что он олицетворяет, с гордостью.
Сегодня эта гордость неизбежно оказывается смешана с глубокой тревогой. Если атомным бомбам суждено стать новым оружием, которое пополнит арсеналы воюющего мира или арсеналы стран, готовящихся к войне, то рано или поздно человечество проклянет имена Лос-Аламоса и Хиросимы.
Народы мира должны объединиться или погибнуть. Эти слова начертала нынешняя война, опустошившая такую большую часть Земли. Атомная бомба сделала их понятными всем людям. Другие люди произносили их в другие эпохи, в приложении к другим войнам и другим видам оружия. Им не удалось настоять на своем. Кое-кто, введенный в заблуждение ошибочным пониманием истории человечества, утверждает, что это не удастся и сейчас. Мы не можем в это поверить. Своей работой мы посвятили себя миру, объединенному перед лицом общей опасности, объединенному в праве и в человечности[3070].
Кроме почетной грамоты сотрудники и сотрудницы Лос-Аламоса получили в этот день по сувениру: отлитый из серебра значок размером с десятицентовую монету с большой буквой «А», обрамляющей маленькое слово «бомба». Прежде чем Оппенгеймер поспешно уехал в Вашингтон, где он должен был докладывать об атомной энергии перед комитетами палаты представителей и сената, газетный репортер спросил его, есть ли у атомной бомбы какие-либо существенные ограничения. «Ее ограничение состоит в том факте, что вы не хотите, чтобы ее применили к вам», – резко ответил он. После чего предложил свое пророчество: «Если вы спросите: “Можем ли мы сделать их еще более ужасными?” – я отвечу “Да”. Если вы спросите: “Можем ли мы сделать их в большом количестве?” – я отвечу “Да”. Если вы спросите: “Можем ли мы сделать их ужасающе более ужасными?” – я отвечу “Вероятно”». В конце месяца журнал Time воспроизвел эти замечания в своем разделе международных событий вместе с фотографией весьма убедительного вида Оппенгеймера с трубкой в руке. Он был «самым умным из всех»[3071], – цитировал журнал мнение его неназванного коллеги. Начинался роман с широкой общественностью.
И. А. Раби вернулся в Колумбийский университет, Юджин Вигнер – в Принстон, Луис Альварес, Гленн Сиборг и Эмилио Сегре – в Беркли, Джордж Кистяковский – в Гарвард. Виктор Вайскопф ушел в МТИ. Станислав Улам недолго и неудачно пытался устроиться в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, после чего вернулся в Лос-Аламос. Джеймс Чедвик и большинство других членов британской делегации вернулись в Великобританию с полными карманами секретов. В сентябре британцы устроили для своих друзей на Холме официальную церемонию прощания. Великанская изба Фуллер-лодж была битком набита мужчинами в смокингах и даже фраках и дамами в вечерних платьях, из которых не вполне выветрился запах нафталина. Женя Пайерлс наварила целые ведра густого супа; на бумажных тарелках подавали пироги с говядиной и почками; Уинифред Мун приготовила несколько сотен картонных мисок трайфла[3072] и клялась, что никогда больше не сможет смотреть на этот десерт без тошноты. Оппенгеймеры и Пайерлсы сидели за почетным столом, возвышаясь над общей суматохой (Чедвики не вернулись из Вашингтона), а компанейский и любивший выпить Джеймс Так выполнял обязанности тамады. После ужина, отмечает Бернис Броуд, британцы поставили пантомиму собственного сочинения, основанную на сюжете «Малюток в лесу»[3073]:
Добрый дядюшка Уинни отправляет своих малюток помочь доброму дядюшке Франклину перехитрить нехороших дядюшек Адольфа и Бенито. Все, что случилось с детишками в их опасном путешествии в Неизвестную Пустыню, разыгрывалось всей делегацией… Заключительной кульминацией было изображение испытаний [ «Тринити»], причем роль вышки играла [стремянка], с которой опрокинули ведро, набитое всякой всячиной: все это сверкало, гремело и трещало в течение нескольких минут. Многие из женщин не вполне понимали, что это значит, но у мужчин эта сцена пользовалась огромным успехом, в особенности некоторые из грохочущих частей. В общем, спектакль стал настоящей сенсацией[3074].
Потом они раздвинули мебель и стали танцевать, так же как танцевали на этом необычном курорте посреди пустыни бесчисленными субботними вечерами в течение всех долгих лет войны.
9 ноября Нильс Бор, снова поселившийся в копенгагенском Доме почета, писал Оппенгеймеру:
Мне очень жаль, что я не смог повидаться с Вами перед возвращением в Данию, но из-за трудностей с организацией поездки мы с Маргрете не смогли, как собирались, приехать в США до отмены секретности проекта, а после этого мне не советовали откладывать возвращение в Данию.
Нечего и говорить, как часто мы с Оге вспоминаем все то, что Вы и Китти сделали для нас в последние бурные годы, когда мне были так важны Ваши понимание и сочувствие, и какую тесную связь с Вами я ощущал, надеясь, что это великое свершение сможет внести решающий вклад в установление гармоничных отношений между народами…
Мне хочется верить, что это дело развивается в благоприятном направлении[3075].
Бор знал, что это далеко не так; в Соединенных Штатах раздавались громкие призывы к сохранению и защите «атомной тайны» Америки. Той же осенью и в начале зимы из целой серии сообщений о деяельности Советского Союза стало ясно, что в тайне можно сохранить очень немногое. В середине сентября Военное министерство узнало, пишет историк Герберт Фейс, «что советские власти приказали командирам чехословацкой армии распорядиться о передаче им всех германских планов, деталей, моделей и формул, имеющих отношение к применению атомной энергии, ракетного оружия и радаров. Русская пехота и инженерные войска оккупировали Яхимов… и Иоахимсталь, город и завод, – единственное место в Центральной Европе, где в то время добывался уран»[3076]. Старая шахта, из отходов которой Мартин Клапрот когда-то впервые выделил тяжелый серый металл, который он назвал ураном, та самая шахта, которую исследовал в своем походе 1921 года Роберт Оппенгеймер, попала в руки Советов.
24 декабря атташе американского посольства в Москве предупредил, что «СССР твердо намерен обзавестись атомной бомбой. Об этом было заявлено официально. Скудные имеющиеся данные говорят о том, что в этом направлении прилагаются большие усилия и этому предприятию присвоен сверхвысокий приоритет»[3077]. В Америке это известие вызвало непонимание, как вспоминает Герберт Йорк: «Большинству… из нас Россия казалась такой же загадочной и далекой, как обратная сторона Луны, и не намного более производительной в том, что касается по-настоящему новаторских идей и изобретений. В то время ходила шутка, что русские не смогут тайно привезти ядерную бомбу в чемодане в Соединенные Штаты, потому что еще не изобрели чемодана»[3078]. Но, хотя американское руководство и не верило, что Советский Союз сможет вскоре получить атомную бомбу, его намерения в противном случае и мотивы его действий стали предметом интенсивных обсуждений в правительстве США.
Как это ни печально, эти споры заслонили более важный вопрос, впервые в истории возникший перед миром. Роберт Оппенгеймер выступил со своими показаниями перед конгрессом; он уже начал прокладывать себе путь в коридоры власти; теперь, бурным вечером одной из пятниц ноября 1945 года, он вынес ядерную дилемму на общественное обсуждение. Его уже не ограничивали обязанности директора Лос-Аламоса, и он выступил перед пятьюстами членами Ассоциации научных сотрудников Лос-Аламоса, собравшимися в большем из кинотеатров на Холме. Его слова сохранились в неотредактированной расшифровке выступления, почти такими же, какими их слышали собравшиеся; гром, гремевший над плато, оттенял те простые мысли, которые он излагал[3079]. Его речь по-новому представляла то будущее, которое предвидел Бор, и улавливала ограничения и возможности, сохранявшиеся в настоящем.
«Сегодня я хотел бы выступить – те из вас, у кого хорошая память, возможно, вспомнят, что я имею на это некоторое право, – в качестве такого же ученого, как вы, – начал Оппенгеймер в шутливом тоне, – по крайней мере, человека, так же, как вы, обеспокоенного той ситуацией, в которой мы оказались». Речь, по его мнению, шла о «вопросах весьма простых и весьма глубоких». С его точки зрения, один из таких вопросов был: зачем ученые создали атомную бомбу? Он перечислил несколько возможных мотивов: страх, что нацистская Германия создаст ее первой, надежда, что она приблизит окончание войны, любопытство, «страсть к приключениям» или желание, чтобы мир узнал «что может быть сделано… и решил, что с этим делать дальше». Однако он считал, что главные мотивы были этическими и политическими:
По сути дела, мы занимались этой работой потому, что это было органически необходимо. Если вы ученый, вы не можете остановить этот процесс. Если вы ученый, вы верите, что полезно выяснять, как устроен мир; что полезно выяснять, какова на самом деле реальность; что полезно давать человечеству в целом максимальные возможности управления миром и существования в нем в соответствии со взглядами и ценностями человека…
Невозможно быть ученым, не веря, что познание мира и та власть, которую оно дает, сами по себе ценны для человечества и что вы используете их на благо распространения знания и готовы отвечать за последствия своей деятельности.
Глубоко укорененная вера в ценность знания, которую Оппенгеймер приписывает здесь науке, вторит лаконичной формулировке ценности открытости, которую предложил Бор: «Сам факт того, что знание является основой цивилизации, прямо указывает на путь преодоления нынешнего кризиса». Задолго до них сходное убеждение высказал Томас Джефферсон, понимавший основополагающие принципы демократии. «Насколько мне известно, только сам народ может быть надежным вместилищем верховной власти в обществе, – писал он ближе к концу своей жизни, – и если мы считаем, что народ недостаточно просвещен, чтобы распоряжаться ею со здравомыслием и благоразумием, следует не лишать народ власти, но способствовать формированию его благоразумия».
После этого Оппенгеймер перешел к рассмотрению политических перемен, к которым, как он считал, новое оружие приведет человечество:
Но я думаю, что пришествие атомной бомбы и неизбежное распространение знания о том, что изготовить такие бомбы не так уж трудно, что они появятся повсеместно, если люди захотят, чтобы они появились, что их производство не станет тяжким бременем для экономики сильной страны и что их разрушительная сила уже превышает силу любого другого оружия и будет становиться еще больше, – я думаю, что все это создает новую ситуацию, настолько новую, что в ней существует опасность, что опасно даже верить, будто мы получили новый довод в пользу установлений, в пользу надежд, которые существовали до этих перемен. Этим я хочу сказать, что, как бы мне ни нравилось слушать сторонников всемирной федерации или сторонников ООН, которые говорили об этих вещах в течение многих лет, – как бы мне ни нравились их утверждения о том, что теперь появился новый довод в пользу их правоты, мне кажется, что они отчасти не видят сути, потому что суть не в том, что атомное оружие дает им новый довод. Убедительные доводы существовали всегда. Суть в том, что атомное оружие также представляет собой совершенно новую сферу и открывает новые возможности создания условий для этого. На мой взгляд, когда говорят, что это оружие не только создает большую опасность, но и дает большую надежду, должно иметься в виду вот что[: ] тот простой факт, что в этой области, именно в связи с ее опасностью, с ее угрозой, существует возможность осуществить, начать осуществлять те перемены, которые необходимы для сохранения вообще какого-либо мира.
Речь идет об очень масштабных переменах. Это должны быть перемены во взаимоотношениях между государствами, не только в их духе, не только в их правилах, но и в концепциях и ощущениях. Я не знаю, какие из них должны произойти первыми; все эти аспекты должны действовать сообща, и только их постепенное взаимодействие может обеспечить реализацию этих перемен. Я не согласен с теми, кто говорит, что первым шагом должно стать создание структуры международного права. Я не согласен и с теми, кто говорит, что важнее всего дружеские чувства. Речь идет обо всех этих вещах сразу. Мне кажется, можно сказать, что атомное оружие представляет собой опасность, которая касается всех в мире, и в этом смысле речь идет об абсолютно общей задаче, такой же общей, какой была для союзников победа над нацистами.
Решение этой общей задачи, продолжал он, может стать «опытной установкой для нового типа международного сотрудничества»:
Я говорю именно об опытной установке, потому что совершенно ясно, что сам по себе контроль над ядерным оружием не может быть единственной целью такого предприятия. Его единственной целью может быть только единый мир, мир, в котором не могут случаться войны.
Полвека ограниченных и зачастую циничных переговоров по контролю над вооружениями никак не изменили справедливости основного утверждения Оппенгеймера, прежде всего выражавшего оптимистическое прозрение Бора относительно дполнительности бомбы.
Затем он заговорил о том, что Бор назвал бы необходимостью отречения. Оппенгеймер предложил аналогию из американской жизни:
Та мысль, которую я хочу вам внушить, заключается в том, что речь идет об огромных изменениях духа. Есть вещи, которые нам чрезвычайно дороги, и, как мне кажется, обоснованно; я бы сказал, что их лучше всего обозначает слово «демократия». В мире существует множество мест, в которых нет демократии. Есть и другие вещи, которые нам дороги, и по праву. И когда я говорю о новом духе в международных отношениях, я хочу сказать, что даже в тех вещах, которые мы ценим превыше всего, за которые американцы готовы отдать свою жизнь – а большинство из нас, несомненно, готово отдать за них свою жизнь, – даже в этих, самых важных вещах, как мы понимаем, есть нечто еще более глубокое; а именно общие связи с другими людьми, где бы они ни находились. Только в этом случае в этом есть смысл; потому что, если мы посмотрим на эту проблему и скажем: «Мы знаем, как правильно, и мы готовы применить атомную бомбу, чтобы убедить вас согласиться с нами», то мы окажемся в очень слабой позиции…
Я хотел бы выразить глубочайшее сочувствие тем, кому приходится иметь дело с этой проблемой, и самым решительным образом призвать вас не недооценивать ее сложности. Мне приходит на ум одна аналогия… в первой половине XIX века было много людей – по большей части на Севере, но также и на Юге, – которые считали, что не существует более вредоносного зла, чем человеческое рабство, и больше всего на свете стремились посвятить свою жизнь его искоренению. В молодости меня всегда интересовало, почему Линкольн, будучи президентом, не объявил, когда разразилась война с Югом, что это война за отмену рабства, что именно это является главной целью, объединяющим принципом этой войны. Как вы знаете, многие аболиционисты, многие из тех, кого называли тогда радикалами, резко критиковали Линкольна, потому что казалось, что он ведет войну, которая не затрагивает самого важного вопроса. Но Линкольн понимал – и только в последние месяцы я осознал всю глубину и мудрость его мысли, – что за проблемой рабства кроется проблема общности людей нашей страны, проблема союза штатов… Чтобы сохранить этот союз, Линкольну пришлось отодвинуть насущную задачу искоренения рабства на второй план и надеяться – и мне кажется, что его замысел исполнился бы, если бы у него была возможность сделать так, как он хотел, – что рабство будет искоренено благодаря столкновению этих идей в едином народе.
Честь этого осмысления Оппенгеймер приписывал Бору, «который проводил здесь так много времени в самые трудные дни, много говорил с нами и помог нам прийти к выводу, [что всеобщее отречение от применения силы] – не просто желательное, но единственно возможное решение, что никаких альтернатив ему не существует».
Кроме этого мало что в речи, которую Оппенгеймер произнес тем бурным вечером, осталось актуальным спустя многие годы: он говорил о практических аспектах законодательства и советовал своим коллегам-ученым признать ответственность за последствия их работы. Его выступление закончилось последним залпом трезвых соображений относительно временных рамок перемен:
Я не уверен, что эти величайшие возможности изменений к лучшему не относятся к более далекому будущему, чем я считал в течение долгого времени…
Дело в том, что в реальном мире, населенном реальными людьми, осознание того, о чем идет речь, занимает долгое время – и может занять еще дольше. И, как я уже говорил, я не уверен, что другим странам не потребуется на это осознание больше времени, чем нашей стране.
Эти фундаментальные вопросы стояли перед человечеством в 1945 году; они же стоят перед нами до сих пор, как будто время остановилось, и только механизм создания ужасающего и ужасающе более ужасающего оружия все продолжает и продолжает работать.
В апреле 1946 года Эдвард Теллер вернулся в Лос-Аламос, чтобы провести там секретное совещание. Его задачей, по словам составленного впоследствии отчета, была «проверка работы, выполненной по супербомбе, на полноту и точность и выработка рекомендаций по дальнейшей деятельности в этой области в случае появления планов реального производства и испытаний супербомбы»[3080]. На совещании присутствовали Джон фон Нейман, Станислав Улам и Норрис Брэдбери, а также Эмиль Конопинский, Джон Мэнли, Филипп Моррисон, канадский теоретик Дж. Карсон Марк и множество других участников. В том числе там был человек, присутствие которого оказало впоследствии сильнейшее влияние на политику Соединенных Штатов в отношении ядерного оружия, – Клаус Фукс.
Совещание по супербомбе рассматривало только один вариант конструкции термоядерного оружия, который Теллер и его группы разработали во время войны, – так называемую классическую супербомбу, взрывная мощность которой оценивалась в 10 миллионов тонн тротилового эквивалента, то есть 10 мегатонн. Ингредиентами классической супербомбы должны были быть атомная бомба, кубический метр жидкого дейтерия и неопределенное количество редкого второго изотопа водорода, трития. В связи с коротким периодом полураспада – 12,26 года – он не встречается в природе, но может быть создан в ядерном реакторе путем бомбардировки лития нейтронами. Схема расположения этих компонентов в классической супербомбе до сих пор остается секретной: вероятно, речь шла о сферической конфигурации, в которой атомный запал и изотопы водорода физически соприкасались и размещались внутри тяжелой отражающей оболочки.
«По всей вероятности, – решило совещание, исходя из расчетов группы Теллера, – создание работоспособной супербомбы возможно. Бесспорное доказательство этого предположения вряд ли может быть получено, и окончательное решение может быть принято только по результатам испытаний полностью собранной супербомбы». Совещание рекомендовало произвести «подробные расчеты» для математического анализа хода взрывной реакции (с учетом сложности этой задачи те расчеты, которые Теллер и его сотрудники выполнили вручную при разработке концепции классической супербомбы, не могли не быть приблизительными и неполными). Совещание также признало конструкцию Теллера «в целом пригодной для разработки». У некоторых из участников оставались сомнения; «если эти сомнения окажутся обоснованными, простые изменения конструкции должны позволить сделать эту модель осуществимой». В заключение:
Новый крупномасштабный проект создания супербомбы неизбежно потребует части ресурсов, которые, по всей вероятности, могли быть выделены в ближайшие годы на работы по развитию атомных технологий… Мы считаем необходимым подчеркнуть, что дальнейшие решения по вопросу, который может иметь столь многочисленные последствия первостепенной важности, должны приниматься только в рамках государственной политики самого высокого уровня[3081].
В июне 1946 года, через три месяца после совещания по супербомбе, американский арсенал ядерного оружия состоял всего лишь из девяти бомб типа «Толстяка»; только семь из них можно было использовать в связи с нехваткой запалов. Год спустя, через два года после окончания войны, этот арсенал насчитывал всего тринадцать бомб[3082]. Самым узким местом производственного процесса была выработка плутония. Как оказалось, высокая интенсивность нейтронного потока в производственных реакторах Хэнфорда вредила самим реакторам. В мае из одного из ректоров выгрузили активную зону, чтобы предотвратить его дальнейшие повреждения, а мощность второго реактора уменьшили до 80 % максимальной. Поэтому любые усовершенствования конструкции атомной бомбы, которые Лос-Аламос мог предложить, существенно укрепили бы ядерный арсенал Соединенных Штатов в момент все более напряженных отношений с Советским Союзом. Тем не менее между 1946 и 1950 годами приблизительно половина рабочего времени теоретического отдела была посвящена супербомбе[3083]. Разумеется, атомные бомбы стали к тому времени заботой скорее инженеров, чем физиков-теоретиков, но следует учитывать и завораживающую сложность задач, связанных с термоядерной реакцией.
В жизни Теллера наступил необычный для него период оптимизма. Летом 1946 года его жена Мици родила второго ребенка, дочь, и он проводил с семьей больше времени, чем обычно. Его снова захватили величие и приносящая глубокое удовлетворение творческая природа фундаментальной науки. «Годы, прошедшие между Лос-Аламосом и возобновлением его работы в области национальной безопасности, – пишет Юджин Вигнер, – были, возможно, годами самой плодотворной научной работы Теллера»[3084]. Теллер преподавал, участвовал в написании тринадцати научных статей, регулярно ездил в Лос-Аламос в качестве консультанта, писал статьи для вновьсозданного «Бюллетеня ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists). В «Бюллетене» он призывал покончить с секретностью в отношении «чисто научных данных»[3085]. Он назвал доклад Ачесона и Лилиенталя, легший в основу плана Баруха по международному контролю за ядерным оружием, который Соединенные Штаты представили в ООН в 1946 году, «изобретательным, смелым и принципиально здравым»[3086]. В апреле 1946 года, в том же месяце, когда проходило совещание по супербомбе, он признал абсолютный характер абсолютного оружия в поразительно твердом высказывании: «Ничто из того, что мы можем запланировать на следующее поколение в качестве защиты, вероятно, не будет достаточным; точнее, ничто, кроме создания всемирного союза»[3087].
Год спустя он все еще не видел защиты от атомного оружия[3088]. Он описывал кошмарное опустошение Хиросимы с ужасом и сочувствием: «Поражают картины бушующих пожаров, с которыми никто не борется, ран, которые никто не лечит, больных людей, убивающих себя в попытке помочь своим товарищам». Можно даже представить себе, писал он, «что последствия атомной войны поставят под угрозу само выживание человека»[3089]. В 1947 году, когда Советский Союз отверг план Баруха, он считал, что «соглашение с Россией все еще кажется возможным»; когда-то, шутливо отмечал он, и датчане строили столь же грандиозные империалистические планы. «Сейчас мы должны стремиться к установлению всемирного права и всемирного правительства… Даже если Россия не присоединится к нам немедленно, в долгосрочной перспективе успешное, сильное и терпеливое мировое правительство сумеет добиться ее сотрудничества… У нас [ученых] есть две четко определенные обязанности: работать над развитием атомной энергии и работать на благо мирового правительства, ибо только оно может обеспечить нам свободу и мир»[3090].
Такие радикальные изменения воззрений Эдварда Теллера остаются до некоторой степени загадочными. Британский теоретик Фримен Дайсон, бывший тогда одним из учеников Теллера, писал домой из послевоенного Чикаго, что его учитель, к которому он относился с любовью и восхищением, был тем не менее «хорошей иллюстрацией поговорки, что идеалисты – самые опасные люди на свете»[3091]. Эмоциональный настрой того, что Теллер писал в чикагский период, радикально отличается от его позднейшей работы. Он, разумеется, был менее желчен и более оптимистичен, но еще более глубокое отличие состоит в том, что в его словах звучит гораздо более сильная вера в людей и в возможности человеческих учреждений в области ограничения конфликтов между народами. Даже Россия на время стала для него «баснословным чудовищем», а не угрожающей сущностью, которую Теллер описывал Бете в 1945 году и все с большей тревогой упоминал после 1949-го. «Всемирное правительство, – писал он в “Бюллетене” еще в июле 1948 года, – наша единственная надежда на выживание… Мне кажется, что мы должны освободиться от ослепления угрозой того баснословного чудовища, каким мы считаем Россию. Мы не должны забывать из-за нынешней необходимости противостояния с Россией, что в долгосрочной перспективе мы не сможем победить, работая во вред чему-либо. Мы должны работать на благо чего-то. Мы должны работать на благо создания мирового правительства»[3092]. Причины таких различий в его позиции отчасти могут быть личными и неясными, возможно, даже ему самому. Однако последующие события, по-видимому, указывают на то, что одной из важнейших причин, по которым Теллер чувствовал себя в такой безопасности в первые послевоенные годы, была монополия Америки на обладание атомной бомбой.
Но его почти никто не слушал. Холодная война началась всерьез. Оппенгеймеру удалось пробраться в высшие советы государства: теперь он был директором Института перспективных исследований в Принстоне и председателем Главного научно-консультативного совета вновь учрежденной Комиссии США по атомной энергии; он достиг мировой славы и был известен всем и каждому. Из печального примечания к обзору работы Комиссии по атомной энергии, который Теллер опубликовал в «Бюллетене» в 1948 году, видно, насколько изолирован от власти был в это время венгерский физик: «В связи с ограниченностью информации, имеющейся в распоряжении автора, этот отчет не может не быть неполным»[3093].
В начале лета 1949 года Теллер взял в Чикаго отпуск и вернулся в Лос-Аламос. Это решение далось ему нелегко. Оппенгеймер связывался с ним[3094] и пытался его воодушевить; Брэдбери присылал целую делегацию, в составе которой был и Станислав Улам, с приглашением вернуться[3095]. Позднее он говорил, что вернулся, потому что решил, что его статьи, публичные выступления и политическая деятельность не производили почти никакого эффекта и что «лучшее, что я мог сделать, – это вернуться в Лос-Аламос и участвовать в создании оружия, деле, мне знакомом и способном принести конкретные результаты»[3096]. На него, несомненно, повлияли коммунистический переворот в Чехословакии зимой 1948 года, блокада Берлина, начавшаяся следующим летом, и казавшаяся неизбежной победа коммунистов над националистами в Китае. Еще более остро он переживал события в Венгрии, в которой на недолгое время вновь установилась под защитой Союзной контрольной комиссии демократическая республика. Но страну по-прежнему оккупировала Красная армия, и к 1948 году к власти пробралась Коммунистическая партия. 15 мая 1949 года прошли безальтернативные выборы, завершившие переворот. Отец, мать, сестра и племянник Теллера пережили уничтожение венгерских евреев и по-прежнему жили в Будапеште. Теперь они оказались отрезаны от него.
Таким образом, Теллер уже вернулся к работе над оружием, когда Гарри Трумэн объявил 23 сентября 1949 года о взрыве «Джо-1»[3097], первой советской атомной бомбы. Как и большинство американцев, Теллер не ожидал, что Советы так быстро добьются успеха[3098]. В тот день, когда было объявлено о советских испытаниях, он позвонил Оппенгеймеру и был настолько взволнован, что Оппенгеймер резко сказал ему: «Остыньте»[3099]. Впоследствии он говорил, что его мысли «не сразу обратились к работе над термоядерной бомбой»[3100], но уже в начале октября он интенсивно обсуждал этот вопрос в Лос-Аламосе с Эрнестом Лоуренсом и Луисом Альваресом, которые заверили его в своей поддержке. Американская ядерная монополия закончилась. У баснословного чудовища обнаружились реальные когти. Если Советский Союз уже испытал атомную бомбу, долго ли осталось до появления советской водородной бомбы? Теллер решил, что надежду на сохранение безопасности страны может дать только максимально интенсивная работа по созданию американской супербомбы.
Первым конкретным действием правительства Соединенных Штатов в ответ на демонстрацию Советским Союзом своего владения секретом взрывного деления ядра было утверждение программы расширения производства урана и плутония в октябре 1949 года. Тем временем в правительстве бушевали тайные дебаты: что следует предпринять Соединенным Штатам? Герберт Йорк, учившийся в это время у Теллера, описывает участников этих дебатов следующим образом:
Особенно с учетом огромного значения этого вопроса – а большинство участников хорошо осознавало, каким огромным было это значение, – число участников этих секретных дебатов было очень невелико: члены ГКС [Главного консультативного совета КАЭ], члены самой КАЭ и несколько их сотрудников, члены [Объединенного комитета по атомной энергии сената и палаты представителей] и несколько их сотрудников, очень немногие представители Министерства обороны и совсем маленькая группа заинтересованных ученых… В общей сложности там было менее ста человек, по большей части считавших – и, вероятно, справедливо, – что они участвуют в принятии одного из самых судьбоносных решений в истории[3101].
Еще одним важным участником дебатов был Дин Ачесон, ставший теперь государственным секретарем. Трумэн прислушивался к Ачесону, министру обороны Луи Джонсону и Объединенному комитету начальников штабов больше, чем к ученым. Начальники штабов сказали Трумэну, не проводя особенно подробного анализа, что появление у Советского Союза водородной бомбы «недопустимо»[3102]. Приблизительно то же самое говорил и Ачесон[3103]. Ни одна из групп, участвовавших в дебатах, не рассматривала возможность того, что результатом американской инициативы может стать гонка вооружений. Сторонники водородной бомбы считали, что она поможет вернуть ядерное превосходство. 31 июня 1950 года Трумэн принял решение о продолжении ее разработки.
Теллер счел решение президента своей личной победой. По меньшей мере с того сентябрьского дня, когда Оппенгеймер советовал ему «остыть», ему, по-видимому, казалось, что его коллега-физик пытается помешать лично ему. Оппенгеймер возглавлял ГКС, к которому руководство КАЭ обратилось в октябре за консультацией по этому вопросу. Теллер поехал в Вашингтон, чтобы попытаться повлиять на решение в обход этого комитета. Одним из его собеседников был Кеннет Д. Николс, ставший теперь генералом и, после выхода в отставку Гровса, главным военным специалистом по ядерному оружию. Одним осенним воскресным утром Теллер так эмоционально вещал на веранде у Николса, что тот в конце концов спросил его: «Эдвард, почему эта ситуация так вас тревожит?» – «На самом деле меня тревожит не ситуация, – ответил Теллер, как вспоминает Николс. – Меня тревожат те люди, которых эта ситуация должна тревожить»[3104].
ГКС заседал 29 и 30 октября (в составе Оппенгеймера, Конанта, Ферми, Раби, президента Калтеха Ли Дюбриджа, металлурга Сирила Смита, президента Bell Laboratories Оливера Э. Бакли и инженера Хартли Роу; Гленн Сиборг отсутствовал). В ответ на советское достижение комитет рекомендовал КАЭ рассмотреть возможность дальнейшего расширения производства делимых материалов[3105]. Он призвал к «интенсификации усилий по адаптации ядерного оружия к тактическим задачам». Он предложил построить мощности для производства большего количества нейтронов для исследований и разработки оружия. И настоятельно рекомендовал продолжать существовавшую в Лос-Аламосе программу применения в атомных бомбах малого количества трития для «разгона» этих бомб и получения более эффективных и более мощных взрывов (это изобретение было успешно испытано в мае 1951 года).
Однако помимо этого комитет рекомендовал отказаться от «присвоения высокого приоритета продолжению разработки супербомбы». Обоснование этой рекомендации сводилось, по сути дела, к двум доводам[3106]: что супербомба мощностью десять мегатонн будет исключительно оружием массового поражения и не будет иметь никакого другого очевидного военного применения и что она не обеспечит явного повышения безопасности Соединенных Штатов. Это было связано, в частности, с тем, что для рассматривавшейся тогда конструкции – той же, которую рассматривали на совещании по супербомбе в 1946 году, конструкции Теллера, классической супербомбы, – видимо, требовалось большое количество трития, и его производству пришлось бы конкурировать с производством плутония, так как оба материала производились в одних и тех же ядерных реакторах, мощность которых была ограниченной. Кроме того, производство одного грамма трития стоило в восемьдесят раз дороже, чем производство одного грамма плутония. Американский ядерный арсенал насчитывал в конце 1949 года порядка двухсот атомных бомб[3107]. Замедление производства заведомо действующих бомб ради разработки нового оружия казалось ученым и инженерам ГКС бессмысленным. Как резюмировал впоследствии Оппенгеймер, «программа [создания водородной бомбы], которая была у нас в 1949 году, была жалким, измученным созданием, в котором трудно было увидеть большой технический смысл. Поэтому вполне можно было сказать, что она никому не нужна, если даже и осуществима»[3108].
При составлении пояснительных приложений к докладу от 30 октября члены ГКС разделились на две группы, большинство и меньшинство. Конант написал проект приложения большинства, которое также подписали Оппенгеймер, Дюбридж, Роу, Смит и Бакли. В нем говорилось, что супербомба «может стать оружием геноцида». В нем говорилось, что такая бомба «ни в коем случае не должна быть создана… На утверждение, что в разработке этого оружия могут преуспеть русские, мы ответили бы, что попытка достижения той же цели нами их не остановит. Если они применят это оружие против нас, ответный удар с использованием нашего большого запаса атомных бомб будет сравним по эффективности с применением супербомбы». Раби составил приложение меньшинства, которое подписали он и Ферми. В нем утверждалось, что вопрос о водородной бомбе может служить отправной точкой для новой программы контроля вооружений. Супербомба называлась в нем «оружием, практический эффект которого будет недалек от геноцида», после чего ей выносился для пущей убедительности еще более строгий приговор: «С любой точки зрения такое устройство следует считать злом».
Теллер стал самым активным сторонником создания этого невероятно мощного оружия еще до Перл-Харбора. Его коллеги по Манхэттенскому проекту, входившие в ГКС, – Оппенгеймер, Конант, Ферми, Раби, Смит – поощряли его деятельность и даже работали вместе с ним. Тогда никто не говорил ни о зле, ни о геноциде. Эти люди, получившие высокие посты благодаря участию в создании оружия, использованного для массового уничтожения двух японских городов, осуждали теперь новое, еще более совершенное оружие. Ученые, понимавшие, что возбуждение самоподдерживающейся термоядерной реакции – это исторический эксперимент в области фундаментальной физики, предлагали отложить этот эксперимент на неопределенное время и, вероятно, подарить честь этого свершения русским. Курьер доставил экземпляр доклада комитета в Лос-Аламос перед прибытием делегации заинтересованных этим вопросом конгрессменов, которые его уже видели. С разрешения председателя КАЭ Дэвида Лилиенталя заместитель директора лаборатории и исполнительный секретарь ГКС Джон Мэнли показал доклад руководителям отделов, в том числе и Теллеру. «Эдвард, разумеется, пришел в совершеннейшее негодование, – вспоминает Мэнли, – и предложил мне заключить пари, что, если мы немедленно не начнем срочную программу по разработке супербомбы, он окажется в русском плену прямо здесь, в Соединенных Штатах»[3109].
В 1954 году Теллер объяснил свою реакцию в интервью журналисту агентства Time-Life, используя ироническую вариацию доводов Оппенгеймера, с которыми он согласился в 1945 году, когда отказался подписать петицию Сциларда:
Те доводы, которые они приводили, просто вывели меня из себя… В любой науке важно делать то, что можно сделать. Ученые имеют естественное право и обязанность иметь свое мнение. Но наука не наделяет их особой проницательностью относительно общественных дел. Иногда ученым, кинозвездам и летчикам, перелетевшим через Атлантику, лучше держать свое мнение при себе, чтобы его не восприняли более серьезно, чем оно того заслуживает[3110].
Иногда даже другим ученым бывает трудно не забывать, что атомные и водородные бомбы были разработаны не только в качестве ужасных средств уничтожения. Они были также, как сказал однажды Ферми, «превосходными работами по физике».
На момент заявления Трумэна Дж. Карсон Марк возглавлял теоретический отдел Лос-Аламоса. «Слова Трумэна, – отмечает Марк, – не обязательно означали, что мы будем делать нечто отличное от того, что мы делали до этого, потому что мы действительно не знали, как сделать устройство, которое работало бы как водородная бомба»[3111]. В феврале 1950 года, когда в Вашингтоне узнали, что Клаус Фукс в течение семи самых важных лет, с 1942 по 1950 год, передавал секретную информацию Советскому Союзу, Трумэн обратился за советом к особому комитету Совета национальной безопасности. Комитет рекомендовал президенту разъяснить несколько двусмысленную директиву от 31 января и официально зафиксировать решение об энергичной разработке водородной бомбы. Вместе с этим он подчеркивал, что не существует ни очевидных способов ускорения графика испытаний оружия, ни гарантий успеха. Трумэн утвердил доклад комитета в качестве официального политического решения.
Необходимым следующим шагом к разработке термоядерного оружия было сложное математическое моделирование. Без математической модели развития термоядерной реакции после запального ядерного деления, объясняет Марк, «нельзя было сделать никаких выводов, более точных, чем догадки вслепую, потому что даже неудачный результат [испытаний] был бы не доказательством неосуществимости, а, возможно, только доказательством непригодности выбранной системы [например, классической супербомбы Теллера]»[3112]. Задача супербомбы, как стали называть эту математическую модель, была самой большой математической задачей, какую кто-либо пытался решить до тех пор; она была «гораздо крупнее, – пишет Станислав Улам, – чем любые астрономические расчеты, выполненные до этого времени на ручных вычислительных устройствах»[3113]. Нужно было обсчитать зарождение и развитие термоядерного взрыва – происходящее в нем нагревание, его чрезвычайно сложную гидродинамику, развивающиеся в нем физические реакции – по последовательным этапам длительностью менее одной десятимиллионной секунды. О необходимости таких расчетов говорилось еще в решениях совещания по супербомбе 1946 года, но без дальнейшего развития электронных компьютеров их просто невозможно было выполнить за сколько-нибудь разумное время. Теллер говорил об этом в своем докладе 1947 года, описывая различия между классической супербомбой и альтернативной схемой: «Я полагаю, что решение о том, следует ли прилагать значительные усилия к разработке ТХ-14 или супербомбы, необходимо отложить приблизительно на два года; точнее, до времени завершения этих экспериментов, испытаний и вычислений»[3114].
В конце 1949 года, еще до принятия решения по водородной бомбе, в Лос-Аламосе началась детальная подготовка машинных расчетов для первого, еще примитивного, электронного компьютера ЭНИАК на Абердинском полигоне в штате Мэриленд. После того как решение по водородной бомбе было принято, Улам и Корнелиус Дж. Эверетт из теоретического отдела решили выполнить вручную упрощенный вариант этих расчетов. «Мы начали работать ежедневно по четыре-шесть часов с логарифмическими линейками, карандашами и бумагой, – вспоминает Улам, – часто подставляя числа наугад… Наша работа в значительной степени опиралась на догадки о геометрических соотношениях, предположения о величинах сечений твердых тел и оценки объемов и шансов вылета частиц. Все это мы неоднократно проделывали часами напролет, щедро добавляя к своим догадкам постоянные вычисления на логарифмических линейках. Это был долгий и утомительный труд»[3115]. Они обсчитывали первую часть двухчастной задачи, пытаясь понять, сможет ли атомный запал нагреть определенное количество дейтерия и трития настолько, чтобы запустить термоядерную реакцию. Группа Теллера выполнила еще более грубые расчеты по этой части задачи между 1944 и 1946 годами. К февралю 1950 года[3116] Улам увидел, что того количества трития, которое предполагалось использовать в соответствии с предыдущей оценкой Теллера, далеко не достаточно. «Из результатов вычислений, – сообщает Улам, – по-видимому, следовало, что рассмотренная модель произведет пшик»[3117]. Он увеличил оценку объема трития и начал с начала. Даже при большем количестве трития классическая супербомба по Теллеру выглядела совершенно бесперспективно[3118]. В конце апреля Улам поехал в Принстон, чтобы обсудить свои печальные результаты с фон Нейманом и Ферми. Втроем они поговорили еще и с Оппенгеймером; Уламу показалось, что «известие о наших затруднениях его скорее обрадовало»[3119].
Вернувшись в Лос-Аламос, Улам рассказал обо всем Теллеру. «Вчера он был буквально бледен от ярости, – сообщал Улам фон Нейману, – но сегодня, мне кажется, успокоился»[3120]. Сначала Теллер отказался поверить в правильность этих расчетов[3121]. Кроме того, он заподозрил, что Улам занимался ими с какой-то недобросовестной целью. Официальная история КАЭ сообщает, что фон Нейману пришлось представить Теллеру «свои заверения в том, что мотивы изменения [оценки количества трития] были совершенно целесообразными»[3122]. Интересно отметить, что как раз Улам с самого начала поддерживал идею создания супербомбы.
Очередь обсчета задачи о супербомбе на ЭНИАК подошла в июне. Постепенно поступавшие результаты подтверждали выводы Улама и Эверетта. «Вычисления показывали, – вспоминает Улам, – что, несмотря на обнадеживающую начальную “вспышку”, затем вся сборка начинала постепенно охлаждаться. Джонни [фон Нейман] ежедневно звонил с очередной порцией результатов. “Появляются сосульки”, – уныло говорил он»[3123]. Одновременно с этим Улам и Ферми, приехавший в Лос-Аламос на лето, начали обсчитывать вручную следующую часть задачи супербомбы, которая касалась распространения исходной термоядерной реакции. Эта работа, говорит Улам, «как оказалось впоследствии, заложила основу технологии термоядерных взрывов»[3124]. Но и она предсказывала, что супербомба Теллера должна произвести пшик. Дело в том, объясняет Ханс Бете, что супербомба попросту была неудачной схемой, тупиковым вариантом:
Уже сама потребность в расчетах Улама доказывала, что проект создания водородной бомбы не был готов для «скоростной» программы, когда Теллер впервые предлагал ее осенью 1949 года. Никто не может винить в этом Теллера, потому что расчеты 1946 года были неверны, в особенности потому, что пригодных для них вычислительных машин тогда не было. Но в Лос-Аламосе его обвиняли в том, что, исходя из этих расчетов, он завлек лабораторию да и всю страну в авантюристскую программу, хотя не мог не знать, что они были чрезвычайно неполными. С другой стороны, технический скепсис ГКС оказался гораздо более обоснованным, чем сами члены ГКС могли себе представить в октябре 1949 года[3125].
Между октябрем 1950-го и январем 1951 года, продолжает Бете, Теллер «был в отчаянии… Он предложил несколько сложных схем для спасения [классической супербомбы], но ни одна из них не казалась особенно перспективной. Было очевидно, что решения проблемы он не знает»[3126]. Тем не менее сокращать масштабы своей работы он не желал. Он хотел использовать большую часть рабочего времени лаборатории в течение по меньшей мере полутора лет[3127]. Он не знает, как сделать термоядерную бомбу, сказал он на октябрьском заседании ГКС, но уверен, что это осуществимо[3128]. Он настаивал, что главным узким местом была нехватка в Лос-Аламосе теоретиков и недостаток воображения. Весной 1951 года на атолле Эниветок в архипелаге Маршалловы острова должны были пройти испытания «Гринхаус»[3129], запланированные для проверки осуществимости термоядерного синтеза. Если они докажут невозможность водородной бомбы, заключил он, у Лос-Аламоса может хватить сил для продолжения работы; если же испытания докажут, что бомба возможна, лаборатория может не суметь довести ее разработку до конца. Такая оценка не способствовала улучшению отношения сотрудников Лос-Аламоса к Теллеру[3130].
Сильный стресс может способствовать творческим достижениям. То же можно сказать и о долгом знакомстве с задачей. К февралю 1951 года Улам был зол на Теллера, а Теллер был зол на всех. В результате на свет явилось новое, совершенно неожиданное изобретение. Его не предвидел даже Теллер. Бете описывает положение дел так: «Эта новая концепция была для меня, весьма близко связанного с этой программой, приблизительно такой же неожиданностью, какой было для физиков в 1939 году открытие деления»[3131]. Эта концепция стала известна как схема Теллера – Улама.
Впоследствии Теллер то отрицал, то подтверждал, то приписывал себе вклад Улама в это изобретение. Улам неизменно признавал вклад Теллера, но настаивал на своем участии. Другие – например Лотар Нордхейм из теоретического отдела[3132] и Герберт Йорк[3133] – подтверждают, как Нордхейм писал в 1954 году в New York Times, что «общий принцип был сформулирован д-ром Станиславом Уламом в сотрудничестве с Теллером, который вскоре после этого придал ему технически осуществимую форму». Самое близкое к великодушному свидетельство Теллера появляется в его эссе 1955 года «Работа многих» (The Work of Many People): «В течение нескольких недель появились два проблеска надежды: одним из них было изобретательное предложение Улама, а другим – тонкие вычисления, которые выполнил [физик Фредерик] де Хоффман»[3134]. Его нежелание однозначно признать вклад Улама, противоречащее научной этике, говорит о том, какое значение он придавал историческому приоритету в этом вопросе. Хотя он не любил, когда его называли «отцом водородной бомбы», в 1954 году он подтвердил свое отцовство, предложив любопытную аллегорию своих непостоянных отношений с Лос-Аламосом:
Меня действительно можно считать отцом в том биологическом смысле, что я произвел необходимые действия и позволил природе сделать свое дело. После этого ребенок не мог не родиться. Он мог быть здоровым и сильным, а мог оказаться мертворожденным, но что-то должно было родиться. Процесс зачатия отнюдь не был приятным; он был исполнен затруднений и беспокойства с обеих сторон. Мой акт… возбудил эмоции, обычно связываемые с таким поведением[3135].
Бете высказывал, язвительно и иронично, противоположное мнение: «Я говаривал, что отцом водородной бомбы был Улам, а Эдвард – ее матерью, потому что именно он довольно долго вынашивал это дитя»[3136].
Механизм водородной бомбы Теллера – Улама был в общих чертах описан в 1983 году в официальной публикации Лос-Аламоса, приуроченной к сороковой годовщине основания лаборатории:
Первые взрывчатые заряды мегатонной мощности (водородные бомбы) были основаны на использовании рентгеновских лучей, произведенных первичным ядерным устройством, для сжатия и воспламенения физически отдельной вторичной ядерной сборки. Процесс, при помощи которого переменный во времени источник излучения связывают со вторичным устройством, называют переносом излучения[3137].
По-видимому, основной вклад Станислава Улама был порожден более пристальным рассмотрением ранних стадий развития светящейся области атомного взрыва[3138], которая сначала излучает большую часть своей энергии в виде рентгеновских лучей. Поскольку они распространяются со скоростью света, они вылетают вовне впереди любой ударной волны. В классической схеме супербомбы и других предыдущих конструкциях всю массу термоядерного материала предположительно пытались упаковать внутри развивающегося ядерного взрыва, чтобы разогреть ее гидродинамически, – получались дополнительные сферы внутри сфер, еще более толстый и неработоспособный «Толстяк». Расчеты показывали, что все эти конструкции должны разлететься на части до того, как термоядерная реакция успеет развиться. Видимо, Улам внезапно понял, что, если термоядерные материалы будут физически отделены от ядерного запала, сильнейший поток рентгеновских лучей, поступающий от первичного взрыва, можно будет каким-то образом приспособить для возбуждения термоядерной реакции в краткую долю секунды, проходящую до прихода ударной волны, которая разорвет все на куски[3139].
Улам и Теллер занялись дальнейшей разработкой идеи Улама. Рентгеновские лучи, испускаемые первичным взрывом, могли нагреть термоядерный материал вторичного устройства непосредственно (как микроволновое излучение нагревает пищу в микроволновой печи), но не могли эффективно сжать его до такой высокой плотности, которая поддерживала бы термоядерный синтез. Нужен был какой-то промежуточный материал. Оказалась, что подойдет обычная пластмасса. Если направить столь мощный поток рентгеновского излучения в слой плотного вспененного пластика, обернутый вокруг цилиндра из термоядерных материалов, пластик моментально нагреется до состояния плазмы – горячего ионизированного газа – и расширится взрывным образом, создавая давление, в тысячи раз большее, чем можно получить при помощи обычной взрывчатки. Таким образом, первичный ядерный заряд – миниатюрный «Толстяк», который в современных эффективных видах оружия не превышает размерами футбольный мяч, – может быть расположен в одном конце откачанного цилиндрического корпуса. Дальше в том же корпусе можно расположить слой пластика, обернутый вокруг цилиндрической сборки из термоядерных материалов. При взрыве первичного устройства поток рентгеновских лучей облучает пластик со скоростью света, гораздо быстрее, чем его достигает расширяющаяся за ним ударная волна ядерного взрыва. Подбор нужной конфигурации пластика должен быть делом гораздо более простым, чем подбор конфигурации взрывных линз; распространяющееся со скоростью света рентгеновское излучение облучает пластик одновременно по всей длине цилиндра, и в результате получается идеально симметричная имплозия.
Такова, насколько позволяет понять все еще действующий режим секретности, была идея, впервые пришедшая в голову Уламу и доведеннаядо практического воплощения Теллером[3140]. Хотя она позволила сделать необходимый шаг вперед, изобретение еще не было завершено. Даже при больших температуре и давлении имплозии облученного пластика эта конструкция, по-видимому, не создавала достаточного нагрева на достаточное время для запуска полномасштабной термоядерной реакции. Такие реакции возникают, когда легкие атомы, такие как дейтерий и тритий, нагреваются – увеличивают скорость движения – настолько, что могут проникать сквозь электрический барьер ядра и сливаться, образуя гелий. Для этого процесса нужны теплота и давление, но не требуется критической массы. После начала синтеза высвобождаемая в реакции энергия связи (для дейтерия и трития она составляет 17,6 МэВ) поддерживает дальнейший синтез. Поэтому термоядерное оружие можно сделать сколь угодно большим – так же, как сколь угодно большим можно сделать огонь, если подавать в него все больше горючего. Но сначала реакцию нужно запустить, и схемы, предложенной Уламом и Теллером, для этого, видимо, было еще недостаточно. «9 марта 1951 года, – отмечает Бете, – Теллер и Улам опубликовали [засекреченную] статью, в которой излагалась первая половина новой концепции».
Однако «не прошло и месяца, – продолжает Бете, – как Теллеру пришла в голову чрезвычайно важная вторая половина новой концепции; [Фредерик] де Хоффман произвел ее предварительную проверку. Она немедленно попала в центр внимания программы разработки термоядерного оружия»[3141]. Вероятно, вторая половина новой концепции предусматривала дальнейшее размещение цилиндров внутри цилиндров: сначала идет внешняя оболочка из 238U для рассеяния рентгеновских лучей от первичного взрыва в пластик; затем – слой пластика; затем – слой отражателя из 238U; затем – слой термоядерных материалов и, наконец, на оси цилиндра, – стержень из плутония. Дело в том, что имплозивный пластик может воздействовать не только на термоядерные материалы. Он также способен сжать стержень из Pu до критического состояния и запустить в нем вторую цепную реакцию деления. Это обеспечит подачу в термоядерные материалы дополнительного мощного потока тепла и давления и запустит реакции синтеза. В свою очередь, слой 238U получит плотный поток нейтронов, высвобожденных в термоядерной реакции, и в нем начнется деление на энергиях, превышающих порог для 238U, равный 1 МэВ. Нейтроны, произведенные в этом делении, внесут свой вклад в подготовку термоядерных материалов к дальнейшему синтезу[3142]. Такую схему обычно называют «деление-синтез-деление». У Роберта Оппенгеймера были все основания назвать состоящее из двух частей изобретение Теллера и Улама «технически… симпатичным»[3143].
Директор Института перспективных исследований, как и многие другие, признал это изобретение важным достижением. «Д-р Оппенгеймер горячо поддержал этот новый подход, – свидетельствует Теллер, – и, насколько мне известно, заявил, что если бы что-нибудь в этом роде было предложено с самого начала [т. е. во время дебатов о водородной бомбе 1949 года], он никогда не стал бы возражать против этой работы»[3144].
В течение всего 1951 года работа над термоядерным оружием в Лос-Аламосе быстро шла вперед, но к тому времени отношения Теллера с сотрудниками лаборатории испортились уже безнадежно. Три года спустя, во время слушаний по делу Оппенгеймера, последний записал в своем блокноте одну изобличающую фразу Теллера, которая полностью выражает трансформацию венгерского физика из апостола мирового правительства в агрессивного создателя оружия. В ней звучит эхо еще тех давних травматических переживаний, которые выпали на долю Теллера в революционной и контрреволюционной Венгрии его юности: «“Раз я не могу работать с соглашателями, буду работать с фашистами”… Кто-то слышал эти слова от Э. Т. Кто?»[3145] В 1952 году Теллер получил при поддержке Эрнеста Лоуренса и финансовом обеспечении Министерства обороны вторую оружейную лабораторию в Ливерморской долине, в восьмидесяти километрах вглубь материка от Беркли. В Лос-Аламосе же продолжили работу над первым экспериментальным термоядерным устройством, получившим неизобретательное имя «Майк».
Теллер решил не присутствовать при взрыве «Майка» на атолле Эниветок 1 ноября 1952 года. Он был занят организацией своей новой оружейной лаборатории, и у него не было времени; кроме того, он наверняка чувствовал, что ему там будут не рады. «Майк» был устройством на жидком тритии и дейтерии; для поддержания низкой температуры этих жидкостей требовалась криогенная охлаждающая установка. Все устройство в сборе весило около 65 тонн и занимало целый лабораторный корпус на маленьком островке Элугелаб. Обернутое черным рубероидом, тускло блестевшим под жарким солнцем, кубическое здание выглядело издали как дьявольский близнец Каабы в Мекке.
Тем не менее Теллер ухитрился следить за ходом испытаний. Он устроился у сейсмографа в подвале геологического факультета Беркли. Герберт Йорк, исполнявший обязанности директора Ливермора, настроил коротковолновой радиоприемник на волну дистанционной измерительной аппаратуры испытаний «Майка». Когда бомбу взорвали, он позвонил в Беркли Теллеру. Два физика заранее рассчитали время распространения сейсмической волны от успешного взрыва под дном Тихоокеанского бассейна до Северной Калифорнии – как вспоминает Теллер, оно составляло около пятнадцати минут:
Я ждал с некоторым нетерпением; каждую минуту сейсмограф выдавал ясно видимый вибрационный сигнал, служивший временной отметкой. Наконец появился сигнал, за которым должно было последовать сотрясение от взрыва, и оно, кажется, пришло: светящаяся точка сильно и нерегулярно заплясала на экране. Карандаш, который я держал, чтобы отмечать колебания, задрожал в моей руке – только ли он один?[3146]
Предполагалось, что сила взрыва «Майка» составит всего несколько мегатонн. Но его конструкторы разрабатывали каждый компонент так, чтобы получить максимальную мощность. В результате мощность получилась равной 10,4 миллиона тонн в тротиловом эквиваленте, в тысячу раз больше, чем при взрыве «Малыша». «Это настоящая чума в Фивах»[3147], – сказал как-то Оппенгеймер о водородной бомбе. Теперь эта чума получила реальное воплощение.
Испытания были секретными. Ни одно сообщение не могло попасть в Лос-Аламос, пока контрразведчики на Эниветоке его не просмотрели и не зашифровали. Теллер знал, что «Майк» успешно взорвался, раньше, чем его создатели. Он продиктовал Йорку телеграмму для отправки в Лос-Аламос. Ее текст был кратким, но колким: «У вас мальчик»[3148].
«Светящаяся область, – пишет Леона Маршалл-Либби, – увеличилась в диаметре до 5 километров. Наблюдатели, эвакуированные на расстояние не менее 65 километров, видели миллионы литров воды из лагуны [атолла], превратившиеся в пар и образовавшие гигантский пузырь. Когда пар рассеялся, они увидели, что остров Элугелаб, [на котором стояло здание] с бомбой, исчез, тоже испарился. На его месте в рифе была вырвана воронка 800-метровой глубины и 3-километровой ширины»[3149].
Советский Союз взорвал устройство с небольшой водородной компонентой в августе 1953 года. Мощность взрыва, вероятно, составила несколько сот килотонн[3150], приблизительно вдвое меньше, чем у самого крупного ядерного устройства, испытанного до этого Соединенными Штатами. «Это не была настоящая водородная бомба, – отмечает Ханс Бете, – и мне это очень хорошо известно, потому что я был председателем комитета по анализу русских [радиоактивных осадков]»[3151].
«Майк», весивший 65 тонн, был слишком громоздким и сложным механизмом, чтобы его можно было использовать в оружии, устанавливаемом на какие-либо средства доставки. Его создатели использовали в нем жидкие дейтерий и тритий для простоты измерений термоядерных реакций, которые они хотели изучить в этих испытаниях. Для реальной бомбы лучшим термоядерным материалом был дейтерид лития (LiD), устойчивый порошок, в котором литий находился в виде изотопа 6Li. Его содержание в природном литии составляет всего 7,4 %, но его сравнительно легко выделить. Нейтроны, поступающие от деления в ядерных компонентах литиевой бомбы, почти мгновенно производят из 6Li тритий, который сливается затем с дейтерием в термоядерной реакции – так же, как влажные и громоздкие жидкие компоненты соединялись в «Майке». Сухая конструкция была испытана в рамках операции «Касл»[3152] весной 1954 года; «в самых первых испытаниях серии, – пишет Герберт Йорк, – испытаниях “Браво”, было взорвано устройство на LiD и получена мощность 15 мегатонн. Поскольку эту конструкцию было легко приспособить для доставки самолетом, она и была первой крупной американской водородной бомбой»[3153]. Испытания первой советской истинной термоядерной бомбы, сброшенной с самолета, последовали 23 ноября 1955 года[3154].
В 1943 году, когда Нильс Бор приехал в Лос-Аламос, пишет Роберт Оппенгеймер, «его первый серьезный вопрос был: “Она действительно достаточно большая?”». Бор имел в виду бомбу: достаточно ли она велика, чтобы закончить мировую войну, чтобы заставить человечество найти выход за пределы рукотворной смерти, ведущий в мир более открытый и более гуманный. «Не знаю, была ли она достаточно большой, – добавляет Оппенгеймер, – но в конце концов она такой стала»[3155]. К 1955 году, если не раньше, бомба существенно изменила мир. Оппенгеймер уже нашел лаконичное метафорическое выражение этого изменения в одной церемониальной речи, которую он произнес в начале 1946 года. «Атомного оружия не требовалось, чтобы сделать войну ужасной, – сказал он тогда. – <…> Атомного оружия не требовалось, чтобы заставить человека захотеть мира, причем мира устойчивого. Но атомная бомба стала последней каплей. Она сделала перспективу будущей войны невыносимой. Она провела нас последние несколько шагов к горному перевалу, за которым лежит новая страна»[3156].
«Книга мертвых XX века» (Twentieth Century Book of the Dead) Гила Элиота – ценный справочник по этому процессу. Элиот – шотландский писатель с самобытным складом ума, живущий в Лондоне. Ему пришла мысль изучить вопрос о числе людей, погибших от рукотворной смерти в течение этого, самого кровавого из всех веков. Он выяснил, что мало кто из историков или статистиков интересовался кем-либо, кроме людей в военной форме. Оценив число жертв с точностью до порядка величины, он получил суммарное количество убитых (включая участников боевых действий), приблизительно равное 100 миллионам человек. Эту невоспетую массу людей он называет народом мертвых:
О народе мертвых мы знаем столько же, сколько мы могли знать о каком-нибудь живом народе лет пятьдесят назад, когда методики социальных измерений еще находились на ранней стадии развития. Численность – около ста миллионов. Провести точную перепись пока не удается, но последние оценки, основанные на отдельных выборках населения, дают цифру в сто десять миллионов человек. Приблизительно так. Население крупной современной страны. По составу это народ вполне типичный для XX века: происхождение его представителей не менее космополитично, чем у жителей Соединенных Штатов. Смешанным население было всегда, но расти по-настоящему начало в 1914 году. До начала 1920-х его численность достигла двадцати миллионов, а устойчивый рост в течение следующих двадцати лет довел его к началу Второй мировой войны почти до сорока. В начале 1940-х численность населения увеличилась более чем вдвое, причем ежегодный прирост достиг максимума в районе 10–12 миллионов. После 1945 года темпы прироста упали ниже любого предыдущего уровня, зафиксированного с конца 1920-х годов. При этом произошло гигантское увеличение потенциала прироста[3157].
От подсчетов Элиот перешел к рассмотрению средств образования этого безмолвного народа – способов убийства. Он выяснил, что главными орудиями убийства были артиллерия, стрелковое оружие в бою, стрелковое оружие в бойнях, авиационные бомбы; гетто, лагеря, осады, оккупации, переселения, голод, блокады. За всеми этими орудиями и лишениями Элиот нашел явление еще более фундаментальное и еще более пагубное: военную машину, развивающуюся на протяжении десятилетий и постепенно превращающуюся в машину тотальной войны, которой то и дело удается создавать в разных местах разного вида районы тотальной смерти: Верден, Ленинград, Освенцим, Хиросиму.
Самым компактным, действенным, недорогим, неотвратимым механизмом тотальной смерти стало ядерное оружие. Поэтому после 1945 года оно заняло в этой области лидирующее положение. «Тот урок, который мы должны извлечь из всего этого, – замечает И. А. Раби, – и та ужасная вещь, которую мы осознали во время войны, – это… та легкость, с которой можно убивать людей, если заняться этим всерьез. Когда ресурсы современной науки направляют на решение задачи человекоубийства, становится ясно, насколько на самом деле уязвим человек»[3158].
Переход от машины тотальной войны, способной выкраивать там и сям в пейзаже жизни очаги тотальной смерти, к машине тотальной смерти, способной выжечь, взорвать, отравить и заморозить весь мир человечества, и был последней каплей, о которой говорил Оппенгеймер. Элиот уточняет:
Количество жертв рукотворной смерти в XX веке – около ста миллионов… совершенно очевидно сравнимо с масштабами смерти от болезней и эпидемий, считавшимися до этого столетия общепринятой нормой. Действительно, гибель от рук человека в основном заменила эти причины преждевременной смерти. Именно такого рода изменения имел в виду Гегель, когда говорил, что достаточно большое количественное изменение может повлечь за собой изменение качественное. Качественный характер именно этого изменения становится очевиден, если связать имеющееся на сегодня суммарное число смертей с масштабами смерти, заключенной в оружии, которым обладают сейчас крупнейшие державы. Стратеги ядерной войны говорят о сотнях миллионов смертей, уничтожении целых народов и даже всего рода человеческого[3159].
Для появления народа мертвых менее эффективным механизмам понадобилось две трети столетия; ядерная машина смерти может решить эту задачу за полчаса. Ядерная машина смерти обрела возможность создавать не просто города мертвых или страны мертвых, но целый мир мертвых. Еще до появления подробных исследований потенциально всемирной катастрофы, которую называют ядерной зимой, Всемирная организация здравоохранения оценила – в 1982 году, – что крупная ядерная война убьет половину населения Земли, два миллиарда человек. Следовательно, заключает Элиот:
Неизбежны этические выводы. Если этика касается отношений между индивидуумами или между индивидуумом и обществом, то не может быть этической проблемы более фундаментальной, чем продолжение существования индивидуумов и обществ. Масштаб рукотворной смерти стал главным фактором нашего времени – не только материальным, но и моральным[3160].
Это определяет, о чем мы говорим – о современном феномене тотальной смерти, не о капитализме и коммунизме или демократии и полицейском государстве, – но не объясняет, как именно мы оказались на краю столь абсолютной пропасти. Элиот намекает на ответ на этот вопрос, говоря о Первой мировой войне. «Больше всего на общем фоне выделяется одно обстоятельство, – замечает он, – что никогда, ни до, ни во время, ни после войны, в обществе не было живой, органической структуры [например, церкви, политической партии, традиции, свода законов] достаточно сильной, чтобы противостоять этому новому творению людей и машин – [организованной] смерти»[3161].
Война – установление древнее. То, что она традиционно подвергает максимальной опасности биологически избыточную и обладающую сравнительно малой властью подгруппу населения – молодых мужчин, – заставляет предположить, что в некоторых обстоятельствах традиционных межсоциальных конфликтов она дает преимущество в воспроизводстве. Никогда не были редкостью и массовые бойни. Ветхий Завет то и дело прославляет ту или иную резню. В истории империй их тоже полным-полно.
Мировая война отличается от таких, более ограниченных конфликтов предыдущих эпох не только масштабами, но и основами организации. Тотальная смерть выделяется на фоне прочих массовых боен своей линейностью по времени, характерной для промышленного конвейера. Оба типа насилия порождаются отчетливо современным процессом: паразитированием национального государства на прикладной науке и промышленных технологиях, которые оно использует для самозащиты и осуществления своих устремлений.
Хотя национальное государство господствует сейчас во всем мире, оно не может похвастаться давней историей легитимности. Оно возникло в XVIII и XIX веках, присущий ему национализм – это «доктрина, изобретенная в Европе», которая «якобы дает критерий определения группы населения, имеющей право завести свое собственное государство… Коротко говоря, эта доктрина утверждает, что человечество естественным образом подразделяется на нации, что нации различаются по определенным характеристикам, которые могут быть установлены, и что единственный законный вид правления – это национальное самоуправление», пишет политолог Эли Кедури.
Не последняя заслуга этого учения состоит в том, что такие утверждения стали общепринятыми и начали восприниматься как самоочевидные, а самому слову «нация» национализм придал важность и распространенность, к которым до конца XVIII века оно не могло даже приблизиться. Эти идеи вскоре прочно утвердились в политической риторике Запада, распространившейся затем по всему миру. Однако то, что кажется теперь естественным, было когда-то непривычным и требовало обоснования, убеждения, разного рода доказательств. То, что представляется простым и прозрачным, оказывается на деле запутанным и мудреным, следствием забытых теперь обстоятельств и забот, ставших чисто теоретическими, остатками порой несовместимых и даже противоречащих друг другу метафизических систем[3162].
Национализм радикально отличался от иерархической феодальной организации, предшествовавшей ему на Западе. Он предложил каждому члену общества, подпадающему под его определение, эмоционально окрашенное ощущение надежного слияния с благосклонно расположенной к нему массой ему подобных. Главной основой государственного устройства стали теперь не короли и аристократы, а народ: L’tat c’est moi et moi et moi[3163]. Таково было расширение политической свободы, которое обеспечило его изобретение. Но в дополнение к этому, отмечает экономист Барбара Уорд, «[другим] его неотъемлемым свойством является исключение других людей… Оно способно отрешить от всякой общности братства и доброй воли даже тех, кто волею случая живет на противоположном берегу реки»[3164].
Государственная власть, когда национализм ее обрел, – увеличив эту власть в процессе приобретения, – усилила это врожденное напряжение. Население целых стран оказалось вовлечено, политически и эмоционально, в борьбу за свои национальные идеи. Но иностранцы стали более очевидно чуждыми; инакость иного стала более несомненной; и между национальными государствами, столь радикально разделенными – разделенными, по их мнению, самой природой, – возникли провалы угрожающей анархии. Наводить мосты через эти провалы оказалось делом трудным, даже в самых благоприятных обстоятельствах, а никаких иерархических структур, которые могли бы стать посредниками в этом процессе – таким посредником была когда-то христианская церковь, – не осталось.
Промышленные технологии и прикладная наука неизмеримо увеличили силу национальных государств, и, когда дым рассеялся, постепенно стали видны города мертвых, а затем и целый народ мертвых. «Когда человек теряет всякую связь с реальностью, – отмечает Барбара Уорд, – не остается, по-видимому, никаких пределов ужасам ненависти, страсти и ярости, которые он может извлечь из глубин своей психологии, ужасов, для ограничения которых мы обычно используем все наши общественные институты. Выпущенный на волю национализм, напротив, снимает все эти ограничения»[3165].
Из чего можно заключить, если вернуться к идее Элиота, что никакая живая, органическая структура не может иметь достаточной силы для сопротивления новой организации смерти, поскольку последняя охватывает весь народ: организация смерти и есть само национальное государство. Отсюда следует, что, как только появляется механизм, позволяющий атаковать гражданское население, гражданское население становится предметом атаки. Враг есть вражеский народ, то есть всего лишь граждане вражеской страны, взятые вместе, и каждый из этих граждан, будь он в военной форме или в гражданском, какого угодно возраста и пола, является индивидуальным врагом.
Но национальное государство было не единственной новой политической системой, изобретенной в начале Нового времени. В течение двух столетий эволюции национального государства параллельно с ним развивалась республика науки. Базирующаяся на открытости, обладающая международным охватом, наука выжила среди национальных государств благодаря тому, что ограничивала свой суверенитет той частью мироздания, которая почти не интересовала другую, более крупную систему, – наблюдаемыми природными явлениями. В этой ограниченной области она добилась поразительных успехов: она освещала тьму, излечивала больных и кормила голодные массы. Пока наконец с высвобождением ядерной энергии ее успех не привел ее к прямому столкновению с той политической системой, внутри которой она действовала. В 1945 году наука стала первой живой, органической структурой, достаточно сильной, чтобы бросить вызов самому национальному государству.
Конфликт между наукой и национальным государством, продолжающийся и расширяющийся с 1945 года, отличается от политических конфликтов традиционных видов. Бор встречался с государственными деятелями своего времени, чтобы объяснить им это, но предпочитал говорить скорее дипломатично, нежели прямо. Он объяснял, что с появлением ядерного оружия мир придет к совершенно новой ситуации, которую нельзя будет разрешить при помощи войны. Разрешить эту ситуацию можно будет, только если государственные деятели соберутся и станут договариваться об обеспечении обоюдной безопасности. А если они это сделают, то неизбежным итогом таких переговоров, учитывая понятную подозрительность каждой из сторон, может быть только открытый мир. Уинстону Черчиллю и, по-видимому, Франклину Рузвельту сценарий Бора казался до опасного наивным. Выступая в роли посланника республики науки, Бор, безусловно, предупреждал об опасности, но наивным он не был никогда. Он предостерегал государственных мужей, что наука даст им в руки власть над природной силой, которая разрушит их политическую систему. Учитывая ту бойню, которую эта политическая система устроила в XX веке, не добавлял он из вежливости, механизму ее ликвидации давно пора было появиться.
Бомба, которую наука нашла спрятанной в природе и воплотила в реальность, парадоксальным образом уничтожает национальное государство, делая его беззащитным. Никакая защита от такого компактного, дешевого и опутошительного оружия не может быть достаточно надежной. Самые прочные щиты, от истребительной авиации до программы «Звездных войн», можно пробить, просто увеличив количество единиц оружия, ложных целей и систем доставки. Надежную защиту от бомбы могут дать только политические средства – переговоры о создании открытого мира, в котором безопасность усилится благодаря ослаблению национальных суверенитетов и связанного с ними насилия.
Отказ от таких переговоров вел к временной монополии, за которой должна была последовать гонка вооружений. Эта дорога в никуда казалась настолько более привычной, чем открытый мир Бора – который даже Оппенгеймер путал иногда с мировым правительством, – что народы предпочли пойти именно по ней. Пусть бомба была стеной, но до того, как эта стена была испытана на прочность все новыми и новыми кризисами, все новыми и новыми системами вооружений, кто мог поручиться, что какой-нибудь умный человек – или грозный враг – не найдет способа подкопаться под нее или обойти ее с фланга? Кроме того, ядерное оружие могло быть предприятием, приносить прибыль, обеспечивать постоянной работой. Оно могло обеспечить безопасность национальной крепости. Оно могло позволить стране не посылать своих любимых сынов на войну. Что еще важнее, оно могло предотвратить начало большой войны и заморозить существующее политическое положение, позволить сохранить его навсегда. Оно позволяло национальному государству стать вечным и навечно сохранить свой суверенитет.
Долгое время казалось, что так дело и обстоит. Многим и до сих пор так кажется. Но гонка вооружений оказалась не гарантией суверенитета, а его доведением до абсурда. Хотя сверхдержавы ощетинились оружием Судного дня, сегодня они сталкиваются друг с другом в абсолютно уязвимом состоянии, продолжение их существования полностью зависит от разумных обоюдных ограничений, а их суверенитет настолько ограничен, что свои военные амбиции они могут осуществлять только в стычках в странах третьего мира, в которых редко кто одерживает однозначную победу. Бомба, последнее слово в вопросе накопления силы, – доказательство того, что правильно организованная материя может быть полностью превращена в силу, – довела национальный суверенитет до предела и исчерпала его.
Бор, наверное, подчеркнул бы, что оба этих курса – как переговоры, так и гонка вооружений, – в конце концов неизбежно приводят к ликвидации национального государства. Переговоры о создании открытого мира должны будут заменить национальное государство некой терпимой, мирной международной структурой, признающей реальность бомбы. В альтернативном варианте машина смерти, которую мы устанавливаем в своей среде, попросту уничтожит национальные государства, как наше, так и наших соперников, вместе с большей частью всего человеческого мира. Оружие, которым вооружились сверхдержавы, – эквивалентное в общей сложности более чем миллиону Хиросим, – объединено вместе с системами предупреждения в запутанную систему с положительной обратной связью, способную сработать от малейшего возмущения, – а никакая созданная человеком система никогда не была и никогда не будет гарантирована от ошибок и случайностей. Каждая сторона находится в заложниках у ошибок противоположной стороны. Часы тикают. Случайности происходят. Ядерная война отменит национальное государство так же надежно, как и переговоры, но вместо живого, открытого мира ему на смену придет тогда мир мертвых, мир, совершенно закрытый.
Ядерное противостояние иногда ставят в вину науке. Такое обвинение путает посланника с посланием. Отто Ган и Фриц Штрассман не изобрели деления ядра: они его открыли. Оно существовало всегда и только ждало нас, ждало последней капли. Если бомба кажется вам жестокой, а ученые – виновными в том, что помогли ей появиться на свет, подумайте вот о чем: могло ли что-нибудь менее абсолютное заставить общество, ответственное за развязывание Первой и Второй мировых войн, способное уничтожить силой оружия и бесчеловечных лишений 100 миллионов человек, прекратить войны такого масштаба и больше не возобновлять их? К тому же эскалация вовсе не была неизбежной. Она была результатом осознанных решений, которые сверхдержавы принимали, исходя из своих собственных национальных интересов.
Но если гонка вооружений – не дело рук науки (как бы люди, получившие научное образование и использующие научные открытия, ни помогали ее развитию), то что же составляет вооружение этой республики в ее продолжающейся борьбе с национальным государством?
Каким бы странным это ни казалось на фоне предыдущих конфликтов, высокоэффективным оружием науки является основополагающий научный принцип открытости. Наука борется с исключительностью национального государства – той исключительностью, которая доказала свою способность превратить живой мир в мертвый мир трупов, – готовностью делиться своими открытиями или, говоря словами Оппенгеймера, «давать человечеству в целом максимальные возможности управления миром и существования в нем в соответствии со взглядами и ценностями человека». Эта глубокая вера в то, что открытость способна преобразовать мир, должна вдохновлять даже на краю пропасти. В борьбе с национальным государством наука демонстрирует, что открытый мир может работать без узаконенного насилия. Сейчас эффективность столь глубокой цивилизованности менее очевидна, потому что она по необходимости действует внутри самого национального государства. Но, обернувшись назад и взглянув на полвека, прошедшие с 1945 года, можно увидеть ее силу: она положила конец мировой войне, что само по себе было огромным благом.
Если сейчас из-за гонки вооружений это благо кажется прыжком из огня да в полымя, в ответ наука продолжает ставить национальное государство перед фактами и вероятными вариантами развития событий, которые она открывает в ходе своей повседневной работы. Одним из таких вероятных вариантов является ядерная зима, какой бы суровой она ни была. Другим – разрушение озонового слоя. К ним же относятся вероятность возникновения после ядерной войны широкомасштабных эпидемий и массовый голод, вызванный нарушением каналов транспортировки продовольствия. Возможно, национальные государства уже осознали, что ядерное оружие мешает войне. К сожалению, продолжающаяся гонка вооружений показывает, что они еще не поняли, что националистическая система, основанная на исключительности и международной конфронтации, стала теперь самоубийственной. Каждый новый вклад в познание – каждый новый элемент знания, переданный человечеству, – неизбежно вносит свой вклад в разрушение этого упорного и потенциально убийственного невежества. Несомненно, и дальше будут появляться все новые знания. Маловероятно, чтобы они доказали благодетельность массированного вооружения.
Изменения возможны. Американцам, которые хотят, чтобы Советский Союз изменился первым, как хотел этого Генри Стимсон, следует понять, что добиваться этого можно только мирными методами; имеющиеся в распоряжении Советского Союза средства сдерживания ничуть не менее опасны, чем те, которые есть у Соединенных Штатов. А патриотам, возможно, стоит напомнить, что истоки священной для них демократии находятся вовсе не в государстве национальной безопасности. Будущее, которое предвидела Американская революция, было очень похоже на открытый мир Бора, отчасти потому, что вдохновители этой революции и основатели республики науки исходили из одних и тех же идей Просвещения. Государство национальной безопасности, в которое Соединенные Штаты постепенно превратились после 1945 года, есть, по сути, отрицание американской демократической мечты: оно подозрительно к разнообразию, секретно, воинственно, эксклюзивно, монолитно и склонно к паранойе. «Национализм подчинил себе и американский тезис, и русский антитезис всеобщей веры, – пишет Барбара Уорд. – Два величайших эксперимента федерализации, основанные на революционной концепции общей судьбы всего человечества, завершились противостоящими друг другу двумя самыми могущественными национальными государствами в истории»[3166]. Однако другим странам удалось умерить свою воинственность и ограничить свои устремления, не потеряв при этом души. Когда-то Швеция была грозой всей Европы. Но она отказалась от своей воинственности; свидетельством этому служит опустевшая крепость в Кунгэльве. Теперь она мирно и достойно существует среди других народов.
Изменения возможны, потому что выбор предельно прост: изменения являются единственной альтернативой тотальной смерти. Уже установились, причем необратимо, условия, в которых человеческий мир может быть либо уничтожен, либо преобразован в некое более товарищеское сообщество. Теперь необходимо начать демонтаж машины смерти. Та энергия, которую богатые и разумные люди тратят на совершенствование смерти, необходимо обратить на совершенствование жизни.
Великое видение дополнительности бомбы, явившееся Бору, может дать надежду на перемены. Самоубийственная разрушительная природа машины смерти – вполне достаточное основание для ее ликвидации. Но, хотя этот путь неизбежно стал теперь более долгим, все еще существует надежда – как существовала она с самого начала, – что достижение согласованного удаления от узаконенного насилия будет равнозначно согласованному приближению к открытому миру. Такой мир ничем не угрожает демократии.
На самом деле это движение уже происходит, отчасти по необходимости, отчасти по незнанию. Оно началось, когда Соединенные Штаты и Великобритания решили тайно разработать ядерное оружие и неожиданно предъявить его миру, надеясь таким образом ускорить начало гонки вооружений с Советским Союзом, в конце концов приведшую к тупиковому противостоянию. Оно продолжилось, когда в течение краткого периода американской монополии Соединенные Штаты воздержались от превентивной войны; когда системы доставки сделали оборону невозможной и тем еще более подорвали национальный суверенитет; когда страны не стали препятствовать пролету самолетов, а затем и разведывательных спутников над своей, некогда священной и неприкосновенной, территорией. Оно все глубже внедряется в обычаи и традиции каждый раз, когда конфронтация приводит к благоразумным уступкам или разрешению при посредстве публичных или секретных договоренностей. Оно развивается по мере того, как простые граждане всех стран постепенно осознают, что в ядерном мире их руководители, каких бы почтения и власти они ни требовали, не могут защитить даже самой жизни своих граждан, то есть выполнить то минимальное требование, которое общество, в конечном счете являющееся единственным источником политической власти, выдвигает в обмен на предоставление им этой власти.
Возможно, было бы полезно рассматривать ядерное оружие как более опасное эпидемическое заболевание, считать рукотворную смерть явлением, равным более древним видам смерти биологической, которые люди всех стран, работая в мирном согласии, сумели до той или иной степени победить. Элиот делает из этого сравнения конструктивные выводы:
Наше общество стремится к сохранению и улучшению жизни… Смерть впервые стала предметом общественного беспокойства в XIX веке, когда кое-кто из работников здравоохранения решил, что преждевременная смерть – это в конечном счете вопрос, который должен решаться между человеком и обществом, а не между человеком и Богом. Младенческая смертность и эпидемические заболевания стали заботой общества. После этого – и по этой причине – были спасены миллионы жизней. Их спасли не случайности и не благие намерения. Повседневную защиту жизни человека от сил природы обеспечивают общепринятые гигиенические и медицинские практики, контроль условий жизни и регулирование человеческих взаимоотношений. Статистику смертности постоянно изучают, чтобы определить, относятся ли причины смерти к каким-либо областям, требующим особого внимания. Благодаря успеху этих практик место общественно обусловленной смерти в наиболее передовых обществах заняла смерть рукотворная – если когда-то она была незначительной или «дополнительной» частью спектра, то теперь она заполняет его почти целиком.
Когда политики говорят торжественно и изумленно, что наш век есть век огромных усилий по спасению человеческой жизни и в то же время чрезвычайно энергичного стремления к ее уничтожению, они, кажется, полагают, что вскрывают некий загадочный парадокс человеческого духа. В этом нет ни парадокса, ни загадки. Разница в том, что одно место общественно обусловленной смерти силы разума уже завоевали и покорили, а другое – нет. Основоположники общественного здравоохранения не изменили ни природы, ни человека; они лишь таким образом отрегулировали взаимоотношения человека с природой в определенной сфере, что те превратились в отношения осторожного и здорового уважения. При этом им приходилось учитывать и преодолевать недоверчивое противодействие тех, кто считал, что вмешательство в природный порядок вещей греховно, и даже верил, что болезни и эпидемии являются следствием некой греховности самой природы человека[3167].
Основоположники общественного здравоохранения, стремившиеся обезопасить машину биологической смерти силами разума, вначале, наверное, приходили в отчаяние при мысли о гигантских масштабах предстоящей им работы – так же, как сегодня многие рассудительные граждане приходят в отчаяние от мысли о гигантских масштабах работы, необходимой, чтобы обезопасить таким же образом машину смерти рукотворной. Но они не опускали рук и одержали победу.
В борьбе с машиной биологической смерти мы уже договорились о создании открытого мира по Бору и установили его. Никто уже не считает болезни вопросом политическим, и только самые темные из современных людей видят в них Божью кару. В 1960-х и 1970-х годах, когда Всемирная организация здравоохранения работала над искоренением оспы, – а инициатором этой программы был Советский Союз, – и Советский Союз, и Соединенные Штаты разделили расходы на эту кампанию со странами третьего мира. Никто не обвинял Советы в экспансионизме или Америку в империализме. Медицинским сотрудникам ВОЗ, приехавшим из самых разных стран, обычно оказывали самый теплый прием; продемонстрировав действенность своих методов и доказав скептикам, что ограничение и искоренение столь распространенного заболевания действительно возможно, они получали чрезвычайно энергичную поддержку местного населения. «Искоренение оспы станет важной вехой в истории медицины, – писал на последнем этапе этой кампании ее руководитель, американский врач Дональд Э. Хендерсон. – Оно продемонстрирует, чего можно добиться, когда государства всего мира объединяются с международной организацией ради достижения общей цели»[3168]. Так и получилось: самое убийственное и страшное эпидемическое заболевание в истории человечества исчезло; человечество одержало великую победу.
Рукотворную смерть, очевидно, искоренить труднее, чем смерть биологическую. Пока неясно, удастся ли безоружной республике науки, стремящейся не к накоплению силы, а к благу человечества, заставить вооруженные до зубов национальные государства измениться, прежде чем они уничтожат друг друга. Тот факт, что после 1945 года мы так и не были ввергнуты в новую мировую войну, служит нам временной гарантией того, что открытие мира действительно началось, хотя несчастная случайность или ошибка в расчетах в любой момент могут закрыть его навечно. Продолжающееся умножение ядерных вооружений и стремление сверхдержав обогнать друг друга в гонке за недостижимым мировым господством, пусть даже ценой истощения собственной экономики, говорят о том, с каким иррациональным упорством мы цепляемся за традиционные формы власти.
Весной 1957 года бывший председатель КАЭ Гордон Дин попросил Роберта Оппенгеймера дать отзыв на готовившуюся в выходу книгу Генри Киссинджера «Ядерное оружие и внешняя политика»[3169]. Оппенгеймер написал в ответ:
Разумеется, Киссинджер прав в том, что рассматривает вопросы политического планирования и стратегии с точки зрения национальных держав, в приблизительной аналогии с национальными конфликтами XIX века. Однако у меня создается впечатление, что в мире действуют глубинные факторы, которые со временем вмешаются во все противостояния, осмысленные таким образом. Это случится не сегодня и вполне может не случиться, пока советская держава остается мощной и неизменной; тем не менее я думаю, что со временем транснациональные сообщества нашей культуры начнут играть заметную роль в политическом устройстве мира и даже влиять на осуществление власти государств[3170].
Ведущим транснациональным сообществом нашей культуры является наука. Добившись в первой половине XX века высвобождения ядерной энергии, это образцовое содружество бросило серьезный выбор власти национальных государств. Противостояние между ними продолжается и неразрывно связано со смертельной опасностью, но оно дает по меньшей мере отдаленную надежду на благополучный исход.
Новая земля, которая все еще продолжает раскрываться перед нами, – это открытый мир Бора.
Канзас-Сити, штат Миссури1981–1986
Выражение благодарности
Следующие участники и участницы событий, описанных в этой книге, щедро уделили мне свое время для интервью и переписки: Филипп Абельсон, Луис У. Альварес, Дэвид Л. Андерсон, Уильям А. Арнольд, Роза Бете, Ханс Бете, Юджин Т. Бут, Юджин Вигнер, Сигетоси Ивамацу, Сакаэ Ито, Герберт Йорк, Джордж Кистяковский, Леон Лав, Уиллис Ю. Лэмб – младший, Альфред О. К. Нир, И. А. Раби, Стефан Розенталь, Эмилио Сегре, Гленн Сиборг, Эдвард Теллер и Станислав Улам.
Майкл Корда рискнул предоставить этой работе финансовую поддержку. Дэвид Хальберстам, Джеффри Уорд и Эдвард О. Уилсон поручились за меня перед Фондом Форда. Артур Л. Сингер – младший пришел на помощь в самый критический момент. Кафедра повышения квалификации им. Коукфера Университета штата Миссури в Канзас-Сити и ее директор Майкл Мардикес поддержали меня. Луи Браун предоставил консультации по физике и мудрые советы в масштабах, далеко превосходивших его обязанности, и не несет никакой ответственности за недостатки этой книги в том или другом отношении. Эгон Вайс приложил огромные усилия, чтобы обеспечить мне доступ к архиву Сциларда. Научная библиотека им. Линды Холл и ее бывший директор Ларри К. Безант, а также библиотека УМКС и ее бывший директор Кеннет Лабудде никогда не подводили меня.
Я ездил или писал во многие организации; их сотрудники помогали мне с неизменной любезностью и знанием дела: это Академическая библиотека ВС США; Аргоннская национальная лаборатория; Библиотека им. Нильса Бора Американского института физики; Библиотека конгресса США; Библиотека Чикагского университета; Историческая библиотека и архив Общества Макса Планка в Далеме; Институт Нильса Бора в Копенгагене; Калифорнийский университет в Сан-Диего; Колумбийский университет; Комитет памяти Дж. Роберта Оппенгеймера; Культурный фонд мира в Хиросиме; Лос-Аламосская национальная лаборатория; Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли; Музей ВВС США; Национальные архивы США; Отдел земного магнетизма Института Карнеги в Вашингтоне; авиабаза Райт-Паттерсон; японская редакция журнала Readers Digest.
Меня поддерживали своими исследованиями, советами, словами ободрения и помощью друзья и коллеги: Милисент Абелл, Ханс и Элизабет Арченхолд, Дэн Бака, Дэвид Батлер, Рой и Сандра Битти, Эдвард Воловиц, Джоан Ворноу, Джим и Рейко Исикава, Майк Йосида, Сигурд Йоханссон, Тадао Каидзука, Эдвард Квотлбаум, Эдда и Райнер Кёниг, Маргарет Конингем, Барбро Лукас, Томас Лайонс, Карен Маккарти, Дональд и Бритта Макнемар, Ясуо Миядзаки, Хироюки Накагава, Кимико Накаи, Рольф Нейхаус, Иссеи Нисимори, Фредрик Норденхем, Джон Обри, Патриция О’Коннелл, Джина Пейтон, Зигфрид Раскин, П. Уэйн Рейган, Эдвард Риз, Билл Джек Роджерс, Кэтрин Роудс, Тимоти Роудс, Роберт Дж. Сакс, Ко Сиойя, Р. Джеффри Смит, Роберт Стюарт, Силва Сэндоу, Линда Талбот, Шерон Гиббс Тибодо, Джозайя Томпсон, Эрма Валенти, Спенсер Уирт, Пол Уильямс, Питер Фрэнсис, Кимбелл Хиггс, Джек Холл, Улла Хольм, Джоан и Фрэнк Худ, Коста Ципсис, Сабине Шаффнер, Льюис Дж. Штраус, Сюзи Эванс, Гил Элиот, Джон Элс.
Луис Альварес и Эмилио Сегре любезно согласились прочитать гранки и внесли бесценные предложения.
Мэри помогла мне довести эту работу до конца.
Автор благодарен за предоставленную возможность воспроизведения отрывков из следующих работ:
Reminiscences of Los Alamos, 1943–1945 by Lawrence Badash, et al., copyright © 1980 by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland.
Energy and Conflict by Stanley A. Blumberg and Gwinn Owens, copyright © 1976. Опубликовано G. P. Putnam’s Sons, воспроизводится с разрешения Ann Elmo Agency.
Rutherford by A. S. Eve, copyright 1939. Воспроизводится с разрешения Cambridge University Press.
Atoms in the Family by Laura Fermi, copyright © 1954. Воспроизводится с разрешения University of Chicago Press.
What Little I Remember by Otto Frisch, copyright © 1979. Воспроизводится с разрешения Cambridge University Press.