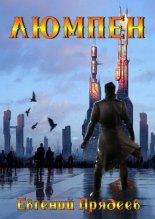Создание атомной бомбы Роудс Ричард
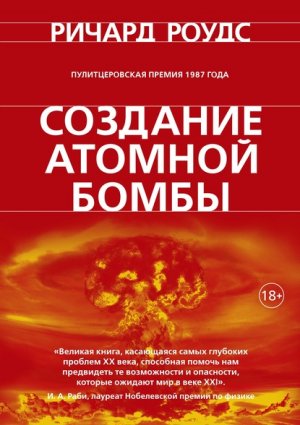
Молодой социолог:
Все, что я видел, производило глубокое впечатление – соседний парк, покрытый трупами, которые сложили там в ожидании кремации… очень тяжело израненные люди, которых эвакуировали в моем направлении… Самое сильное впечатление из всего виденного произвели на меня девушки, совсем молодые девушки, с которых не только была сорвана вся одежда, но и содрана кожа… Первая мысль, которая пришла мне в голову, – что это похоже на ад, о котором я всегда читал[2909].
Пятилетний мальчик:
В тот день, когда мы спаслись и подошли к мосту Хидзияма, там было множество голых людей, так сильно обожженных, что вся кожа на их теле свисала с них, как лохмотья[2910].
Ученица четвертого класса:
По улице идут люди, покрытые кровью, а за ними тянутся лохмотья их разорванной одежды. Кожа, содранная с их рук, висит на кончиках их пальцев, и они бредут молча, держа руки на весу перед собой[2911].
Пятилетняя девочка:
С соседних улиц бежали люди. Почти всех их было невозможно узнать. У некоторых из них выгорела кожа; она висела у них на руках и на подбородках; их лица покраснели и так распухли, что почти нельзя было понять, где у них глаза и рты. От домов по всему небу поднимался дым, такой черный, что он обжигал небеса. Это было ужасное зрелище[2912].
Один пятиклассник составлял список увиденного:
Пламя, вырывающееся там и тут из разрушенных домов, как будто чтобы осветить темноту. Ребенок, кричащий и стонущий от боли; он бредет среди пожаров с дергающимся лицом, распухшим, как воздушный шар. Старик, с лица и рук которого кожа свисает, как картофельная кожура, бежит, спотыкаясь и бормоча молитвы. Другой мужчина, зажимающий обеими руками рану, из которой размеренно капает кровь, носится вокруг как безумный, выкрикивая имена своей жены и ребенка, – даже от воспоминаний об этом мне кажется, что мои волосы встают дыбом. Так выглядит на самом деле война[2913].
Но кожа, содранная вспышкой света и порывом воздуха, была всего лишь новшеством среди несчастий этого дня; она так запомнилась выжившим, потому что была чем-то необычным. Гораздо более распространенными были бессистемный, неизбирательный, всеобъемлющий ужас и кошмарная боль, буйство физического действия гидравлики, механических сил и теплоты. Студентка техникума:
Кричащие дети, потерявшие из виду своих матерей; голоса матерей, ищущих своих малышей; люди, не способные более выносить жар и охлаждающие свои тела в цистернах; бегущие люди, все сплошь красные от крови[2914].
Тепловая вспышка и взрывная волна зажгли пожары, и очень скоро возник огненный вихрь. Те, кто был способен передвигаться, убегали от него, а те, у кого были переломы, и те, кто оказался придавлен развалинами своих домов, не могли. Два месяца спустя группа Либова установила, что доля людей с переломами среди выживших в Хиросиме составляла менее 4,5 %. «Дело не в том, что травм было мало, – отмечает американский врач, – а в том, что почти никто из утративших способность передвигаться не спасся от огня»[2915]. Пятилетняя девочка:
Весь город… горел. В небо поднимались черные клубы дыма, и были слышны какие-то взрывы… Эти страшные улицы. Горели пожары. Повсюду стоял какой-то странный запах. В воздухе парили сине-зеленые огненные шары. У меня было ощущение ужасного одиночества, что все остальные люди в мире умерли и только мы еще оставались в живых[2916].
Другая девочка того же возраста:
Я действительно вздрагиваю каждый раз, когда думаю о той атомной бомбе, которая за одну или две минуты 6 августа 1945 года стерла с лица земли город Хиросиму…
Мы бежали, спасаясь от смерти. По пути мы увидели плавающий в реке труп солдата с раздувшимся животом. Видимо, он в отчаянии прыгнул в реку, чтобы спастись от моря огня. Чуть дальше лежал длинный ряд мертвых людей. Еще чуть дальше лежала женщина: на ее ноги упало большое бревно, и она не могла выбраться.
Увидев это, отец крикнул: «Помогите, пожалуйста!»
Но никто не пришел ему на помощь. Все были слишком заняты собственным спасением.
В конце концов отец потерял терпение и, крича «Японцы вы или нет?», схватил ржавую пилу и отрезал ей ногу – и спас ее.
Немного дальше к западу мы видели идущего человека, который обгорел до черноты[2917].
Первоклассница, мать которой придавило обломками дома:
Я решила, что не буду спасаться без мамы. Но пламя распространялось все дальше, на мне уже загорелась одежда, и я не могла больше терпеть. Я закричала «Мама, мама!» и бросилась бежать прямо через огонь. Сколько бы я ни бежала, вокруг было только сплошное море огня и никакого выхода. Совершенно ничего не соображая, я прыгнула в [противопожарный] бак с водой. Поскольку повсюду падали искры, я закрыла голову куском жести, чтобы на нее не попал огонь. Вода в баке была горячая, как в ванне. Рядом со мной было еще человека четыре или пять, и все они звали кого-нибудь. Пока я была в этом баке, все стало казаться сном, и в какой-то момент я потеряла сознание… Пять дней спустя [я узнала], что мама умерла в тот самый момент, когда я ее оставила[2918].
То же произошло с женщиной, в то время тринадцатилетней, которую все еще преследовало чувство вины, когда Лифтон брал у нее интервью, два десятилетия спустя:
Я оставила маму там и убежала… Потом сосед сказал мне, что маму нашли мертвой, лицом в баке с водой… очень близко к тому месту, где я ее оставила… Если бы я была чуть старше или сильнее, я могла бы ее спасти… Я до сих пор слышу, как мама зовет меня на помощь[2919].
«Под развалинами домов, встречавшихся на пути, – рассказывает священник-иезуит, – оказалось в ловушке множество людей, и они кричали, прося спасти их от надвигающегося огня»[2920].
«Я был абсолютно поражен», – вспоминает разрушения мальчик, учившийся в третьем классе:
Я думал, что обрушился только мой дом, но оказалось, что все дома в районе были полностью или частично разрушены. Небо было такое, как бывает в сумерках. На электрических проводах застряли клочки бумаги и ткани… На этой улице толпа бежала на запад. Там было много людей со сгоревшими волосами, в разорванной одежде, с ожогами и увечьями… По пути дорога до отказа заполнилась жертвами; у некоторых были огромные раны, некоторые обгорели, у некоторых не было сил двигаться дальше… Пока мы шли вдоль набережной, начался дождь, холодный и темный от грязи. Вокруг домов я видел автомобили и футбольные мячи, всякое домашнее имущество, которое выбросило наружу, но никто не останавливался, чтобы подобрать хоть что-нибудь[2921].
Но и на фоне этих ужасов взгляд выживших упорно выхватывал самое необычное. Тридцатипятилетний мужчина:
По району Синсё-мати под сильным черным дождем бродила женщина без нижней челюсти; ее язык свисал изо рта. Она направлялась на север, взывая о помощи[2922].
Четырехлетний мальчик:
Было много людей, сгоревших до смерти, и среди них были такие, кто превратился в золу, стоя на ногах[2923].
Шестиклассник:
Рядом стоял полицейский, как будто охраняя этих людей. Он был весь покрыт ожогами и совершенно гол, не считая каких-то обрывков брюк[2924].
Семнадцатилетняя девушка:
Я шла мимо хиросимского вокзала… и видела людей, у которых вываливались наружу внутренности и мозги… Я видела старуху, которая несла в руках грудного ребенка… Я видела много детей… с мертвыми матерями… Не могу выразить словами тот ужас, который я ощущала[2925].
На мосту Айои:
Я шел среди мертвецов… Это было похоже на ад. Меня поразил вид лошади, горевшей заживо[2926].
Школьница видела «человека без ступней, который шел, опираясь на лодыжки»[2927]. Одна женщина вспоминает:
Меня позвал по имени человек, глаза которого вывалились сантиметров на пять, и мне стало дурно. Тела людей чудовищно распухли – трудно себе представить, до каких размеров может раздуться человеческое тело[2928].
Бизнесмен, у которого погиб сын:
Перед Первой средней школой было… множество мальчиков возраста моего сына… и больше всего меня тронул один мертвый мальчик, лежавший там, и другой, который, казалось, пытался переползти через него и убежать, и оба они обгорели до черноты[2929].
Тридцатилетняя женщина:
Человек, лежавший на спине прямо на дороге, погиб мгновенно… Его рука была поднята к небу, и пальцы горели синим огнем. От пальцев осталось около трети, и они были искривлены. По руке стекала на землю темная жидкость[2930].
Третьеклассница:
Еще был человек, у которого в глазу застряла большая деревянная щепка – я думаю, он, наверное, ничего не видел, – и он слепо бегал вокруг[2931].
Девятнадцатилетняя девушка из Удзины:
В первый раз я видела груду сгоревших тел в баке с водой у входа на радиостанцию. Потом меня внезапно напугало ужасное зрелище на улице, метрах в 40 или 50 от сада Сюккэйэн. Там был обугленный труп женщины, застывшей в позе бега, с одной поднятой ногой; в руках она крепко сжимала младенца. Кто она была такая?[2932]
Первоклассница:
Трамвай полностью сгорел, от него остался один каркас, а все бывшие в нем пассажиры превратились в пепел. Когда я это увидела, я вся задрожала и начала трястись[2933].
«Чем больше слышишь таких историй, тем печальнее они становятся»[2934], – пишет девочка, которой в Хиросиме было пять лет. «Если только в моей семье это оставило столько горя, – рассуждает мальчик, которому также было пять, – представляю себе, сколько горя осталось и у других людей»[2935].
Был взгляд и с другой стороны. Говорит профессор истории, у которого взял интервью Лифтон:
Я отправился искать своих родных. Каким-то образом я стал безжалостным, потому что, если бы у меня была жалость, я не смог бы пройти по городу, переступая через все эти трупы. Самое сильное впечатление производило выражение глаз – ужасно израненные, почерневшие тела искали глазами кого-нибудь, кто придет им на помощь. Они смотрели на меня и видели, что я сильнее их… Я видел в их глазах разочарование. Они смотрели на меня с большой надеждой, видели меня насквозь. Было очень трудно ощущать на себе взгляд этих глаз[2936].
Колоссальная боль, страдания и ужасы были всюду, куда бы ни взглянули выжившие. Пятиклассник:
Мы с мамой выползли из-под дома. Там мы обнаружили мир, какого я никогда не видел, мир, о каком я никогда не слышал. Я видел человеческие тела в таком состоянии, что было непонятно, люди ли это вообще… На дороге уже была груда тел, и люди корчились в смертельной агонии[2937].
Ученица техникума:
У основания моста, в выкопанном там большом резервуаре была мать, которая рыдала, держа над головой обнаженного младенца: все его тело обгорело до ярко-красного цвета. Еще одна мать кричала и плакала, давая младенцу свою обожженную грудь. Ученики стояли в резервуаре, и над водой были только их головы и руки, которые они заламывали, крича и плача, зовя своих родителей. Но все проходившие мимо были изранены, все до единого, и никто не останавливался им помочь[2938].
Шестилетний мальчик:
У моста было множество мертвых. Там были те, кто умер, обгорев дочерна, и другие мертвые, с огромными ожогами и полопавшейся кожей, и те, кто умер, потому что они были все истыканы осколками стекла. Были всякие. Иногда кто-нибудь подходил к нам и просил попить воды. Из их лиц и ртов шла кровь, и в их телах торчали куски стекла. А сам мост яростно горел… Эти виды и сцены были как будто из ада[2939].
Две первоклассницы:
Мы вышли к мосту Миюки. Обе стороны улицы были заполнены обгоревшими и раненными людьми. А когда мы посмотрели назад, там было море ярко-красного пламени[2940].
Огонь стремительно распространялся из одного места в другое, и небо было черно от дыма…
[Пункт первой помощи] был забит людьми с ужасными ранами; у некоторых из них все тело было одним сплошным ожогом… Пламя распространялось во всех направлениях, и в конце концов весь город превратился в единое огненное море, и над нашими головами стали летать искры[2941].
Пятиклассник:
Мне казалось, что все люди на свете погибли и в сверхъестественном мире мертвых остались только мы пятеро [т. е. его семья]… Я видел, как несколько человек опустили головы в полуразбитый бак и пили оттуда воду… Когда я подошел так близко, что смог заглянуть внутрь, я воскликнул «Ой!» и рефлекторно отшатнулся. Внутри бака я увидел лица чудовищ, отражавшиеся в покрасневшей от крови воде. Они прижались к стенке бака и опустили головы в воду, чтобы попить, и в этом положении они и умерли. По их обгоревшим и разодранным форменным блузкам я понял, что это были девочки-старшеклассницы, но на их головах не осталось ни одного волоса; разорванная кожа на их обгоревших лицах была в ярко-красных пятнах крови. Мне почти не верилось, что это были человеческие лица[2942].
Один врач рассказал Хатии о своем ужасе:
Между [сильно поврежденной] больницей Красного Креста и центром города я не видел ничего, что не сгорело бы дотла. На станциях Кавая-тё и Камия-тё стояли трамваи, внутри которых были десятки тел, почерневших до неузнаваемости. Я видел пожарные водоемы, наполненные до краев мертвыми людьми: казалось, что они сварились заживо. В одном из водоемов я видел мужчину с ужасными ожогами, сидевшего на корточках рядом с другим, мертвым, человеком. Он пил оттуда загрязненную кровью воду… В одном из водоемов было столько мертвецов, что им было некуда падать. Видимо, они умерли, сидя в воде[2943].
Муж, помогавший своей жене выбраться из города:
Пока я выводил жену, получившую тяжелые ранения, на берег реки у холма Накахиро-мати, я увидел действительно ужаснувшее меня зрелище – совершенно голого человека, который стоял под дождем, держа на ладони свое глазное яблоко. Казалось, что он испытывает ужасную боль, но я ничего не мог для него сделать[2944].
Возможно, этот голый человек был тем же, о котором вспоминал один из более поздних посетителей Хатии; а может быть, и другим.
Обгоревших [в пункте первой помощи] было столько, что там пахло, как от сушащихся кальмаров. Они были похожи на вареных осьминогов… Я видел мужчину, у которого вырвало глаз, и он стоял там, держа свой глаз на ладони. Больше всего меня ужаснуло то, что, как мне показалось, этот глаз смотрел на меня[2945].
Люди бежали к рекам, чтобы спастись от огненного смерча; во многих свидетельствах выживших упоминаются реки, и эти рассказы занимают особое место. Третьеклассник:
В реку с криками бросались мужчины, полностью покрытые кровью, и женщины, кожа которых свисала с них, как кимоно. Все они превращались в трупы, и течение несло их тела к морю[2946].
Первоклассница:
К вечеру мы все еще были в реке, и становилось холодно. Куда ни глянь, всюду были одни только обгоревшие люди[2947].
Шестиклассница:
По семи некогда прекрасным рекам плыли раздувшиеся трупы; детские радости маленькой девочки были грубо разбиты; всюду в городе в дельте, превратившейся в выжженную пустыню, стоял характерный запах горелой человеческой плоти[2948].
Молодой инженер-кораблестроитель, который сразу после бомбардировки решил немедленно вернуться домой, в Нагасаки:
Чтобы добраться до вокзала, мне нужно было попасть на другой берег реки. Подойдя к реке и спустившись по берегу к воде, я увидел, что река полна трупов. Я пополз на четвереньках по трупам, пытаясь добраться до противоположного берега. Где-то на трети пути одно из тел стало тонуть под моим весом, и я оказался в воде, которая намочила мою обожженную кожу. Это причинило мне сильнейшую боль. Дальше ползти я не мог, так как в мосте из трупов был разрыв, и я повернул обратно к берегу[2949].
Третьеклассник:
Мне ужасно хотелось пить, и я спустился к реке. Вниз по течению плыло огромное количество черных, обгоревших трупов. Я оттолкнул их в сторону и попил воды. Повсюду вдоль реки лежали трупы[2950].
Пятиклассник:
Река превратилась из потока воды в поток дрейфующих мертвых тел. Сколько бы я ни преувеличивал истории об обгоревших людях, умиравших с криками боли, и о том, как город Хиросима сгорел до основания, все равно очевидно, что действительность была еще более ужасной[2951].
Ужасным было и то, что один из пациентов Хатии увидел за рекой:
Там был мужчина, мертвый, сидевший на велосипеде, прислоненном к парапету моста… Видно было, сколько людей спустились к реке, чтобы попить, и умерли прямо там, где лежали. Я видел в воде несколько еще живых человек: они сталкивались с трупами, которые плыли вниз по реке. Наверное, сотни и тысячи бежали к реке, спасаясь от огня, а потому утонули.
Но еще ужаснее, чем мертвецы, плывущие по реке, был вид солдат. Не знаю, сколько я их видел, сгоревших от пояса и выше; и там, где с них слезла кожа, было влажное и мягкое мясо…
И у них не было лиц! Их глаза, носы и рты выгорели, и казалось, что уши у них расплавились. Было трудно понять, где у них лицо, а где затылок[2952].
Страдания в переполненном частном парке семьи Асано удвоились, когда спасшиеся там во второй раз столкнулись с угрозой смерти, говорит еще один собеседник Хатии:
Сотни людей укрылись в парке Асано-Сентеи. На некоторое время они были защищены там от приближающегося пламени, но постепенно огонь теснил их все ближе и ближе к реке, и наконец все оказались скучены на крутом берегу над самой рекой…
Хотя у границ парка река имеет в ширину более ста метров, с противоположного берега по воздуху долетали огненные шары, и вскоре в парке загорелись сосны. Несчастным угрожала смерть в огне, если они останутся в парке, и водная могила, если они прыгнут в реку. Я слышал крики и плач, и через несколько минут люди начали падать в реку, как костяшки домино. Сотни и сотни людей прыгали или невольно падали в воду в этом глубоком и опасном месте и по большей части утонули[2953].
«Вдоль трамвайных путей, огибающих западный край парка, – добавляет Хатия, – было столько убитых и раненых, что между ними едва можно было пройти»[2954].
Заход солнца не принес никакого облегчения. Вспоминает четырнадцатилетний мальчик:
Наступила ночь, и я слышал множество голосов, которые кричали, стонали и просили воды. Кто-то крикнул: «Черт возьми! Война мучает столько ни в чем не повинных людей!» Другой говорил: «Мне больно! Дайте воды!» Этот человек так обгорел, что мы не понимали, мужчина это или женщина.
Небо было красным от пламени. Казалось, что горят сами небеса[2955].
Пятиклассница:
Все в убежище громко кричали. Эти голоса… Это даже не были крики, это были стоны, которые проникали до мозга костей, и от них волосы вставали дыбом…
Не знаю, сколько раз я кричала, умоляя, чтобы мне отрезали обгоревшие руки и ноги[2956].
Шестилетний мальчик:
Если представить себе тело брата разделенным на левую и правую половины, то у него сгорела правая сторона и внутренняя часть левой стороны…
Этой ночью тело брата ужасно раздулось. Он выглядел в точности как бронзовый Будда…
Каждый класс [в гимназии Данбара, превращенной в полевой госпиталь]… был полон чудовищно обожженных людей; они лежали или беспокойно вскакивали. Все были намазаны меркурохромом[2957] и белой мазью и были похожи на красных чертей. Они размахивали руками, как привидения, и все время стонали и кричали. Солдаты перевязывали их ожоги[2958].
На следующее утро, вспоминает мальчик, которому было тогда пять лет, «вся Хиросима была пустыней»[2959]. О масштабах разрушений свидетельствует тот же иезуит, возвращавшийся из пригорода, чтобы помочь своим братьям:
Яркий день открывал пугающую картину, которую частично скрывала темнота прошлой ночи. Там, где раньше стоял город, повсюду, насколько хватало глаз, была пустыня из пепла и развалин. Оставались лишь несколько каркасов зданий, совершенно выгоревших изнутри. Берега рек были покрыты мертвыми и ранеными; кое-где поднявшаяся вода скрывала некоторые трупы. Особенно много обнаженных, обгоревших тел было на главной улице района Хакусима. Среди них были еще живые раненые. Несколько человек выползли из-под сгоревших автомобилей и трамваев. Фигуры, покрытые ужасающими ранами, жестами призывали нас к себе и падали на землю[2960].
Хатия подтверждает рассказ священника:
На улицах не было никого, кроме мертвых. Некоторые казались замерзшими насмерть прямо в разгар бегства; другие лежали, растянувшись на земле, как будто какой-то великан убил их, сбросив с огромной высоты[2961].
Не оставалось ничего, за исключением нескольких зданий из железобетона… Целые гектары города были пустынны, не считая разбросанных куч кирпича и кровельной черепицы. Чтобы описать то, что я видел, мне нужно было пересмотреть смысл слова «уничтожение» или найти какое-то другое слово. Возможно, тут лучше подходило слово «опустошение», но на самом деле я не знал слова или слов, способных описать это зрелище[2962].
Профессор истории, с которым разговаривал Лифтон, был в такой же растерянности:
Я поднялся на холм Хикияма и посмотрел вниз. Я увидел, что Хиросима исчезла… Это зрелище меня потрясло… Я не могу объяснить словами, что я почувствовал тогда и чувствую до сих пор. Разумеется, после этого я видел много ужасных сцен, но это впечатление, когда я посмотрел вниз и увидел, что от Хиросимы ничего не осталось, было настолько шокирующим, что я просто не могу выразить, что я ощутил… Хиросимы не существовало – вот что я в основном увидел, Хиросимы попросту не существовало[2963].
Без привычных ориентиров многим было трудно передвигаться по улицам, заваленным обломками. По мнению Йоко Оты, была уничтожена сама история города:
Я дошла до моста и увидела, что Хиросимский замок совершенно сровняли с землей, и в моем сердце как будто поднялась большая волна… Город Хиросима был полностью расположен на равнине, и этот белый замок придавал ему объем; благодаря ему город сохранял классический дух. У Хиросимы была своя история. И когда я подумала об этом, мое сердце сжала скорбь: я перешагивала через трупы истории[2964].
Из 76 000 зданий Хиросимы 70 000 были повреждены или разрушены, из них 48 000 разрушены полностью. «Не будет преувеличением сказать, – отмечается в японском исследовании, – что весь город был мгновенно разрушен»[2965]. Только материальный ущерб был равен годовому доходу более чем 1,1 миллиона человек. «Многие важные учреждения Хиросимы – префектура, мэрия, пожарные депо, полицейские участки, железнодорожные вокзалы, почтовые отделения, телеграфные и телефонные станции, радиостанция и школы – были полностью разрушены или сожжены. Трамвайные линии, дороги, линии электропередачи, газопроводы, водопровод и канализация были выведены из строя. Были разрушены 18 больниц скорой помощи и 32 клиники первой помощи»[2966]. Девять десятых всех медицинских работников города были убиты или искалечены.
Немногие из выживших беспокоились о зданиях; им было важнее разобраться со своими собственными ранами, а также найти и кремировать своих мертвецов, что считается в Японии особенно важной обязанностью. Один мужчина вспоминает, как он увидел окровавленную женщину в разорванных штанах момпей, которые носили во время войны, и обнаженную выше пояса; к ее спине был привязан ребенок, а в руке она несла солдатскую каску:
[Она] искала место, где можно было кремировать мертвого ребенка. Обгоревшее лицо ребенка у нее на спине кишело червями. Я думаю, она собиралась положить его кости в подобранную где-то каску. Я боялся, что ей долго придется искать что-нибудь горючее, чтобы кремировать своего ребенка[2967].
Молодая женщина, руководившая одной из групп противопожарной расчистки, – у нее сильно обгорело одно плечо – вспоминает массовую кремацию:
Мы собрали мертвые тела, сложили большую гору из трупов, полили их горючим и подожгли. И люди, бывшие без сознания, стали приходить в себя внутри этой горящей кучи мертвецов и выскакивали оттуда[2968].
Еще один посетитель Хатии:
Пару дней спустя было сложено столько тел, что никто уже не знал, кто есть кто, и они так сильно разлагались, что запах стоял невыносимый. В эти дни, куда бы ты ни шел, вокруг лежало столько мертвых, что невозможно было пройти, не натолкнувшись на них – распухшие, обесцвеченные тела, из носов и ртов которых сочилась пена[2969].
Первоклассница:
Утром 9-го числа солдаты, занимавшиеся расчисткой, извлекли из развалин очень сильно изменившееся папино тело. Пост гражданской обороны [на котором он работал] был в Ясуде около Киёбаси, перед высокой трубой, которую снесли в прошлом году. Он, наверное, погиб у ее подножия; от его голвы уже остался только белый череп… Мы с мамой и моей младшей сестрой, не раздумывая, вцепились в это мертвое тело и завыли. Потом мама отправилась с ним к крематорию в Мацукаве и увидела там целую гору трупов[2970].
Хатия переместил свою больничную койку на второй этаж, в комнату с выбитыми окнами, простерилизованную огнем; оттуда он мог видеть развалины и слышать их запах:
К вечеру легкий южный ветер, дувший через город, донес до нас запах, похожий на запах подгоревших сардин… В стороне Нигицу был особенно сильный огонь, в котором мертвых сжигали сотнями… Эти светящиеся руины и пылающие погребальные костры навели меня на мысль о Помпеях: возможно, именно так и выглядели последние дни этого города. Но я думаю, что в Помпеях не было столько мертвецов, сколько в Хиросиме[2971].
В течение некоторого времени казалось, что те, кто не умер, идут на поправку. Но потом, объясняет Лифтон, их состояние стало ухудшаться:
Выжившие начали замечать у себя и у других болезнь странного вида. Ее симптомами были тошнота, рвота и потеря аппетита, понос с большим количеством крови в стуле, жар и слабость, фиолетовые пятна на разных участках тела, возникавшие от кровоизлияний в кожу… воспаления и язвы во рту, в горле и на деснах… кровотечения изо рта, десен, прямой кишки и мочевыводящих путей… выпадение волос на голове и других частях тела… чрезвычайно низкий уровень белых кровяных телец при анализе крови… и во многих случаях постепенное усиление этих симптомов вплоть до смерти[2972].
Лишь постепенно немногие выжившие и перегруженные работой японские врачи поняли, что имеют дело с лучевой болезнью. «Синдром атомной бомбы, – объясняется в авторитетном японском исследовании, – является первым и единственным [в истории медицины] примером одномоментного облучения всего тела смертельно большими дозами радиации»[2973]. До этого были отдельные случаи непреднамеренного облучения людей чрезмерными дозами рентгеновских лучей, лабораторных животных облучали и приносили в жертву ради исследований, но никогда раньше большая группа населения не подвергалась столь сильному воздействию смертоносного ионизирующего излучения.
Радиация принесла новые страдания, сообщает в своем дневнике Хатия:
После пика мы думали, что лечение ожогов и травм позволит пострадавшим поправиться. Но теперь было ясно, что это не так. У людей, которые, казалось, уже выздоравливали, появлялись новые симптомы, которые приводили к их смерти. Умерло столько пациентов, причины смерти которых мы не понимали, что все мы были в отчаянии.
За первые несколько дней умерли сотни пациентов; затем уровень смертности снизился. Теперь он снова рос… С течением времени оказалось, что самые устойчивые симптомы пациентов, которые не идут на поправку, – это анорексия [т. е. потеря аппетита] и диарея[2974].
Прямое гамма-излучение от бомбы повредило все ткани организма тех, на кого оно воздействовало[2975]. Для проявления этих разрушений требовалось деление клеток, но радиация временно приостановила его – с этим и была связана задержка в проявлении симптомов. Сильнее всего были повреждены кроветворные ткани, особенно те, которые производят белые кровяные клетки, борющиеся с инфекцией. Крупные дозы излучения также стимулируют производство антикоагулянтов, которые не позволяют крови сворачиваться[2976]. Результатом этих повреждений были обширное отмирание тканей, обширные кровотечения и обширные инфекции. «Во всех наших случаях причиной смерти было кровотечение»[2977], – пишет Хатия, но отмечает при этом, что патологоанатом больницы «при вскрытии в каждом случае обнаруживал изменения во всех органах»[2978]. Лифтон сообщает о «признаках распространения инфекции с обнаружением массы бактерий в… столь удаленных от поверхности [тела] органах, как головной мозг, костный мозг и глаза»[2979]. Оператор крематория в одном из пригородов Хиросимы, тонкий знаток смерти, сказал Лифтону, что «тела были черного цвета… у большинства из них был странный запах, и все думали, что это от бомбы… Запах, который они издавали, когда горели, был связан с тем, что эти тела уже разложились, многие из них задолго до кремации – в некоторых внутренние органы разлагались, пока человек был еще жив». Йоко Ота была в ярости:
Нас снова убивали против нашей воли чем-то, совершенно нам неизвестным… Это мука попадания в мир нового ужаса и страха, мир, еще более неизведанный, чем мир больных раком[2980].
Мальчик из Хиросимы, учившийся тогда в четвертом классе, нашел среди постигших его утрат слова, выражающие невыразимое:
Мама была полностью прикована к постели. У нее на голове выпали почти все волосы, ее грудь гноилась, а в пятисантиметровой дыре у нее на спине кишели многочисленные черви. Вокруг было полно мух, комаров и блох, и повсюду висел отвратительный запах. Куда бы я ни посмотрел, везде было множество таких же людей, которые не могли двигаться. С вечера нашего прибытия мамино состояние все ухудшалось, и нам казалось, что она слабеет у нас на глазах. Поскольку всю ночь ей было трудно дышать, мы делали все, что могли, чтобы ей помочь. На следующее утро мы с бабушкой приготовили немного каши. Когда мы принесли ее маме, она испустила последний вздох. Когда нам показалось, что она совсем перестала дышать, она глубоко вздохнула еще раз и больше уже не дышала. Это было в девять часов утра 19 августа. На территории больницы Японского Красного Креста стоял сильнейший запах сжигаемых тел. Слишком сильное горе превратило меня в человека, чужого самому себе, и тем не менее, несмотря на эту скорбь, я не могу плакать[2981].
В Хиросиме погибли не только люди. Было уничтожено и нечто другое, объясняет японское исследование, – та совместная жизнь, которую Ханна Арендт называет общим миром:
В случае атомной бомбардировки… город не просто получает удар; город уничтожается. В радиусе 2 километров от эпицентра ядерного взрыва все живые существа и все строения были разодраны, сожжены и похоронены под слоем пепла. Видимые формы города, в которых люди некогда вели свою повседневную жизнь, исчезли без следа. Разрушение было внезапным и тщательным; не было практически никаких шансов на спасение… Горожане, не потерявшие в этом всесожжении никого из близких, были такой же редкостью, как звезды на восходе солнца…
Атомная бомба разрушила и сожгла больницы, школы, административные здания, полицейские участки и все другие человеческие организации… Родные, родственники, соседи и друзья полагались во всем, от рождений, свадеб и похорон до тушения пожаров, производительной работы и повседневной жизни, на широкий спектр взаимосвязанных организаций. Эти традиционные сообщества были полностью уничтожены в одно мгновение[2982].
То есть уничтожены были не только мужчины, женщины и тысячи детей, но и рестораны и гостиницы, прачечные, театральные кружки, спортивные секции, клубы кройки и шитья, клубы для мальчиков, клубы для девочек, романы, деревья и сады, трава, ворота, надгробия, храмы и святилища, семейные реликвии, радиоприемники, одноклассники, книги, суды, одежда, домашние животные, лавки и рынки, телефоны, личные письма, автомобили, велосипеды, лошади – 120 боевых коней, музыкальные инструменты, лекарства и медицинские приборы, сбережения, очки, акты гражданского состояния, тротуары, семейные альбомы, памятники, помолвки, браки, служащие, часы и будильники, общественный транспорт, дорожные знаки, родители, произведения искусства. «Все общество, – заключает японское исследование, – было разрушено до самого основания»[2983]. Профессор истории, говоривший с Лифтоном, считал, что не осталось и основания. «Такое оружие, – сказал он американскому психиатру, – способно превратить всё в ничто»[2984].
Остается вопрос о числе погибших. Офицер Медицинского корпуса Армии США, предложивший Макартуру провести совместное американо-японское исследование, считал еще 28 августа, что «суммарное число пострадавших в Хиросиме составило, как сообщается, 160 000 человек, из которых 8000 погибли»[2985]. Современный событиям подсчет священника-иезуита ближе к ужасающей реальности и лучше освещает картину разрушения общего мира:
Сколько человек стали жертвами этой бомбы? Те, кто пережил эту катастрофу, считают, что число убитых было не меньше 100 000. Население Хиросимы составляло 400 000 человек. По официальной статистике, число погибших до 1 сентября составило 70 000 человек, не считая пропавших без вести, а число раненых – 130 000, из которых 43 500 тяжело раненных. Оценки, которые мы получили самостоятельно, исходя из известных нам групп населения, показывают, что число в 100 000 убитых нельзя считать завышенным. Рядом с нами имеются две казармы, в каждой из которых жили сорок корейских рабочих. В день взрыва они работали на улицах Хиросимы. В одну казарму вернулись четыре человека, в другую – шестнадцать. Шестьсот учениц протестантской женской школы работали на заводе; из них вернулись только тридцать или сорок. Большинство окрестных крестьянских семей потеряли одного или нескольких из своих членов, работавших в городе. Наш сосед Тамура потерял двоих детей и сам был тяжело ранен, так как оказался в этот день в городе. В семье нашего чтеца были две жертвы, отец и сын; таким образом, каждая семья из пяти человек потеряла по меньшей мере двоих, считая только убитых и тяжело раненных. Погибли мэр, глава центральной области Японии, военный комендант города, корейский принц, служивший в Хиросиме в офицерском чине, и много других высокопоставленных офицеров. Тридцать два человека из числа профессоров университета были убиты или тяжело ранены. Особенно тяжелый удар пришелся по военным. Почти полностью был уничтожен саперный полк. Его казармы находились вблизи центра взрыва[2986].
По более современным подсчетам, число умерших до конца 1945 года оценивается в 140 000. Смерти продолжались и после этого; за пятилетний период число умерших в связи с бомбардировкой достигло 200 000. Считая умерших до конца 1945 года, уровень смертности составил 54 %, то есть убойная сила бомбы была необычайно высокой. Для сравнения, бомбардировка Токио зажигательными бомбами 9 марта привела к 100 000 смертей на 1 миллион общих потерь, то есть всего 10 %. В начале 1946 года, вернувшись в вашингтонский Институт патологии Армии США, Либов подсчитал при помощи недавнего британского изобретения, Унифицированного уровня потерь (Standardized Casualty Rate)[2987], что «Малыш» вызывает в 6500 раз более высокие потери, считая и погибших, чем бомба с обычными взрывчатыми материалами. «Те ученые, которые изобрели… атомную бомбу, – пишет молодая женщина, бывшая в Хиросиме ученицей четвертого класса, – как они думали, что случится, если они ее сбросят?»[2988]
Гарри Трумэн узнал об атомной бомбардировке Хиросимы за обедом на борту «Августы», на которой он возвращался из Потсдама. «Это величайшее событие в истории, – сказал он морякам, евшим за его столом. – Нам пора домой»[2989].
В два часа дня 6 августа Гровс позвонил Оппенгеймеру из Вашингтона, чтобы передать ему эту новость:
Ген. Г. Я очень горжусь вами и всеми вашими людьми.
Д-р О. Все прошло нормально?
Ген. Г. Кажется, все прошло с оглушительным успехом.
Д-р О. Когда это было, после заката?
Ген. Г. Нет, к сожалению, пришлось перенести на дневное время по соображениям безопасности самолета. Это было решение тамошнего командующего…
Д-р О. Понятно. Все этим, в общем, довольны, и я искренне поздравляю вас. Мы прошли долгий путь.
Ген. Г. Да, мы прошли долгий путь, и я думаю, что одним из самых мудрых моих решений был выбор директора Лос-Аламоса.
Д-р О. Ну, генерал Гровс, у меня есть некоторые сомнения.
Ген. Г. Как вы знаете, я этих сомнений никогда не разделял[2990].
Если Оппенгеймер, еще ничего не знавший о масштабах разрушений, был только «в общем, доволен» плодами своих трудов, то Лео Сцилард, когда эта новость стала достоянием гласности, почувствовал себя ужасно. В пресс-релизе, который Белый дом выпустил в этот день, атомная бомба называлась «величайшим в истории достижением организованной науки», а японцам грозили «ливнем разрушения, подобного которому еще не видели на нашей Земле»[2991]. В Чикаго Сцилард написал на бланке клуба Quadrangle поспешное письмо к Гертруде Вайс:
Я полагаю, Вы уже видели сегодняшние газеты. Применение атомной бомбы против Японии – одна из величайших в истории ошибок. Как с практической точки зрения в 10-летней перспективе, так и с точки зрения нашей этической позиции. Я сделал все возможное и невозможное, причем буквально, чтобы не допустить этого, но, как видно из сегодняшних газет, безуспешно. Очень трудно представить себе, каким может быть после этого разумный образ действий[2992].
Отто Ган, интернированный вместе с германскими атомщиками в сельском имении в Англии, пришел в совершенное отчаяние:
Сначала я не хотел поверить, что это может быть правдой, но в конце концов мне пришлось признать, что эта новость официально подтверждена президентом Соединенных Штатов. Я был поражен и подавлен свыше всякой меры. Мысль о невыразимых страданиях бесчисленных невинных женщин и детей была почти невыносимой.
После того как мне дали джину для успокоения нервов, моим товарищам по заключению также сообщили эту новость… К концу долгого вечера обсуждений, попыток объяснить и самобичевания я так разволновался, что Макс фон Лауэ и другие серьезно за меня беспокоились. Они перестали тревожиться только в два часа ночи, когда увидели, что я уснул[2993].
Но если некоторых эта новость встревожила, других она привела в восторг, как выяснил в Лос-Аламосе Отто Фриш:
Однажды, недели через три после [ «Тринити»], в лаборатории внезапно раздался шум, топот бегущих ног и громкие голоса. Кто-то открыл мою дверь и крикнул: «Хиросима уничтожена!»; считалось, что убито около ста тысяч человек. Я до сих пор помню ту тревогу, даже тошноту, которую я почувствовал, когда увидел, как многие из моих друзей спешат к телефонам, заказывать столики в гостинице «Ла Фонда» в Санта-Фе, чтобы отпраздновать это событие. Разумеется, они радовались успеху своей работы, но празднование внезапной смерти ста тысяч человек, даже если это были «враги», казалось делом довольно-таки недобрым[2994].
Американский писатель Пол Фассел, служивший в армии, подчеркивает «роль личного опыта, простого жизненного опыта, в формировании взглядов на первое применение бомбы»[2995]. Опыт, о котором говорит Фассел, – это «опыт столкновения лицом к лицу с врагом, который замышляет тебя убить»:
Я был 21-летний лейтенант, командир стрелкового взвода. Хотя формально считалось, что я здоров, на войне в Германии меня ранило в ногу, и после войны этого оказалось достаточно для получения 40-процентной инвалидности. Но, хотя моя нога подгибалась каждый раз, когда я выпрыгивал из кузова грузовика, мое состояние считалось достаточно удовлетворительным для будущих боев. Когда сбросили бомбы и появились новости, что [высадки в Японии] все-таки не будет, что нам не придется, стреляя из автоматов, бежать по пляжам под Токио под минометным и артиллерийским огнем, то, несмотря на все наше показное мужество, мы все плакали от радости и облегчения. Мы будем жить. Мы все-таки доживем до взрослого возраста.
В Японии по-прежнему сохранялось безвыходное противостояние между гражданскими и военными руководителями. Гражданским казалось, что атомная бомба дает уникальную возможность капитулировать без позора, но адмиралы и генералы все так же презирали безоговорочную капитуляцию и не соглашались на нее. Еще 8 августа министр иностранных дел Того продолжал попытки использовать посредничество Советского Союза. В этот день посол Сато попросил о встрече с Молотовым; Молотов назначил встречу на восемь часов вечера, но потом перенес ее на пять. Несмотря на предыдущее предупреждение о мощи нового оружия, новость о полном уничтожении японского города американской атомной бомбой застала Сталина врасплох и потрясла его, заставив ускорить осуществление военных планов. Вечером этого дня Молотов объявил японскому послу, что Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией начиная со следующего дня, 9 августа. Хорошо вооруженные советские войска численностью 1,6 миллиона человек уже ждали в полной боевой готовности на маньчжурской границе и через час после полуночи перешли в наступление против потрепанных японских частей.
Тем временем на Марианских островах разворачивалась пропагандистская кампания, разработанная в Военном министерстве Соединенных Штатов[2996]. 7 августа Арнольд передал Спаатсу и Фарреллу по телеграфу распоряжение начать экстренную программу по доведению информации об атомной войне до японского народа. Эта инициатива, вероятно, поступила от Джорджа Маршалла, который был удивлен и потрясен, что японцы не стали немедленно просить мира. «Мы не учли, – говорил он значительно позднее, – что разрушение было настолько полным, что точная информация о случившемся могла добраться до Токио только через заметное время. Уничтожение Хиросимы было настолько полным, что никакой связи там не было, я думаю, в течение суток, а может быть, и дольше»[2997].
И флот, и авиация предоставили своих сотрудников и оборудование, в том числе радиостанцию «Сайпан» и типографию, которая использовалась до этого для выпуска газеты на японском языке, еженедельно разбрасывавшейся над Империей с В-29. Рабочая группа, собравшаяся 7 августа на Марианских островах, решила попытаться распространить 6 миллионов листовок по 47 японским городам с населением более 100 000 человек. Составление листовки заняло у группы всю ночь. В исторической памятной записке, подготовленной для Гровса в 1946 году, отмечается, что на полуночном совещании с командирами ВВС рабочая группа обнаружила «некоторые сомнения относительно полетов одиночных В-29 над Империей, связанные с тем, что в результате тотального разрушения Хиросимы одним самолетом можно ожидать усиления неприятельского противодействия одиночным полетам»[2998].
Проект текста листовки был готов к утру, и на рассвете его отправили с Сайпана на Тиниан, на утверждение Фарреллу. Заместитель Гровса отредактировал его и приказал передать окончательный вариант на радио «Сайпан» по межостровному телефону, для трансляции на Японию каждые пятнадцать минут. Трансляции, вероятно, начались в тот же день. В тексте говорилось, что атомная бомба «эквивалентна по взрывчатой силе тому, что 2000 наших гигантских В-29 могут поднять в одном вылете», скептикам предлагалось «узнать, что произошло в Хиросиме», а от японского народа требовали «подать императору прошение об окончании войны». «В противном случае, – угрожал текст, – мы полны решимости применить эту бомбу и другие мощные виды оружия для того, чтобы быстро завершить войну с помощью силы»[2999][3000]. Печать нескольких миллионов экземпляров листовки заняла некоторое время, а их отсылка задержалась еще на несколько часов из-за местной нехватки агитационных бомб Т-3. Неразбериха была такой, что Нагасаки получил свою порцию предупреждающих листовок только 10 августа[3001].
На Тиниане, в корпусе с кондиционированием воздуха, построенном специально для этой цели, продолжалась сборка «Толстяка» – устройства F31. Это был второй «Толстяк» с настоящей взрывчаткой, собранный работавшей на Тиниане бригадой; первый, устройство F33 со взрывчаткой более низкого качества и неядерным сердечником, был готов к пробному бомбометанию еще 5 августа. Однако сбросили его только 8-го числа, потому что основные экипажи 509-й авиагруппы были заняты – сначала доставкой «Малыша», потом отчетом о выполнении задания. «Толстяка» F31, пишет Норман Рамзей:
…сначала предполагалось сбросить 11 августа по местному времени… Однако к 7 августа стало ясно, что эту дату можно перенести на 10-е. Когда Парсонс и Рамзей предложили такое изменение Тиббетсу, он выразил сожаление, что график нельзя сократить не на день, а на два, так как на 9 августа метеорологи предсказывали хорошую погоду, а на следующие пять суток – ее ухудшение. В конце концов договорились, что [мы] попытаемся подготовиться к 9 августа при условии, что все заинтересованные стороны сознают, что сокращение срока на двое полных суток придает вероятности выполнения столь напряженного графика значительную неопределенность[3002].
Один из сборщиков «Толстяка», молодой флотский мичман Бернард Дж. О’Киф, вспоминает, какая напряженная рабочая атмосфера царила на Марианских островах в это время, когда война все еще оставалась насущной угрозой:
После успеха хиросимской бомбы срочность подготовки гораздо более сложного имплозивного устройства стала и вовсе невыносимой. Мы сократили график еще на сутки и назначили готовность на 10 августа. Всем казалось, что чем скорее мы сможем провести еще один вылет, тем с большей вероятностью японцы решат, что у нас большой запас таких устройств, и тем скорее сдадутся. Мы были уверены, что каждый сэкономленный день приближает на один день окончание войны. Мы жили на этом острове, где каждый вечер вылетали самолеты и люди гибли не только в сбитых В-29, но и в морских боях по всему Тихому океану, и знали, как важен может быть один день; кроме того, на нас сильно повлияло уничтожение «Индианаполиса».
Несмотря на такую срочность, добавляет О’Киф, дата 9 августа была воспринята с меньшим энтузиазмом; «смертельно усталые научные сотрудники посовещались и предупредили Парсонса, что сокращение графика на целых двое суток не позволит нам завершить несколько важных проверочных процедур, но приказ есть приказ»[3003].
Этот молодой уроженец Провиденса, штат Род-Айленд, был в 1939 году студентом Университета Джорджа Вашингтона и присутствовал там на конференции 25 января, на которой Нильс Бор объявил об открытии деления. Теперь, оказавшись на Тиниане более шести лет спустя, ночью 7 августа О’Киф должен был проверить «Толстяка» в последний раз, прежде чем его рабочие части будут заключены в бронированную оболочку, в которой они будут недоступны. В частности, ему нужно было соединить детонационный модуль, установленный на передней части имплозивной сферы, с четырьмя радиолокационными модулями, находившимися на хвосте. Для этого он должен был подсоединить кабель, уже проложенный вокруг сферы внутри ее дюралюминиевого корпуса: снять кабель, не разбирая корпуса, было невозможно.
В полночь, когда я вернулся, остальные члены моей группы уже ушли спать; в сборочной комнате остались для выполнения последнего подсоединения только я и один армейский техник…
Я выполнил последнюю проверку и взялся за кабель, чтобы вставить его в детонационный модуль. Он туда не входил!
«Наверное, я что-то делаю неправильно, – подумал я. – Не спеши; ты устал и плохо соображаешь».
Я посмотрел еще раз. К своему ужасу, я увидел, что на детонационном модуле стоит гнездовой разъем и на кабеле тоже стоит гнездовой разъем. Я обошел вокруг бомбы и посмотрел на радары и другой конец кабеля. Два штекерных разъема… Я проверил еще и еще раз. Я попросил проверить техника; он увидел то же самое. Я похолодел от ужаса и вспотел, несмотря на кондиционер, работавший в комнате.
Было совершенно очевидно, что произошло. Все так торопились, чтобы не упустить хорошую погоду, что кто-то допустил оплошность и установил кабель задом наперед[3004].
Чтобы вынуть кабель и перевернуть его, нужно было частично разобрать имплозивную сферу. Ее сборка заняла большую часть дня. Период хорошей погоды, за которым следовали пять дней неблагоприятных метеоусловий, так беспокоивших Пола Тиббетса, был бы упущен. Задержка применения второй атомной бомбы могла составить целую неделю. Война продолжилась бы, подумал О’Киф. Он решил сымпровизировать. Хотя «в сборочный цех с его обилием взрывчатых материалов никогда не допускалось ничего теплоизлучающего», он собрался «отпаять разъемы от двух концов кабеля и заново припаять их на противоположные концы»[3005].
Решение было принято. Я собирался поменять разъемы, ни с кем не советуясь, что бы там ни говорилось в правилах. Я позвал техника. В сборочном цехе не было электрических розеток. Мы пошли в электронную лабораторию и нашли там паяльник и два больших удлинителя. Мы… заблокировали дверь в открытом положении, чтобы она не защемила удлинитель (еще одно нарушение правил ТБ). Я осторожно разобрал корпуса разъемов и отпаял провода. Затем я припаял разъемы к противоположным концам кабеля, стараясь держаться как можно дальше от детонаторов, когда ходил вокруг бомбы… Потом мы, наверное, раз пять проверили, что в кабеле нет разрывов, и наконец подсоединили разъемы к радарам и детонационной системе и затянули соединения. Моя работа была закончена[3006].
А на следующий день был закончен и весь «Толстяк»: два бронированных стальных эллипсоида его внешней оболочки были прикреплены водопроводной арматурой к литым проушинам на экваториальных сегментах имплозивной сферы. Из короба его хвоста торчали радиолокационные антенны, такие же, как на «Малыше». К 22:00 8 августа он был загружен в передний бомбовый отсек В-29, названного «Бокскар» по имени его постоянного командира, Фредерика Бока[3007]. Однако на этот раз самолет должен был пилотировать майор Чарльз У. Суини. Основной целью Суини был арсенал в Кокуре, на северном берегу острова Кюсю; вторичной целью был старый портовый город Нагасаки, испытавший в свое время сильное влияние португальцев и голландцев, японский Сан-Франциско, место расположения крупнейшей в Японии христианской колонии, а также завода, на котором компания «Мицубиси» производила торпеды для Перл-Харбора.
«Бокскар» вылетел с Тиниана в 3 часа 47 минут ночи 9 августа[3008]. Оружейник «Толстяка», капитан второго ранга Фредерик Л. Эшворт, вспоминает полет до точки встречи:
В ночь нашего вылета были шквалы тропического ливня и молнии прорезали темноту с пугающей регулярностью. Прогноз погоды обещал грозы на всем пути от Марианских островов до Империи. Точка встречи была назначена у юго-восточного берега Кюсю, приблизительно в двух с половиной тысячах километров. Там мы должны были встретиться с двумя наблюдательными В-29, которые взлетели через несколько минут после нас[3009].
К моменту взлета «Толстяк» был полностью готов к применению, за исключением зеленых заглушек, которые Эшворт заменил на красные всего через десять минут после начала вылета[3010], чтобы Суини мог лететь выше 5000 метров, над грозовыми шквалами. На пропеллерах самолета светились огни святого Эльма. Пилот вскоре обнаружил, что резерва топлива у него нет; переключатель топливных баков, позволявший подключить к двигателям бак емкостью 2270 литров, установленный в хвостовом бомбовом отсеке, не работал. Между 8:00 и 8:50 по японскому времени он кружил над Якосимой, ожидая самолеты сопровождения, один из которых так и не догнал группу. Самолет метеоразведки докладывал из Кокуры о 30-процентной низкой облачности, отсутствии облаков на больших высотах и постепенном улучшении метеоусловий, но к 10:44, когда «Бокскар» прилетел туда, цель закрыл плотный приземный туман и дым. «Были выполнены еще два захода, – отмечает Эшворт в своем полетном журнале, – в надежде, что наблюдение с близкого расстояния позволит установить цель. Однако прицельная точка так и не стала видна»[3011].
Джейкоб Безер занимался радиоэлектронной защитой самолета с «Толстяком» так же, как на предыдущем задании с «Малышом». О пролете над Кокурой он вспоминает, что «японцы заинтересовались и начали посылать за нами истребители. Появились разрывы зенитных снарядов, и обстановка становилась несколько напряженной, так что Эшворт и Суини решили лететь в Нагасаки, так как тащить бомбу обратно или сбрасывать ее в океан смысла не было»[3012].
Запас топлива, остававшийся у Суини, позволял сделать всего один заход на цель, после чего самолет нужно было осторожно дотянуть до запасного аэродрома на Окинаве. Подлетев к Нагасаки, он увидел, что город закрыт облачностью; не имея лишнего топлива, можно было либо сбросить бомбу с наведением по радару, либо выбросить оружие, стоившее несколько сот миллионов долларов, в море. Решение должен был принять Эшворт, и он, не желая терять бомбу понапрасну, скомандовал использовать радар. В последний момент в облаках открылся просвет, позволивший бомбардиру видеть в течение двадцати секунд стадион, расположенный в нескольких километрах вверх по реке от запланированной прицельной точки – она находилась ближе к заливу. «Толстяк» отделился от В-29, пролетел через этот просвет и взорвался в 503 метрах над крутыми городскими холмами в 11:02 утра 9 августа 1945 года. Мощность взрыва оценили впоследствии в 22 килотонны. Крутые холмы ограничили масштабы взрыва; он причинил меньший материальный ущерб и убил меньше людей, чем взрыв «Малыша».
Однако к концу 1945 года в Нагасаки умерло 70 000 человек, а за следующие пять лет число жертв достигло 140 000; уровень смертности был близок к 54 %, полученным в Хиросиме. Выжившие так же красноречиво рассказывали о невыразимых страданиях. Один офицер американского флота посетил город в середине сентября, более месяца спустя после бомбардировки, и описал его состояние в письме к своей жене:
Все здесь пронизано запахом смерти и разрушения, от обычного запаха мертвой плоти до несколько более тонких ароматов с оттенками аммиака (я полагаю, от разлагающихся азотсодержащих веществ). Общее впечатление, которое выходит за пределы физических чувств, – это ощущение мертвенности, квинтэссенции смерти, окончательной и без какой бы то ни было надежды на воскресение. И все это не ограничено какими-нибудь отдельными местами. Это чувствуется повсюду, и ничто не избежало этой мертвенности. В большинстве разрушенных городов можно похоронить мертвых, расчистить завалы, отстроить здания – и городснова будет жить. Здесь кажется, что это не так. Подобно древним Содому и Гоморре, этот город засеян солью, и на вратах начертано «ихавод»[3013][3014].
Военное руководство Японии по-прежнему не соглашалось капитулировать. Поэтому император Хирохито решился на чрезвычайные меры и взял дело в свои руки. Составленное в результате этого предложение о капитуляции, отправленное через Швейцарию, достигло Вашингтона утром в пятницу 10 августа[3015]. В нем выражалось согласие с условиями Потсдамской декларации, но с одной важной оговоркой: что условия капитуляции «не должны содержать каких-либо требований, ведущих к умалению прав его величества как суверенного правителя»[3016].
Трумэн немедленно встретился со своими советниками, в том числе Стимсоном и Бирнсом. Стимсон считал, что президенту следует принять японское предложение; это, записал он в своем дневнике, означало бы «выразить ту разумную, практичную точку зрения, что вопрос об императоре – мелочь по сравнению с отсрочкой победы в войне, которая уже у нас в руках»[3017]. Джимми Бирнс выдвинул убедительные возражения. «Я не могу понять, – сказал он, – почему мы должны идти на большие уступки, чем те, на которые мы были готовы пойти в Потсдаме, когда у нас не было атомной бомбы, а Россия еще не вступила в войну»[3018]. Как обычно, он думал о внутренней политике; согласие на условия Японии, предупреждал он, может привести к «распятию президента»[3019]. Министр ВМФ Джеймс Форрестол предложил компромиссное решение: президент должен сообщить японцам о своей «готовности принять [их предложение], но определить условия капитуляции так, чтобы осуществление намерений и целей Потсдамской декларации не вызывало никаких сомнений»[3020].
Трумэн согласился на такой компромисс, но составление ответа было поручено Бирнсу. Основные положения этого ответа получились намеренно двусмысленными:
Начиная с момента капитуляции власть императора и японского правительства определяется верховным командующим союзных держав…
Император и Верховное командование Японии должны подписать условия капитуляции…
Окончательная форма правления будет установлена в соответствии с Потсдамской декларацией по результатам свободного волеизъявления японского народа[3021].
К тому же Бирнс не спешил с отправкой этого сообщения; он продержал его у себя всю ночь и отдал для передачи по радио и доставки через Швейцарию только на следующее утро.
По-прежнему пытаясь контролировать свои военно-воздушные силы, Стимсон предложил на утреннем заседании в пятницу, что Соединенные Штаты должны приостановить бомбардировки, в том числе атомные. Трумэн так не думал, но частично изменил свое мнение к моменту встречи с кабинетом министров, которая произошла во второй половине того же дня. «Мы будем вести войну с той же интенсивностью, – пересказывает слова президента Форрестол, – до тех пор, пока японцы не согласятся на эти условия, но с той оговоркой, что атомных бомбардировок больше не будет»[3022]. Генри Уоллес, бывший вице-президент, ставший теперь министром торговли, изложил в своем дневнике причину, по которой президент изменил свою позицию:
Трумэн сказал, что приказал прекратить атомные бомбардировки. Он сказал, что мысль об уничтожении еще 100 000 человек слишком ужасна. Ему не нравится идея убивать, как он сказал, «всех этих детишек»[3023].
Это ограничение чуть не опоздало. Тем же утром Гровс доложил Маршаллу, что ему удалось ускорить производство на четыре дня, и отправка плутониевого заряда и запала для второго «Толстяка» из Нью-Мексико на Тиниан планируется на 12 или 13 августа. «Если в процессе производства, перевозки на театр военных действий или после прибытия туда не возникнет непредвиденных осложнений, – осторожно сказал он в завершение, – бомба должна быть готова к применению в любой благоприятный с точки зрения погоды момент после 17 или 18 августа»[3024]. Маршалл сказал Гровсу, что президент запретил дальнейшие атомные бомбардировки, кроме как по его прямому распоряжению, и Гровс решил отложить отправку, а Маршалл согласился с этим решением.
Японское правительство получило ответ Бирнса на предложение условий капитуляции вскоре после полуночи в воскресенье 12 августа, но гражданские и военные руководители по-прежнему продолжали свой безвыходный спор. Хирохито устоял перед попытками убедить его отказаться от высказанного ранее обещания капитулировать и созвал совет императорского семейства, чтобы заручиться поддержкой принцев крови. Японский народ еще не слышал об ответе Бирнса, но знал о переговорах о мире и напряженно ждал. Писателю Юкио Мисиме это напряжение казалось сюрреалистическим:
Это был наш последний шанс. Говорили, что следующим в очереди [на атомную бомбардировку] будет Токио. Я бродил по улицам в белых рубашках и брюках. Люди уже дошли до предела отчаяния и теперь спешили по своим делам с радостными лицами. Шли секунды, и ничего не происходило. У всех был вид радостного возбуждения. Мы как будто всё сильнее накачивали игрушечный воздушный шар, уже раздутый до предела, и всё ждали: «Сейчас лопнет? Сейчас лопнет?»[3025]
10 августа командующий стратегической авиацией Карл Спаатс отправил Лорису Норстаду телеграмму с предложением «применить третью атомную бомбу… по Токио», так как считал, что это произведет полезное «психологическое воздействие на руководителей государства»[3026]. С другой стороны, ему не нравилось продолжение массированных бомбардировок зажигательными бомбами; «я никогда не был сторонником разрушения городов как такового с уничтожением всех жителей», – записал он в своем дневнике 11 августа. 10 августа он отправил на задание 114 В-29; 11 августа он отменил вылет в связи с плохой погодой и собственными сомнениями, а после этого ограничил операции «только атаками военных целей с визуальным наведением или в условиях, чрезвычайно благоприятных для бомбардировки вслепую». Американские метеорологические самолеты, летавшие над Токио, больше не подвергались обстрелу зенитной артиллерии; Спаатс считал такое положение дел «необычным»[3027].
Вечером 13 августа заместитель начальника Генерального штаба японского флота, тот самый человек, который задумал и организовывал в предыдущем году атаки камикадзе, усилившие непонимание и негодование американцев относительно японского образа действий, ворвался на совещание руководителей государства со слезами на глазах и предложил «план гарантированной победы»: «пожертвование 20 000 000 жизней японцев в особой атаке [камикадзе]»[3028]. В документах не уточняется, имел ли он в виду, что 20 миллионов японцев должны напасть на соединенные силы союзников с камнями и бамбуковыми копьями.
Решение вопроса подтолкнули многочисленные листовки, разбросанные на следующее утро с В-29. Агитационные бомбы засыпали остатки разрушенных улиц Токио переводами ответа Бирнса. Хранитель государственной печати понимал, что такая огласка еще более ожесточит военных против капитуляции. Он немедленно отнес листовку императору, и незадолго до 11 часов этого утра, 14 августа, Хирохито созвал своих министров и советников в императорском бомбоубежище. Он сказал им, что видит в ответе союзников «проявление мирных и дружественных намерений противника» и считает его «приемлемым». Об атомной бомбе он прямо не упоминал; даже это ужасающее чудовище померкло на фоне общих невзгод страны:
Мне невыносима мысль о продолжении страданий моего народа. Продление войны принесет смерть десяткам, возможно, даже сотням тысяч человек. Вся страна будет обращена в пепел. Как же в таком случае смогу я исполнять волю своих августейших предков?[3029]
Он поручил министрам подготовить императорский рескрипт – официальный эдикт, – который он сможет лично объявить народу. По закону чиновники не были обязаны выполнять это распоряжение – власть императора лежит вне юридической структуры правительства, – но они были связаны более древними и глубокими обязательствами и взялись за работу.