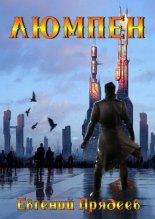Создание атомной бомбы Роудс Ричард
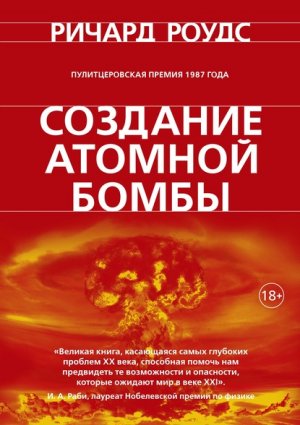
Операция может быть возможна в любое время после 1 августа в зависимости от готовности пациента и атмосферных условий. Если учитывать только пациента, существует некоторая вероятность на 1–3 августа, хорошие шансы на 4–5 августа и, с точностью до неожиданных обострений болезни, почти наверняка до 10 августа[2792].
Стимсон запросил также список целей «по-прежнему без включения того конкретного места, которое я решил не использовать. Мое решение утверждено на самом высоком уровне»[2793]. Гаррисон выполнил и это требование: «Хиросима, Кокура, Ниигата – в порядке убывания приоритетности»[2794].
Из чего следует, что по состоянию на последнюю неделю июля Нагасаки в списке еще не было. Но уже через несколько дней этот город там был. Авторы официальной истории ВВС[2795] предполагают, что его предложил штаб Лемея. Причиной, вероятно, было требование возможности бомбардировки с визуальным наведением. Хиросима находится в 700 километрах к западу от Ниигаты. Нагасаки, отделенный от Кокуры горами, расположен на острове Кюсю еще в 350 километрах к юго-западу от Хиросимы. Если бы один из этих городов оказался закрыт облачностью, над другим могло быть чистое небо. Кроме того, еще одним доводом за включение Нагасаки, несомненно, было то, что это был один из немногих крупных городов Японии, все еще остававшихся несожженными.
Последней в переписке этого дня (в который металлурги Лос-Аламоса закончили изготовление плутониевого активного заряда для «Толстяка») с Гаррисоном была знаменательная третья телеграмма. Она касалась возможностей будущих поставок атомных бомб и упоминала ожидавшиеся в ближайшем будущем изменения конструкции – вероятно, речь шла о так называемой «смешанной» имплозивной бомбе, в которой в качестве активного материала использовался сплав 235U и плутония. Для ее изготовления требовались ресурсы обеих производственных площадок, Ок-Риджа и Хэнфорда:
Первое устройство испытанного типа [т. е. «Толстяк»] будет готово на тихоокеанской базе около 6 августа. Второе будет готово к 24 августа. Подготовка следующих будет идти с ускорением темпов: три устройства будут готовы в сентябре и, как мы надеемся, семь или более в декабре. Увеличение темпов свыше трех устройств в месяц подразумевает изменения в конструкции, которые Гровс считает абсолютно разумными[2796].
Утром во вторник 24 июля Стимсон доложил Трумэну обо всех этих оценках Гаррисона. Президент был доволен и сказал, что учтет их при выборе момента опубликования Потсдамской декларации. Министр воспользовался этой возможностью, чтобы призвать Трумэна втайне заверить японцев, что они смогут сохранить своего императора, если они по-прежнему могут пойти на капитуляцию только при этом условии. Президент подчеркнуто ничего не обещал, но сказал, что помнит об этом вопросе и займется им.
Стимсон ушел, а к Трумэну присоединился за обедом Бирнс. Они обсуждали способы как можно меньше сказать Сталину об атомной бомбе. Трумэн хотел, чтобы, когда Сталин узнает, что его союзники по войне разработали за его спиной эпохальное новое оружие, у него было оправдание, но в то же время стремился раскрыть как можно меньше существенной информации. Как рассказывал Бирнс в 1958 году историку Герберту Фейсу, он нашел еще одну, более насущную причину для скрытности:
Исходя из опыта общения с русскими в течение первой недели конференции, он пришел к выводу, что вступление Советского Союза в войну [на Тихом океане] было бы нежелательно, и… опасался, что, если Сталин полностью осознает силу нового оружия, он может сразу же приказать советской армии начать наступление[2797].
На самом деле Сталин уже знал об испытаниях «Тринити»[2798]. О них сообщили ему его агенты в Соединенных Штатах. Кажется, в первый момент это известие не произвело на него большого впечатления. Можно усмотреть некоторый черный юмор в той старательно небрежной манере, в которой Трумэн обратился с этой новостью к советскому премьеру. Дело было в конце пленарного заседания этого дня во дворце Цецилиенхоф, опустошенном и запущенном. Бледные немецкие комары влетали в открытые окна, чтобы полакомиться полнокровными завоевателями. Трумэн оставил своего переводчика, обогнул покрытый сукном стол переговоров и подобрался поближе к своему советскому коллеге. Оба притворялись. «Я сказал Сталину мимоходом, что у нас появилось новое оружие необычайной разрушительной силы. Русский премьер не проявил особого интереса. Он сказал только, что рад это слышать и надеется, что оно пригодится нам против японцев»[2799]. «В этом, – сухо заключает Роберт Оппенгеймер, знавший, какую потерю понес в этот момент весь мир, – была несколько излишняя непринужденность»[2800].
Если на Сталина еще не произвел впечатления колоссальный потенциал бомбы, то в личном дневнике Трумэна уже вовсю возникали апокалипсические, библейские по своим масштабам видения, смешивавшиеся в воображении президента-самоучки с сомнениями в возможности разделения атома и нежеланием признать, что новое оружие станет орудием убийства гражданских лиц:
Мы изобрели самую ужасную бомбу в мировой истории. Возможно, она и есть тот самый разрушительный огонь, который пророчили в эпоху долины Евфрата, после Ноя и его знаменитого ковчега.
Как бы то ни было, мы «думаем», что нашли способ вызывать распад атома. Эксперимент в пустыне в Нью-Мексико был поразительным – мягко говоря…
Это оружие должно быть применено против Японии между сегодняшним днем и 10 августа. Я велел военному министру Стимсону использовать его так, чтобы мишенью были военные цели и солдаты, а не женщины и дети. Хотя японцы – дикари, безжалостные, беспощадные и фанатичные, мы, как ведущая страна мира, не можем, исходя из соображений общего блага, сбросить эту ужасную бомбу на их столицу, старую или новую.
В этом мы с ним согласны. Цель будет чисто военной, и мы выпустим предупреждающее заявление, предлагающее японцам сдаться и сохранить жизни. Я уверен, что они этого не сделают, но мы будем знать, что дали им такую возможность. Для мира, конечно, хорошо, что эту атомную бомбу не открыли у Гитлера или у Сталина. Она кажется самым ужасным из всех открытий в истории, но может принести огромную пользу[2801].
В тот же вторник, когда Трумэн упомянул в разговоре со Сталиным о новом оружии, члены Объединенного комитета начальников штабов встретились со своими советскими коллегами. Начальник штаба Красной армии генерал Алексей Антонов объявил, что советские войска концентрируются на маньчжурской границе и будут готовы к наступлению во второй половине августа. До этого Сталин говорил о 15 августа. Бирнса беспокоило, что Советы могут проявить несвойственную им пунктуальность.
В этот день Гровс составил в Вашингтоне проект исторической директивы, разрешающей применение атомной бомбы[2802]. Через Гаррисона он был передан по радио «только лично в руки» Маршаллу «для возможно скорейшего утверждения Вами и военным министром»[2803]. Вслед радиограмме отправили почтой маленькую карту Японии, вырезанную из большой карты Национального географического общества, и страницу с описанием выбранных целей, в число которых входил теперь и Нагасаки. Маршалл и Стимсон утвердили директиву в Потсдаме и, предположительно, показали ее Трумэну, хотя его официальное утверждение в документах отсутствует. На следующее утро директива была отправлена новому командующему стратегической авиацией на Тихом океане:
Командующему стратегической авиацией армии США
генералу К. Спаатсу
1. 509-й комплексный авиаполк доставляет первую специальную бомбу сразу же после 3 августа, как только позволят метеорологические условия, к одной из следующих целей: Хиросима, Кокура, Ниигата и Нагасаки. Для доставки военного и штатского научного персонала Военного министерства, который будет наблюдать и фиксировать результаты взрыва бомбы, выделяется дополнительный самолет, сопровождающий самолет-доставщик. Самолет наблюдения должен оставаться в нескольких километрах от места взрыва.
2. Следующие бомбы будут доставлены к указанным целям, как только они будут изготовлены. Относительно других целей инструкции поступят в дальнейшем.
3. Право распространения любой информации, касающейся использования этого вида оружия против Японии, имеют только военный министр и президент США. Запрещается выпуск коммюнике или информационных сообщений по этому поводу без согласования с вышестоящими лицами. Любые сведения, поступающие в печать, следует направлять в Военное министерство для соответствующей проверки.
4. Данный приказ издан по указанию Военного министерства и начальника Генерального штаба США и одобрен ими[2804].
Пока Гровс составлял проект директивы, металлурги заканчивали в Лос-Аламосе отливку колец из 235U, составлявших вместе сборку «мишени» пушечной бомбы – последнего элемента для завершения «Малыша».
26 июля пересеклись и синхронизировались процессы стратегические и транспортные. «Индианаполис» пришел на Тиниан. Три грузовых самолета С-54 Командования воздушного транспорта взлетели с авиабазы Кертленд с тремя отдельными деталями сборки «мишени» «Малыша»; еще два С-54 вылетели с запалом и плутониевым активным сердечником «Толстяка»[2805]. Тем временем в 7 часов вечера помощники Трумэна передали прессе Потсдамскую декларацию[2806], которая должна была быть опубликована в оккупированной Германии в 9:20. В ней Японии предлагалась от имени президента Соединенных Штатов, президента Китайской Республики и премьер-министра Великобритании «возможность окончить эту войну»:
Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Выбора никакого нет. Мы не потерпим никакой затяжки.
Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний…
До тех пор пока такой новый порядок не будет установлен… [определенные] пункты на японской территории… будут оккупированы.
…Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем.
Японским вооруженным силам после того, как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с возможностью вести мирную трудовую жизнь.
Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены как нация, но все военные преступники… должны понести суровое наказание… Будут установлены свобода слова, религии и мышления, а также уважение к основным человеческим правам.
Японии будет разрешено иметь такую промышленность, которая позволит поддержать ее хозяйство…
Оккупационные войска союзников будут отведены из Японии, как только будут достигнуты эти цели и как только будет учреждено мирно настроенное и ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной волей японского народа.
Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил… Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром[2807].
«Нам нужно было принять ужасное решение, – писал в 1947 году Бирнс. – Мы не могли считать попытки Японии прозондировать почву для мирных переговоров при посредничестве Советского Союза доказательством того, что Япония пойдет на безоговорочную капитуляцию без применения бомбы. Более того, Сталин заявил, что в последнем сообщении, направленном ему, говорилось, что японцы предпочтут “сражаться насмерть, чем согласиться на безоговорочную капитуляцию”. В таких условиях согласие на переговоры только породило бы ложные надежды. Вместо этого мы прибегли к Потсдамской декларации»[2808].
Текст этого мрачного документа передали японцам по радио из Сан-Франциско; японская аппаратура получила его 27 июля в 7:00 утра по токийскому времени. Целый день японское руководство обсуждало его загадки[2809]. В анализе Министерства иностранных дел, быстро подготовленном для членов правительства, отмечалось, что Советский Союз сохраняет свой нейтралитет и не значится в числе авторов декларации, что в ней определено, что именно союзники понимают под безоговорочной капитуляцией и что сам этот термин используется исключительно в применении к японским вооруженным силам. Министру иностранных дел Того не нравилось требование оккупации и лишения Японии заграничных владений; он рекомендовал не давать ответа, пока не станет известна советская реакция на представления посла Сато.
В течение дня премьер-министр, барон Кантаро Судзуки, склонился к тому же решению. Военные руководители были против. Они советовали ответить немедленным отказом. Любой менее решительный ответ, утверждали они, может ослабить боевой дух.
На следующий день японские газеты опубликовали отредактированный вариант Потсдамской декларации. Из него, в частности, был выпущен пункт о разоружении вооруженных сил и мирном возвращении военнослужащих по домам, а также заверения в том, что японцы не будут порабощены или уничтожены. Во второй половине дня Судзуки провел пресс-конференцию. «Я считаю, что совместная прокламация трех стран, – сказал он репортерам, – есть не что иное, как перекроенная заново Каирская декларация. Что касается правительства, оно не находит в ней никакого важного значения и не видит другого выхода, кроме как полностью проигнорировать эту декларацию и решительно сражаться за успешное завершение войны»[2810]. В своей речи на японском Судзуки употребил слово мокусацу, которое также может означать «отнестись с молчаливым презрением». Долгие годы историки спорят о том, какое именно значение этого слова имел в виду Судзуки, но смысл остальной части его заявления вряд ли может вызвать какие-либо сомнения: Япония намеревалась продолжать войну.
«Перед лицом такого отказа, – объяснял Стимсон в 1947 году в журнале Harper’s, – нам ничего не оставалось, кроме как продемонстрировать, что в нашем ультиматуме, утверждавшем, что “полное применение нашей военной силы, подкрепленной нашей решимостью, будет означать неизбежное и окончательное уничтожение японских вооруженных сил и столь же неизбежное полное опустошение японской метрополии”, именно это и имелось в виду. Для этой цели атомная бомба подходила как нельзя лучше»[2811].
В ночь после пресс-конференции Судзуки пять С-54 из Альбукерке прибыли на Тиниан, почти на десять тысяч километров ближе к Японии. Из Кертленда вылетели три В-29, каждый из которых вез взрывчатую сборку для одного «Толстяка»[2812].
Тем временем сенат США ратифицировал устав ООН.
26 июля, выгрузив на Тиниане «пушку» и «пулю» для «Малыша», «Индианаполис» ушел на Гуам; с Гуама он отправился без конвоя на филиппинский остров Лейте, где 1196 человек его команды должны были пройти двухнедельную подготовку перед присоединением на Окинаве к оперативной группе 95, готовившейся к назначенной на 1 ноября высадке на Кюсю[2813]. После уничтожения японского надводного флота и авиации переходы без конвоя по тыловым маршрутам стали обычным делом, но «Индианаполис», судно старого типа, не имел сонарного оборудования для обнаружения подводных лодок и обладал низкой остойчивостью. Незадолго до полуночи в воскресенье 29 июля тяжелый крейсер обнаружила в Филиппинском море японская подводная лодка И-58, принявшая его за линкор. Погрузившись на перископную глубину и легко избежав обнаружения, И-58 выпустила с расстояния 1370 метров веерный залп из шести торпед. Результаты этой атаки вспоминает командир И-58 капитан третьего ранга Мотицура Хасимото:
Я быстро взглянул в перископ, но ничего больше видно не было. Развернув лодку на курс, параллельный противнику, мы стали с нетерпением ждать. Каждая минута казалась вечностью. Затем на правом борту противника, возле передней башни, а потом и около задней башни, поднялись столбы воды, за которыми сразу последовали вспышки ярко-красного огня. Потом рядом с башней номер 1 вырос еще один фонтан, который, казалось, поглотил весь корабль. «Попадание, попадание!» – кричал я при попадании каждой торпеды, и команда плясала вокруг меня от радости… Вскоре раздался звук сильного взрыва, гораздо более громкий, чем взрывы самих торпед. Потом мы услышали три последовательных взрыва, затем еще шесть[2814].
Торпеды и последующие взрывы боеприпасов и авиационного топлива разворотили нос судна и уничтожили его электростанцию. Без электричества радист не смог отправить сигнал бедствия – хотя все равно проделал все нужные для этого операции, – а мостик потерял связь с машинным отделением. Неуправляемые двигатели толкали судно вперед; в дыры в корпусе заливалась вода, а за кораблем оставались моряки, выброшенные за борт, когда они спали на открытой палубе из-за тропической жары. Когда был отдан приказ покинуть судно, его передавали из уст в уста.
Напуганные и израненные моряки пытались следовать аварийной процедуре на судне, накренившемся на 45°. Корабельный врач нашел в ангаре левого борта, в котором взорвалось авиационное топливо, около тридцати человек с серьезными ожогами; им можно было только дать морфину в качестве болеутоляющего и закрыть их раны грубыми капковыми спасательными жилетами. Как и другие члены экипажа, они отправились за борт, в соленую воду, пенившуюся тошнотворным мазутом. Можно было спуститься по корпусу до киля и спрыгнуть оттуда в воду, но неосторожных могли изрубить на куски смертоносные лопасти все еще вращавшегося винта номер три.
С корабля выбралось около 850 человек. Корма поднялась в воздух метров на тридцать, и судно резко ушло под воду. Выжившие слышали крики, раздававшиеся из тонущего корпуса. Затем они остались наедине с темной ночью и четырехметровыми волнами.
У большинства были капковые жилеты. До спасательных плотов добрались немногие. Вместо этого они собирались в группы и держались друг за друга; более сильные плавали вокруг, чтобы поймать заснувших, прежде чем их отнесет в сторону. В одной из групп было от 300 до 400 человек. Раненых подталкивали к центру, где вода была спокойнее. Им оставалось только молиться и надеяться, что сигнал бедствия все же был передан.
Капитан нашел два пустых спасательных плота, а несколько позже встретил еще один, с людьми. Он приказал связать плоты вместе. На них было десять человек, и он думал, что кроме них никто не спасся. Всю ночь течение несло пловцов на юго-запад, а плоты относило ветром к северо-востоку; к рассвету плоты и пловцы оказались на таком расстоянии, что найти друг друга уже никак не могли.
За ночь среди пловцов умерли более 50 раненых. Утром товарищи освободили их тела от жилетов и отпустили. Ветер утих, и солнечный свет, отражавшийся от нефтяной пленки, болезненно слепил глаза. А потом появились акулы. Матрос, отправившийся за плававшим рядом ящиком картошки, забился в воде и исчез. Воцарился первобытный ужас: люди сбивались поплотнее в своих группах; некоторые решили бить по воде, некоторые, наоборот, замерли, пытаясь притвориться неодушевленными обломками корабля. Одному моряку акула откусила ноги, и его неуравновешенное тело, поддерживаемое спасательным жилетом, перевернулось головой вниз. Один из выживших вспоминает, что насчитал двадцать пять атак со смертельным исходом; по подсчетам корабельного врача, бывшего в более крупной группе, их было восемьдесят восемь.
Спасение не приходило. Они провели понедельник и ночь понедельника, затем вторник и ночь вторника без питьевой воды, погружаясь все глубже в море по мере того, как пропитывался водой капок в спасательных жилетах. Обезумевшие от жажды начинали пить морскую воду. «У тех, кто ее пил, наступала маниакальная стадия, и они неистово бились, – свидетельствует врач, – пока не впадали в кому и не тонули»[2815]. Оставшихся в живых ослепляло солнце; спасательные жилеты раздирали покрытую язвами кожу; у них начинался жар; у них возникали галлюцинации.
Среда и ночь среды. Акулы плавали вокруг людей и время от времени атаковали, пытаясь поживиться мясом. Несколько человек, охваченных коллективной галлюцинацией, отправились вслед за пловцом, которому показалось, что он видит остров; другая группа преследовала призрак корабля; еще одну манили в глубь океана фонтаны пресной воды, обещавшие утолить их жажду. Все они погибли. Вспыхивали ссоры, и матросы полосовали друг друга ножами. Пропитанные водой жилеты и набухшие узлы утягивали их под воду. «Мы стали массой бредящих, вопящих людей»[2816], – мрачно говорит врач.
Утром в четверг 2 августа выживших заметил самолет ВМФ. Из-за небрежности службы на Лейте «Индианаполис» еще не был объявлен пропавшим. Началась крупномасштабная спасательная операция, по району бедствия сновали корабли, гидросамолеты PBY и PBM сбрасывали пищу, воду и спасательное оборудование. Спасатели нашли 318 человек, голых и истощенных. Как вспоминает один из них, пресная вода, которую они стали пить, была «такой сладкой, [что это была] самая сладкая вещь в моей жизни»[2817]. За 84 часа этих мучений погибло более 500 человек; их тела достались в пищу акулам или пропали в морских глубинах.
Благополучно уйдя из опасного района, как вспоминает командир подводной лодки Хасимото, «наконец, 30-го числа мы отметили улов предыдущего дня своим любимым рисом с бобами, вареным угрем и солониной (все эти продукты были консервированными)»[2818].
В тот же день, когда на И-58 пировали консервами, Карл Спаатс сообщил в Вашингтон по телетайпу:
по сообщению военнопленного, хиросима – единственный из четырех намеченных городов… в котором нет лагеря союзных военнопленных.
На пересмотр целей уже не было времени, как бы там ни обстояло дело с военнопленными. На следующий день по телетайпу пришел ответ из Вашингтона:
намеченные цели… остаются без изменений. однако, если вы считаете свою информацию достоверной, хиросиме следует присвоить наивысший среди них приоритет[2819].
Жребий был брошен.
Как только испытания «Тринити» доказали, что атомная бомба работает, люди нашли поводы ее использовать. Самый убедительный из этих поводов изложил в 1947 году Стимсон в своей апологии в журнале Harper’s:
Моей главной целью было обеспечить победоносное завершение войны ценой как можно меньших потерь солдат тех армий, которые я помогал создавать. С учетом тех вариантов, которые, если смотреть на дело беспристрастно, у нас имелись, я считаю, что никто, оказавшийся в нашем положении и имеющий наши обязанности, не смог бы, попади ему в руки оружие, дающее такие возможности для достижения этих целей, не смог бы отказаться от его применения и спокойно смотреть после этого в глаза своим соотечественникам[2820].
Членам Научной коллегии Временного комитета – Лоуренсу, Комптону, Ферми, Оппенгеймеру – поручили предложить демонстрацию достаточно убедительную, чтобы обеспечить окончание войны. Встретившись в Лос-Аламосе в выходные 16–17 июня, они спорили до глубокой ночи и вынесли отрицательный вердикт. Даже изобретательности Ферми было недостаточно, чтобы разработать демонстрацию настолько впечатляющую, чтобы она могла положить конец долгому и жестокому конфликту. Признавая «нашу обязанность перед страной по использованию оружия для спасения жизней американцев в войне с Японией», они сперва рассмотрели мнения коллег-ученых, а затем изложили свое собственное:
Те, кто призывает к чисто технической демонстрации, хотели бы поставить применение атомного оружия вне закона и опасаются, что применение такого оружия сейчас повредит нашей позиции на будущих переговорах. Другие подчеркивают возможность спасения американских жизней путем немедленного военного применения и полагают, что такое применение приведет к улучшению будущего международного положения, поскольку в нем будет уделяться больше внимания предотвращению войны, нежели уничтожению этого конкретного оружия. Мы, со своей стороны, склоняемся к взглядам последних; мы не можем предложить технической демонстрации, которая с большой вероятностью могла бы обеспечить окончание войны; мы не видим приемлемой альтернативы прямому военному применению[2821].
Бомба должна была доказать японцам, что Потсдамская декларация – не пустые слова. Она должны была потрясти их настолько, чтобы они капитулировали. Она должна была послужить предупреждением для русских и, говоря словами Стимсона, «остро необходимым уравнителем»[2822]. Она должна была показать миру, что его ждет: в 1944 году Лео Сцилард рассматривал было такую аргументацию, но в 1945-м заключил, что, исходя из соображений морали, бомбу нельзя использовать, а исходя из соображений политических – ее следует держать в секрете. В начале 1945 года Теллер вновь вызвал эти доводы к жизни в несколько измененном виде, отвечая на петицию против применения бомбы, которую Сцилард распространял тогда среди ученых Манхэттенского проекта:
Прежде всего позвольте мне сказать, что я не надеюсь очистить свою совесть. То, над чем мы работаем, настолько ужасно, что никакие заверения и политические игры не смогут спасти наши души…
Но Ваши возражения меня не вполне убеждают. Мне не кажется, что объявление какого-либо оружия вне закона вообще возможно. Если у нас есть хоть малейший шанс на выживание, он состоит в возможности уничтожения войн. Чем более решающим будет оружие, тем больше уверенность, что оно будет использовано в реальных конфликтах, и никакие соглашения этого не изменят.
Наша единственная надежда – в сообщении людям о том, чего мы достигли. Возможно, это убедит всех, что следующая война будет гибельной для всех. С этой точки зрения реальное боевое применение может быть самым лучшим средством[2823].
Кроме того, бомба должна была оправдать собственную стоимость, дать конгрессу подтверждение, что 2 миллиарда долларов были потрачены не впустую, и не позволить Гровсу и Стимонсу попасть в Ливенвортскую тюрьму.
«Возможность предотвращения гигантской затяжной бойни, – резюмирует в своей истории Второй мировой войны Уинстон Черчилль, – прекращения войны, дарования всему миру мира, излечения ран измученных народов при помощи демонстрации подавляющей мощи ценой нескольких взрывов казалась, после всех наших трудов и опасностей, чудесным избавлением»[2824].
Эти несколько взрывов отнюдь не показались чудом избавления гражданским жителям вражеских городов, на которые должны были быть сброшены бомбы. Если посмотреть на дело с их точки зрения – на что они, несомненно, имеют право, – можно сказать об этих поводах еще кое-что. Применение бомб было разрешено не потому, что Япония отказывалась капитулировать, но потому, что она отказывалась капитулировать безоговорочно. Тот провал, к которому привел заключенный с оговорками мир, завершивший Первую мировую войну, породил требование безоговорочной капитуляции во Второй: мрачная тень более раннего конфликта простерлась далеко в будущее. «Именно требование безоговорочной капитуляции является корнем всех несчастий, – пишет занимавшаяся вопросами этики оксфордский философ Г. Е. М. Энском в своем памфлете 1957 года, в котором она протестовала против присуждения Гарри Трумэну почетной ученой степени. – Связь между таким требованием и потребностью в применении самых зверских методов ведения войны должна быть очевидна. Да и само по себе предложение неограниченных целей войны следует признать глупым и варварским».
Как и Первая, Вторая мировая война стала для всех участвовавших в ней стран именно такой – глупой и варварской. «Люди, выбирающие средством достижения своей цели уничтожение невиновных, – прямолинейно добавляет Энском, – всегда совершают убийство, а убийство есть одно из худших человеческих действий… При бомбардировке [японских] городов, несомненно, было решено использовать уничтожение невиновных в качестве средства достижения цели»[2825]. Решение японских милитаристов вооружить японский народ бамбуковыми копьями и послать их в смертный бой с огромной силой вторжения ради защиты родины тоже, несомненно, было решением сделать уничтожение невиновных средством достижения цели.
Варварство охватило не только солдат на поле боя и офицеров генеральных штабов. Оно проникло в гражданскую жизнь всех стран – Германии и Японии, Британии, России и, несомненно, Соединенных Штатов. Именно в этом, видимо, была главная причина того, что Джимми Бирнс, политик из политиков, и Гарри Трумэн, человек из народа, не колебались сами – и не колебались приказывать другим – применять оружие массового уничтожения против гражданского населения незащищенных городов. «Такова психология американского народа, – решил в конце концов И. А. Раби. – Я оправдываю ее не военными причинами, а существованием этого военного духа, одобряемого американским народом»[2826]. Этот дух, утверждает историк Герберт Фейс, содержал в себе «нетерпеливое стремление покончить с напряжением войны в смеси с жаждой победы. Они мечтали разделаться с необходимостью громить, жечь, убивать, умирать, – и их злило упрямое, безумное, бессмысленное затягивание этой муки»[2827].
В 1945 году журнал Life был ведущим журналом для широкой публики в Соединенных Штатах. Он обеспечивал новостями и развлечениями миллионы американцев – приблизительно так же, как десятилетие спустя этим начало заниматься телевидение. Дети жадно читали его и выступали на уроках с изложением его материалов. В последнем перед применением Соединенными Штатами атомной бомбы выпуске Life появилась иллюстрированная заметка на один разворот, название которой, набранное прописными буквами с кеглем 48 пунктов, было «горящий японец»[2828]. Те, кто сумел отвести взгляд от шести черно-белых фотографий размером с почтовую открытку, изображавших сгорающего заживо человека, на достаточно долгое для чтения время, могли прочитать краткий текст смаковавший ужас описываемых событий и в то же время сетовавший на их суровую необходимость:
Когда 7-я австралийская дивизия высадилась на острове Борнео возле Баликпапана, ее солдаты обнаружили там маленький город с сильной японской обороной. Как обычно, враги стреляли из пещер, из блиндажей, из любых мест, где могли спрятаться. И, как обычно, был только один способ преодолеть их сопротивление – выжечь их огнем. Солдаты 7-й, уже сражавшиеся до этого с японцами, быстро взялись за свои огнеметы и вскоре убедили некоторых из японцев, что им пора сдаваться. Другие, как тот, что изображен здесь, отказались. Поэтому их вскоре повыжгли.
Хотя люди с незапамятных времен использовали огонь для борьбы друг с другом, огнемет – гораздо более жестокое, более ужасающее оружие, чем любое другое. Если он не удушает врага прямо в том месте, где он прячется, то быстро лижущие языки его пламени поджаривают тело неприятеля до черной ломкой корки. Но пока японец отказывается вылезти из своего логова и продолжает убивать, другого средства нет.
На одном развороте журналу Life удалось создать жестокую аллегорию характера позднего этапа войны на Тихом океане.
«Малыш» был готов 31 июля. В нем не хватало только четырех сегментов кордитового заряда[2829]. Эта мера предосторожности была разработана в Лос-Аламосе[2830], но решение о ее использовании было принято уже на Тиниане: она была нужна для обеспечения безопасности при взлете и на случай невозможности визуальной бомбардировки, в котором по распоряжению Тиббетса бомбу следовало вернуть на базу[2831]. В этот последний день июля три из пятнадцати имевшихся у Тиббетса В-29 выполнили последний тренировочный полет с макетом «Малыша». Они взлетели с Тиниана, собрались в условленной точке над Иводзимой, вернулись к Тиниану, сбросили устройство L6 в море и произвели свой рискованный маневр поворота в пике. «По завершении этой тренировки, – пишет Норман Рамзей, – все этапы подготовки к боевому применению “Малыша” с активным материалом были завершены»[2832]. Устройство значилось под номером L11, и прочный держатель «мишени» из вольфрамовой стали, привинченный к дулу его «пушки», был лучшим из имевшихся, первым, полученным в Лос-Аламосе. Перед тем как его обмазали космолином[2833] и отправили на Тиниан, он четырежды использовался в конце 1944 года в испытаниях запалов на ранчо Анкор.
Поскольку все было готово, Фаррелл сообщил Гровсу по телетайпу[2834], что боевой вылет может состояться уже 1 августа; в отсутствие возражений со стороны Гровса он предполагал, что директива Спаатса от 25 июля дает разрешение на подобное проявление инициативы. Генерал, командовавший Манхэттенским проектом, оставил толкование своего заместителя без возражений. «Малыш» вылетел бы 1 августа, если бы не помешал тайфун, приближавшийся в этот день к Японии.
Итак, для вылета недоставало только погоды. В четверг 2 августа[2835] из Нью-Мексико прибыли три В-29 с частями сборок для «Толстяка». Сборочная бригада ученых из Лос-Аламоса и военных специалистов по боеприпасам немедленно взялась за подготовку одного «Толстяка» для пробного бомбометания[2836] и второго, с более высококачественными взрывчатыми отливками, для боевого применения. Комплект третьей сборки предполагалось оставить в резерве для плутониевого сердечника, который должны были отправить из Лос-Аламоса в середине августа. «К 3 августа, – вспоминает Пол Тиббетс, – мы следили за погодой и сравнивали ее с [долгосрочными] прогнозами. Реальная погода почти точно совпадала с прогнозами, так что мы взялись за работу»[2837].
В числе других задач этой работы был инструктаж экипажей семи В-29 509-й группы, которые должны были участвовать в первом налете и проводить метеоразведку, наблюдение и бомбардировку. Тиббетс назначил инструктаж на 15:00 4 августа. Экипажи прибыли на место между 14 и 15 часами и обнаружили, что барак, в котором проводились инструктажи, полностью окружен военной полицией, вооруженной карабинами. Тиббетс вошел в зал ровно в 15:00; он только что вернулся с осмотра самолета, который должен был доставить «Малыша». Это был В-29 номер 82, пока не имевший собственного названия; обычно его пилотировал Роберт Льюис. На подиуме к нему присоединился Дик Парсонс. Один радист, сержант Эйб Спитцер, вел дневник своего пребывания на Тиниане (это было запрещено) и описал в нем этот инструктаж[2838].
Час настал, сказал Тиббетс собравшимся экипажам. Оружие, которое они должны вскоре применить, было успешно испытано в Соединенных Штатах; теперь они сбросят его на врага.
Два офицера разведки сняли шторку с классной доски, бывшей за спиной командира 509-й группы. Там обнаружились аэрофотоснимки целей: Хиросимы, Кокуры и Нагасаки. Ниигата была исключена из списка, видимо в связи с погодой. Тиббетс назвал цели и назначил три экипажа – «щупы», – которые должны были в день бомбардировки вылететь первыми и оценить облачное покрытие. Еще два самолета должны были сопровождать его для фотосъемки и наблюдений; седьмой должен был ждать в запасе у загрузочной ямы на Иводзиме, на случай неисправности самолета Тиббетса.
Командир 509-й представил Парсонса, который не стал тратить слов попусту. Он сказал экипажам, что бомба, которую они сбросят, – это новое слово в военном деле, самое разрушительное оружие в истории: по всей вероятности, она должна полностью уничтожить область порядка пяти километров в поперечнике.
Они были ошеломлены. «Это похоже на какой-то странный сон, – размышлял Спитцер, – пришедший в голову человеку со слишком живым воображением».
Парсонс собирался показать фильм об испытаниях «Тринити». Проектор не желал включаться. Потом он внезапно заработал и начал жевать пленку. Парсонс велел киномеханику выключить аппарат и стал импровизировать. Он описал взрыв в Хорнаде-дель-Муэрто: на каком расстоянии была видна вспышка, на каком был слышен взрыв, действие ударной волны, образование грибовидного облака. Он не сказал, откуда берется энергия бомбы, но описанные им подробности – человек, которого сбило с ног на расстоянии 9 километров, временное ослепление за 16 и 32 километра – привлекли безраздельное внимание его слушателей.
Потом слово снова взял Тиббетс. Он сказал им, что они теперь – элита экипажей ВВС. Он запретил им писать о задании домой или даже обсуждать его друг с другом. Он проинструктировал их по предстоящему вылету. Вероятно, сказал он, вылет состоится утром 6 августа. Офицер службы спасения на море рассказал о спасательных операциях. Тиббетс закончил мотивационной речью, и Спитцер пересказывает его заключительное слово в своем дневнике:
Сначала полковник сказал, что все то, что мы – в том числе и он сам – сделали до сих пор, – мелочи по сравнению с тем, что нам предстоит сделать теперь. Затем он сказал все то же, что говорят обычно, но говорил очень искренне: как он горд тем, что работает с нами, как высок наш боевой дух и как трудно было не знать, что мы делаем, возможно думая, что мы попусту тратим время, и пресловутая «штука» – всего лишь чья-то безумная выдумка. Для него лично – и, он уверен, для всех нас – великая честь, что нас выбрали для участия в этом задании, которое, сказал он – и все прочие шишки согласно закивали, когда он это сказал, – приблизит конец войны по меньшей мере на шесть месяцев. И казалось, что он действительно думает, что эта бомба закончит войну – и точка.
На следующее утро, в воскресенье, с Гуама сообщили, что назавтра погода над намеченными целями должна улучшиться. «В 14:00 5 августа, – отмечает Норман Рамзей, – генерал Лемей официально подтвердил, что вылет сотоится 6 августа»[2839].
В этот день загрузочная бригада подняла «Малыша» лебедкой на прочную тележку, предназначенную для его перевозки, накрыла брезентом, чтобы спрятать его от любопытных глаз – на острове все еще прятались японские солдаты, и по ночам служба безопасности охотилась за ними, как за енотами, – и отвезла к одной из загрузочных ям размером 4 на 5 метров, которые подготовил Киркпатрик. За тележкой следовал целый отряд фотографов, которые запечатлели всю эту процедуру. Тележку закатили на рельсы, положенные над ямой почти трехметровой глубины; гидравлический подъемник снял с нее бомбу и ее съемную подставку; бригада откатила тележку, сняла рельсы, развернула бомбу на 90° и опустила ее в яму[2840].
Первая в мире боевая атомная бомба была похожа на «вытянутый мусорный бак с плавниками»[2841], считал один из членов экипажа Тиббетса. Вместе со скошенным хвостовым оперением, которое заканчивалось коробом стабилизирующих отражателей, она имела 3 метра в длину и 74 сантиметра в диаметре. Это был бронированный цилиндр в оболочке из тусклой черной стали весом 4400 килограммов, с плоским, закругленным носом. Бомба была оборудована системой с тройным взрывателем. Главным взрывателем был радиолокационный модуль, который был создан на основе радара защиты хвоста, разработанного, чтобы предупреждать пилота в воздушном бою о приближении сзади вражеских самолетов. «Это радиолокационное устройство, – говорится в технической истории Лос-Аламоса, – замыкало реле [т. е. выключатель] на заранее определенной высоте над целью». Для надежности на «Малыше» и «Толстяке» было предусмотрено по четыре таких радарных устройства, которые прозвали «Арчи». Установленные на бомбе «Арчи» должны были выдавать сигнал не при приближении вражеского самолета, а при подлете бомбы к земле. Согласованное срабатывание двух таких модулей приводило к подаче пускового сигнала на следующую ступень системы взрывателя, объясняет техническая история:
Эта ступень состояла из батареи выключателей с часовым механизмом, который запускался при вытягивании предохранительной чеки в момент сброса бомбы из бомбового отсека самолета. Выключатели с часовым механизмом могли замкнуться не раньше чем через 15 секунд после отделения бомбы от самолета. Они должны были исключить возможность детонации в случае срабатывания модулей «А[рчи]» по сигналам, отраженным от самолета. Второе предохранительное устройство представляло собой реле [барометрического] давления, которое замыкалось только при давлении, соответствующем высоте 2100 метров[2842].
Пройдя через часовые механизмы и барометрические предохранители, инициирующий импульс «Малыша» поступал прямо в запалы, которые воспламеняли заряды кордита, приводящие в действие «пушку». Система взрывателей выходила на внешнюю поверхность в виде проволочных плетей радиолокационных антенн, предохранительных чек часовых механизмов, вставленных в отверстия в верхнем поясе бомбы и отверстия в ее конической хвостовой части: через них внутрь попадал окружающий бомбу воздух, что обеспечивало точность измерений давления.
Загрузка была операцией деликатной: бомба входила в отсек самолета с очень небольшим зазором. Наземный экипаж подкатил В-29 к загрузочной яме, так, чтобы шасси крыла, ближайшего к яме, встало на поворотную платформу. Когда тягач развернул самолет на поворотной платформе на 180°, он оказался над ямой. Гидравлический подъемник поднял «Малыша» так, чтобы он оказался прямо под открытыми створками бомболюка. К бомбодержателю был подвешен отвес, служивший точкой привязки, а домкраты, встроенные в подставку бомбы, позволяли точно совместить ее с проемом бомболюка.
«Эта операция может быть выполнена за 20–25 минут, – писал в своем августовском отчете инженер компании Boeing, – но требует весьма осторожной работы, так как расстояние до мостков очень невелико, а после установки бомбу удерживает только один бомбодержатель и регулируемые тросовые захваты, подвешенные к нему»[2843].
Хотя Роберт Льюис считал В-29 номер 82 своим самолетом, он так и не дал ему никакого имени. В день загрузки Тиббетс поговорил с офицерами экипажа Льюиса – но не с самим Льюисом – и восполнил этот недостаток. Командир 509-й группы предпочел нанести на фюзеляж самолета не обычное в таких случаях изображение какой-нибудь красотки или хлесткую фразу, а имя своей матери, Энолы Гей, потому что, когда он спорил с отцом о своем решении стать летчиком, именно она сказала ему, что служба в авиации его не убьет. «Долгие годы, – сказал Тиббетс в одном из интервью, – каждый раз, когда мне приходилось трудно в полете, я вспоминал ее спокойную уверенность. Это помогало. А когда я готовился к своему главному вылету, я редко думал о том, что может случиться, но когда думал, мамины слова помогали отбросить эти мысли». Он «написал что-то на клочке бумаги»[2844], нашел среди обслуживающего персонала художника – которого пришлось вытащить с поля посреди матча по софтболу – и велел ему «нарисовать это на ударном борту, красиво и крупно»[2845]. На тупоконечном носу самолета, под фонарем пилотской кабины, появилась наклоненная на 30° надпись рублеными 30-сантиметровыми буквами – две части имени были расположены друг под другом и выровнены по правому краю.
Льюис, коренастый, воинственный летчик весом около 90 килограммов, уже день или два как знал, что Тиббетс полетит на это задание пилотом; он был огорчен этим, но все равно продолжал считать особый В-29 своим самолетом. Ближе к концу дня он зашел осмотреть его и, обнаружив на фюзеляже надпись «энола гей», пришел в ярость. «Какого черта это делает на моем самолете?»[2846] – заорал он, как вспоминает один из членов его экипажа. Узнав, что это сделано по распоряжению Тиббетса, он отправился выяснять с ним отношения. Командир 509-й спокойно сказал ему, намекая на свое вышестоящее положение, что не думал, что подчиненный ему офицер будет против. Льюис был очень даже против, но ему оставалось только сохранить свое недовольство в запасе для послевоенных рассказов.
«К ужину пятого числа, – рассказывает Тиббетс, – все [подготовительные работы были] завершены. Атомная бомба была готова, самолеты заправлены и проверены. Взлет был назначен на [2:45] ночи. Я пытался поспать, но мне все время мешали посетители. [Штурман “Энолы Гей” капитан Теодор Дж. Ван Керк по прозвищу] Голландец проглотил две таблетки снотворного, а потом играл всю ночь в покер, так и не сомкнув глаз»[2847]. Оружие, ждавшее в самолете, действовало на нервы.
«Последний инструктаж был назначен на 00 часов 00 минут 6 августа»[2848], – отмечает Рамзей, в полночь. Тиббетс подчеркнул мощность бомбы, напомнил всем надеть поляризованные очки, которые им выдали, а также выполнять приказы и не отступать от инструкций. Военный синоптик предсказывал в районе целей умеренный ветер и облачность, которая должна была расчиститься на рассвете. Тиббетс дал слово протестантскому капеллану, и тот прочитал молитву, составленную специально для этого случая на оборотной стороне конверта. Он просил Всевышнего «быть с теми, кто бросает вызов высотам небес Твоих и обращает битву против врагов наших»[2849].
После полуночного инструктажа экипажи съели ранний завтрак – яичницу с ветчиной и ананасные пышки, которые особенно любил Тиббетс. Завтрак привезли на грузовиках прямо на самолетные стоянки. На стоянке «Энолы Гей», пишет Рамзей, «в ярком свете прожекторов постоянно снимали фотографы и кинооператоры (как будто на голливудской премьере)»[2850]. На одной из фотографий десять из двенадцати членов экипажа ударного самолета позируют в летных комбинезонах под передней частью фюзеляжа, возле носового шасси: похожий на мальчишку Ван Керк в пилотке и расстегнутом на груди комбинезоне, из-под которого виднеется белая футболка; майор Томас Фереби, бомбардир, красавец, похожий на Эррола Флинна и с усами как у Эррола Флинна, по-дружески положил руку на плечо Ван Керку; аккуратный, подтянутый Тиббетс стоит в самом центре, засунув руки в карманы, с непринужденной улыбкой на губах; слева от Тиббетса – Роберт Льюис, единственный член экипажа, у которого есть при себе оружие; рядом с Льюисом принужденно улыбается невысокий, жилистый лейтенант Джейкоб Безер, техник еврейского происхождения из Балтимора, которого включили в состав экипажа на это задание, – он отвечал за меры радиоэлектронной борьбы и должен был обеспечить маскировку модулей «Арчи» от японских радаров. Перед офицерами сидят на корточках сержанты и рядовые, более худые и в основном более молодые (хотя молоды были все члены экипажа – Тиббетсу было всего тридцать): оператор радара, сержант Джозеф Стиборик; хвостовой стрелок, старший сержант Роберт Кэрон, родом из Бруклина, в бейсболке команды «Бруклин Доджерс»; радист, рядовой Ричард Р. Нельсон; помощник бортинженера, сержант Роберт Г. Шумард; бортинженер, старший сержант Уайат Дьюзенбери, тридцати двух лет, бывший лесник из Мичигана, которому казалось, что бомба похожа на ствол дерева. Одиннадцатый член экипажа, лейтенант Моррис Джепсон, должен был помогать Дику Парсонсу в окончательной подготовке «Малыша» и наблюдении за ним. Парсонс, двенадцатый член экипажа, отказался фотографироваться, но летел на это задание в качестве инженера-оружейника.
Три самолета метеоразведки и два запасных, которые должны были ждать на Иводзиме, уже улетели. В 02:27 Тиббетс скомандовал Дьюзенбери запустить двигатели. Командир корабля и второй пилот сидели бок о бок чуть позади от той точки, в которой цилиндрический фюзеляж начинает закругляться к центру, образуя нос в форме пули. Фереби, бомбардир, сидел перед ними, в самом носу, на одну ступень ниже: его место было более опасным, но обеспечивало лучший обзор. Почти всё внутри самолета было выкрашено в тусклый лимонно-зеленый цвет. «Если слишком не увлекаться полетами воображения, – говорит Тиббетс, – можно было подумать, что это просто очередное задание». Он воспроизводит свой диалог с диспетчерской вышкой Тиниана, в котором его называют странными позывными, присвоенными в этот день «Эноле Гей», – «Рябой восемь-два»:
Я выкинул из головы атомную бомбу и сосредоточился на предполетной проверке.
Я вызвал вышку. «Рябой восемь-два – вышке “Северный Тиниан”. Прошу инструкций по выруливанию и взлету».
«Вышка “Северный Тиниан” – Рябому восемь-два. Взлет на восток с полосы А».
В конце рулежной дорожки – еще один вызов вышки и быстрый ответ: «Рябой восемь-два, взлет разрешаю».
Боб Льюис вел вслух обратный отсчет времени. Пятнадцать секунд до старта. Десять секунд. Пять секунд. Приготовиться[2851].
В этот момент «Энола Гей» весила 65 тонн. Она несла на борту 26 500 литров горючего и четырехтонную бомбу. Самолет был перегружен на 6800 килограммов. Тиббетс был уверен, что самолет подготовлен к полету слишком хорошо, чтобы возникли какие-либо неисправности, и решил максимально использовать трехкилометровую взлетную полосу для набора оборотов двигателей и давления в коллекторах перед отрывом от земли.
В 2:45 он отпустил тормоза; все четыре инжекторных двигателя «Циклон» фирмы Wright уже работали. «При разгоне перед взлетом у В-29 возникает большой крутящий момент, – отмечает он. – Самолет стремится отклониться от взлетной полосы влево. Обычные, не особо талантливые пилоты компенсируют крутящий момент, притормаживая правые колеса. Разгон получается неровным, скорость снижается километров на пятнадцать в час, и взлет затягивается». Такие грубые методы были не для Тиббетса. «Пилотов 509-й группы учили компенсировать крутящий момент путем большего разгона левых двигателей, которым давали больше газа, чем правым. На ста тридцати километрах в час, когда руль направления полностью контролирует движение самолета, нужно довести мощность правых двигателей до полной, и через мгновение самолет оказывается в воздухе»[2852]. Перегруженной «Эноле Гей» потребовалось для взлета больше чем мгновение. По мере того как взлетная полоса исчезала под брюхом огромного самолета, Льюис боролся с желанием потянуть штурвал на себя. В самый последний момент, когда это еще было возможно, ему показалось, что он это сделал. На самом деле это сделал не он, а Тиббетс, и внезапно они уже летели, поднимались над черным морем, осуществляя древнюю мечту человечества.
Десять минут спустя они пересекли северную оконечность Сайпана, идя на один румб к северу от северо-запада на высоте 1400 метров[2853]. За бортом было тепло – 22 °C. Самолет летел так низко, чтобы не расходовать лишнего топлива на набор высоты и для удобства двух оружейников, Парсонса и Джепсона, которым нужно было забраться в негерметичный и неотапливаемый бомбовый отсек, чтобы закончить сборку бомбы.
Эта работа началась в 3:00. Поскольку выполнялась она в тесноте загруженного бомбового отсека, она была трудной, но не опасной; риск взрыва был минимальным. В бомбу были вставлены зеленые заглушки, которые блокировали инициирующий импульс и исключали случайную детонацию; прежде всего Парсонс убедился в их наличии. Затем он отсоединил заднюю панель, снял расположенную под нею бронированную панель и обнажил затвор «пушки». Вставив гаечный ключ в крышку затвора, он повернул его около шестнадцати раз, чтобы отвинтить крышку, снял ее и осторожно положил на резиновый коврик. Затем он поочередно вставил в затвор четыре блока кордита, развернув их красными концами к затвору. Установив крышку на место и завинтив ее, он подсоединил провод взрывателя, снова поставил на место две металлические панели и, с помощью Джепсона, убрал и закрепил инструменты и мостки. «Малыш» был в сборе, но еще не приведен в боевую готовность. Установка зарядов заняла пятнадцать минут. Еще пятнадцать минут они потратили на проверку проводки контрольной аппаратуры, установленной на рабочем месте оружейника в носовом отсеке. После этого, если не считать контроля состояния бомбы, их работа была закончена до того момента, когда бомбу нужно будет приводить в состояние боевой готовности[2854].
Роберт Льюис вел дневник полета. Прикомандированный к Манхэттенскому проекту редактор отдела науки New York Times Уильям Л. Лоуренс прибыл на Тиниан, надеясь участвовать в этом вылете. Узнав, к своему жестокому разочарованию, что его участие отменено, он попросил Льюиса делать заметки. Второй пилот вел их в форме письма матери и отцу, но, видимо, понимал, что через плечо ему будет заглядывать весь мир, и добавил в свои записи толику традиционного для ВВС панибратства. «Через сорок пять минут после вылета с базы, – застенчиво начал он, – все заняты делом. Полковник Тиббетс трудится над обычными операциями, которые должен выполнять пилот В-29. Капитан Ван Керк, штурман, и сержант Стиборик, радист, постоянно переговариваются друг с другом, определяя наши координаты относительно северных Марианских островов и проверяя направление и силу ветра при помощи радара»[2855]. Как ни странно, ни слова о Парсонсе или Джепсоне, хотя через круглый иллюминатор, расположенный под соединительным туннелем прямо за креслом второго пилота, Льюис мог видеть бомбу, подвешенную в бомбовом отсеке.
Тиббетс вывел самолет на высоту менее 1500 метров и передал управление автопилоту, прозванному Джорджем. Как отмечает Льюис, командир почувствовал усталость: «По полковнику, более известному под прозвищем Старый Бык, видно, что у него был тяжелый день. С учетом всего того, что он сделал, чтобы этот вылет состоялся, он вполне заслужил немного подремать, так что я сейчас перекушу и буду присматривать за Джорджем»[2856]. Тиббетс, однако не стал спать, а пополз по десятиметровому туннелю поговорить с членами экипажа, летевшими в задних отсеках: ему было интересно, знают ли они, что везут. «Кошмар химика», – предположил хвостовой стрелок Роберт Кэрон, затем предложил другую догадку: «Кошмар физика». – «Не совсем», – уклончиво ответил Тиббетс. Когда Тиббетс уже отправлялся назад, Кэрон наконец сообразил, что к чему:
[Тиббетс] провел у меня еще некоторое время, а потом пополз вперед по туннелю. Я вспомнил еще кое-что и, как раз когда Старик почти совсем исчез из виду, потянул его за ногу, которая еще торчала из туннеля. Он поспешно выскользнул обратно, решив, что что-то не так. «В чем дело?»
Я посмотрел на него и спросил: «Полковник, мы сегодня расщепляем атомы?»
На этот раз он посмотрел на меня по-настоящему странно и сказал: «Да, что-то в этом роде».
Благодаря третьей попытке Кэрона, которую он назвал «счастливой догадкой»[2857], Тиббетс, по-видимому, принял решение завершить инструктаж экипажа. Вернувшись в свое кресло, он включил переговорное устройство, сказал «Внимание!» и, как он вспоминает, произнес что-то вроде: «Ну что же, мальчики, вот и последний кусочек головоломки»[2858]. Они везут атомную бомбу, сказал он им, первую, предназначенную для сброса с самолета. Они не были физиками; они понимали по меньшей мере, что это оружие отличается от всего того, что когда-либо применялось на войне.
Льюис отключил Джорджа от управления, чтобы пробраться сквозь высокие массивы кучевых облаков, черных в ночной темноте; за ними открывалось небо, усеянное звездами. «В 4:30, – записал он, – мы увидели на востоке отблески поздней луны. Я думаю, всем нам будет легче, когда мы оставим бомбу японцам и будем на полпути к дому. А еще лучше – уже дома». Фереби, сидевший в носу, молчал; Льюис подозревал, что он думает о доме, «на Среднем Западе старых добрых Штатов». На самом деле бомбардир был родом из Моксвилла, штат Северная Каролина, но, с точки зрения уроженца Нью-Йорка, это был практически Средний Запад. Вскоре после 5 часов их обрадовали первые проблески зари; «сейчас кажется, – записал Льюис, выходя из облачности, – что нам предстоит долгий период спокойного полета»[2859].
В 5:52 они подлетели к Иводзиме, и Тиббетс начал подъем до 2800 метров, к точке встречи с самолетами метеоразведки и аэрофотосъемки. «Энола Гей» описала над Иводзимой круг против часовой стрелки, нашла два самолета сопровождения и полетела дальше, по-прежнему курсом чуть севернее северо-запада, к архипелагу зеленых островов, который люди называли Империей.
«После Иводзимы начали попадаться низкие слоистые облака, – продолжает свой рассказ Льюис, – и вскоре мы уже летели над слоем облачности. В 7:10 в облачности стали появляться некоторые разрывы. Если не считать тонких перистых облаков в высоте и облачности внизу, день очень ясный. До точки сброса бомб остается теперь часа два»[2860]. Они влетели в историю через промежуточный мир, между морем и небом, попивая кофе и закусывая бутербродами с ветчиной; в самолете стоял гул двигателей и запах разогретой электроники.
В 7:30 Парсонс в последний раз заглянул в бомбовый отсек, чтобы привести «Малыша» в боевое состояние: для этого он заменил зеленые заглушки на красные и включил внутренние батареи бомбы. Тиббетс собирался начать 45-минутный набор высоты. Парсонс сказал Тиббетсу, что «Малыш» «готов». Эти слова услышал Льюис:
Теперь бомба существовала отдельно от самолета. Это было странное ощущение. Мне казалось, что бомба живет своей жизнью, не имеющей к нам никакого отношения. Мне хотелось, чтобы все закончилось и мы снова оказались в этой же точке, но уже на обратном пути на Тиниан[2861].
«Ну, ребята, осталось недолго»[2862], – добавил второй пилот, когда Тиббетс увеличил мощность двигателей для набора высоты.
В 8:15 (7:15 по хиросимскому времени) пришло сообщение от самолета метеоразведки, который обнаружил возле Хиросимы 20-процентную облачность на малых и средних высотах и 20 % на 4500 метрах. Затем пришли метеосводки с двух других целей. «Первая цель выглядит лучше всего, – с энтузиазмом записал Льюис, – так что, поскольку пока что все идет хорошо, мы летим бомбить Хиросиму»[2863]. «Летим в Хиросиму»[2864], – объявил экипажу Тиббетс.
В 8:40 они закончили подъем и перешли в горизонтальный полет на высоте 9500 метров. Самолет загерметизировали и, поскольку температура воздуха на этой высоте составляла –23 °C, включили отопление. Десять минут спустя они достигли берега Сикоку, менее крупного острова Японского архипелага, расположенного к востоку от Хиросимы. Сам город лежит на обращенном на юго-восток берегу Внутреннего Японского моря, на краю острова Хонсю. «Мы приближаемся к цели, Фереби, Ван Керк и Стиборик занимаются своей работой, а мы с полковником остаемся наготове и помогаем им». То есть они корректировали курс и наводили самолет на цель. После этого Льюис был то ли слишком взволнован, то ли слишком занят: «А сейчас будет небольшой перерыв, пока мы бомбим цель»[2865]. Но бомбардировка цели и была главным событием.
Экипаж натянул тяжелые бронекостюмы, неуклюжую защиту, использовать которую летчики обычно считали ниже своего достоинства. К ним не приближался ни один японский истребитель, не было и зенитного огня.
Два самолета сопровождения отстали, чтобы дать «Эноле Гей» место для маневров. Тиббетс напомнил экипажу надеть защитные очки.
Никаких карт у них не было. Они изучили материалы аэрофотосъемки и хорошо знали город. В любом случае он был хорошо заметен, так как стоял в речной дельте, пересеченной каналами семи рукавов. «В двадцати километрах от цели, – вспоминает Тиббетс, – Фереби крикнул: “Я его вижу!” Он вцепился в свой бомбардировочный прицел и перехватил у меня управление самолетом для визуального прицеливания. Голландец [Ван Керк] продолжал выдавать мне поправки к курсу, определенные по радару. Он работал в связке с оператором радара… Я не мог связаться с ними по переговорному устройству, чтобы сказать, что самолетом управляет Фереби»[2866]. Бомбардир управлял самолетом при помощи своего бомбардировочного прицела: поворачивая рифленые ручки, он подавал автопилоту команды на небольшие изменения курса. Внутреннее море самолет пересек, идя курсом, который всего на 5° отклонялся к югу от направления строго на запад. К югу от себя Ван Керк заметил в хиросимской гавани восемь крупных кораблей. Путевая скорость[2867] «Энолы Гей» составляла в этот момент 285 узлов, то есть около 528 км/ч.
Над разветвлением реки Ота в центре Хиросимы стоит Т-образный мост, пересекающий реку и соединенный с островом, образованным двумя рукавами реки. Именно мост Айои, а не военный завод, окруженный домами рабочих, выбрал в качестве прицельной точки Фереби. Неподалеку находилась штаб-квартира 2-й армии. Тиббетс сказал, что мост был идеальной прицельной точкой[2868] из тех, какие ему приходилось видеть в течение всей этой чертовой войны:
Фереби успешно справился с ветром, но скорость слегка отличалась от расчетной. Он внес две небольшие поправки. По радио раздался громкий «бип», сообщивший двум В-29 сопровождения, что до сброса бомбы осталось две минуты. После этого Том поднял глаза от бомбардировочного прицела и кивнул мне; все должно было пройти хорошо.
Он дал радисту знак подать последнеепредупреждение. В эфир ушел длинный непрерывный сигнал, говоривший [самолетам сопровождения]: «Через пятнадцать секунд бросаем»[2869].
Находившиеся на большем расстоянии самолеты метеоразведки тоже получили этот сигнал, как и запасные В-29, стоявшие на Иводзиме. Услышав его, Луис Альварес, летевший в самолете наблюдения, приготовился снимать экраны осциллографов, которые он там установил; радиофицированные парашютные датчики, разработанные им для измерения мощности взрыва «Малыша», висели в бомбовом отсеке. Они должны были быть сброшены одновременно с бомбой и плавно спускаться к городу.
Томас Фереби видел в перекрестье своего бомбардировочного прицела Norden Хиросиму, разворачивающуюся под ним с востока на запад. Перед тем как вернуться в Соединенные Штаты для обучения 509-й авиагруппы, а потом и службы в ее составе, Фереби выполнил в Европе шестьдесят три боевых вылета. До войны он хотел быть бейсболистом и даже дошел до весенних отборочных испытаний в команде высшей лиги. Ему было двадцать четыре года.
«Радиосигнал прекратился, – лаконично говорит Тиббетс, – бомба выпала, Фереби отпустил свой прицел». Предохранительные чеки вышли из своих гнезд, запустив часовые механизмы «Малыша». Первая боевая атомная бомба отделилась от самолета и развернулась носом вниз. Она была расписана автографами и посланиями, в том числе непристойными. «Привет императору от моряков “Индианаполиса”», – гласило одно из них.
Резко став на четыре тонны легче, В-29 подпрыгнул вверх. Тиббетс перевел самолет в пике:
Я выключил автопилот и направил «Энолу Гей» в разворот.
Я натянул на глаза противобликовые очки. В них ничего не было видно; я как будто ослеп. Я бросил их на пол.
Самолет заполнил яркий свет. По нас ударила первая ударная волна.
Мы находились в восемнадцати с половиной километрах наклонной дальности от атомного взрыва, но весь самолет трещал и изгибался от удара. Я крикнул «Зенитки!», так как решил, что нас накрыла тяжелая артиллерийская батарея.
Хвостовой стрелок видел приближение первой волны – она создавала в атмосфере видимое мерцание, – но не понимал, что это такое, пока мы не ощутили удар. Когда пришла вторая волна, он предупредил нас о ней.
Мы развернулись, чтобы посмотреть на Хиросиму. Город был скрыт жутким облаком… кипящим, принимающим форму гриба, ужасным и невероятно высоким.
Некоторое время все молчали; потом все разом заговорили. Я помню, как Льюис бьет меня по плечу, повторяя: «Смотрите! Смотрите! Смотрите!» Том Фереби спросил, не станем ли мы все импотентами от радиоактивности. Льюис сказал, что у него во рту привкус ядерного деления. Он сказал, что на вкус оно похоже на свинец[2870].
«Ребята, – объявил Тиббетс по переговорному устройству, – вы только что сбросили первую в истории атомную бомбу»[2871].
Ван Керк ясно помнит две взрывных волны – прямую и отраженную от земли:
[Это было] очень похоже на то, что чувствуешь, если сесть на мусорный бак, а кто-нибудь ударит по нему бейсбольной битой… Самолет дернулся, подпрыгнул, и раздался звук, как будто раскололся кусок листового металла. Те из нас, кто много летал над Европой, подумали, что где-то очень близко к самолету разорвался зенитный снаряд[2872].
Кажущаяся близость взрыва стала одним из его отличительных признаков, так же как жар, показавшийся таким близким Филиппу Моррисону и его коллегам на испытаниях «Тринити».
Пока «Энола Гей» разворачивалась, пикировала и описывала круг, чтобы посмотреть на город, ее экипаж пропустил ранний этап развития светящейся области. Когда они снова взглянули на Хиросиму, ее закрывал удушливый полог. После войны Льюис сказал в интервью:
Я думаю, никто никогда не ожидал увидеть что-нибудь подобное. Там, где две минуты назад мы ясно видели город, никакого города больше не было видно. Мы видели дым и огонь, ползущие вверх по горным склонам[2873].
Ван Керк:
Если описывать это аналогией с чем-то знакомым, то это был котел с кипящим черным маслом… Я подумал: «Слава богу, война кончена, и в меня больше не будут стрелять. Я могу вернуться домой»[2874].
То же ощущение вскоре предстояло испытать сотням тысяч американских солдат и матросов, и они заработали его тяжелым трудом.
Пока самолет удалялся от места взрыва, хвостовой стрелок Роберт Кэрон долго смотрел назад:
Я все время фотографировал, в то же время стараясь разобраться в том, что творилось над городом. Все это время я рассказывал о том, что видел, по переговорному устройству… Сам гриб был поразительным зрелищем, пузырящейся массой фиолетово-серого дыма; было видно, что в нем есть красная сердцевина и внутри все горит. Когда мы отлетели подальше, стало видно основание гриба, и казалось, что внизу лежит тридцатиметровый слой обломков и дыма и всего такого.
Я пытался описать гриб, всю эту бурлящую массу. Я видел, как в разных местах вспыхивают пожары, как языки огня, возникающие на слое углей. Меня попросили их сосчитать. Я сказал: «Сосчитать?» Черт, я бросил это дело где-то на пятнадцати – они возникали так быстро, что за ними было не уследить. Я до сих пор вижу эту картину – этот гриб и эту бурлящую массу, – казалось, что весь город покрыла лава или патока, и она, казалось, растекалась наружу, вверх по склонам холмов, где на равнину выходят маленькие долины, и повсюду вспыхивали новые пожары, так что очень скоро из-за дыма нельзя было разглядеть почти ничего[2875].
Джейкоб Безер, специалист по радиоэлектронной защите, учившийся до призыва на инженера в Университете Джонса Хопкинса, уподобил тот хаос, который он увидел, зрелищу, которое можно встретить на морском берегу:
Город горел весь целиком. Это было похоже… знаете, когда на пляже взболтаешь песок на дне где-нибудь на мелководье и все взбаламучивается? Вот так это и выглядело, на мой взгляд[2876].
«Малыш» взорвался в 8 часов 16 минут и 02 секунды по хиросимскому времени[2877], через 43 секунды после отделения от «Энолы Гей», в 580 метрах над двором больницы «Сима», в 170 метрах к юго-востоку от моста Айои, который Томас Фереби выбрал к качестве прицельной точки. Мощность взрыва составила 12 500 тонн в тротиловом эквиваленте.
«В этом не было ничего личного»[2878], – говорил впоследствии Пол Тиббетс. Для Роберта Льюиса этот опыт не был безличным. «Даже если бы я прожил сто лет, – записал он в своем дневнике, – я никогда не сумел бы изгладить эти несколько минут из своей памяти»[2879]. Не смогли бы этого сделать и жители Хиросимы.
Перед глазами, словно в кошмаре,
языки пламени лизали человеческие тела.
Масудзи Ибусэ. Черный дождь[2880]
Поселение на островах в дельте реки Ота на юго-западе острова Хонсю[2881] называлось Асихара («камышовое поле») или Гокаура («пять деревень»), пока между 1589 и 1591 годами феодал Мори Тэрумото не построил там крепость, чтобы закрепить за собой выход своих родовых владений к Внутреннему Японскому морю. Крепость Мори получила название Хиро-сима-дзё, то есть «замок на широком острове», и это название постепенно распространилось и на поселок торговцев и ремесленников, выросший вокруг замка. Замок представлял собой 250-метровый прямоугольник из массивных каменных стен, защищенных широким прямоугольным рвом. Один из углов замка был украшен похожей на пагоду башней с пятью ярусами сужавшихся кверху крыш. Вскоре род Мори утратил свои владения в борьбе с более сильным родом Фукусима, а тот, в свою очередь, уступил их в 1619 году роду Асано. Асано благоразумно поддержали сёгунов из рода Токугава и благодаря этому союзу управляли княжеством Хиросима в течение следующих двух с половиной веков. В течение этого периода город процветал. Асано заботились о его постепенном расширении: мелководье речной дельты засыпали, чтобы соединить находившиеся в ней острова. В результате город, разделенный семью рукавами реки Ота на узкие и длинные части, приобрел форму вытянутой, раскрытой руки.
В 1868 году, после реставрации Мэйдзи и отмены системы феодальных кланов, княжество Хиросима превратилось в префектуру Хиросима. Как и по всей стране, в городе началась интенсивная модернизация. В 1889 году, когда Хиросима получила официальный статус города, ее мэром стал врач; численность населения, ликовавшего по этому поводу, составляла 83 387 человек. В том же году проводившиеся в течение пяти лет масштабные земляные и строительные работы завершились открытием порта Удзина. Этот гидротехнический проект превратил Хиросиму в крупный торговый порт. На рубеже веков в городе появились железные дороги.
К тому времени Хиросима и ее замок получили еще одну роль – военной базы. На территории замка и вокруг него разместились казармы 5-й дивизии Императорской армии. 5-я дивизия первой была отправлена в бой в 1894 году, когда начались военные действия между Японией и Китаем; порт Удзина стал крупным пунктом отправки войск и оставался им в течение следующих пятидесяти лет. В сентябре император Мэйдзи перенес свою штаб-квартиру в Хиросимский замок, из которого было удобнее руководить войной, и Имперский парламент собрался на внеочередное заседание в построенном там же временном парламентском здании. До апреля следующего года, когда ограниченная война на континенте закончилась победой Японии, получившей в результате ее Тайвань и южную часть Маньчжурии[2882], Хиросима была фактической столицей страны. Затем император вернулся в Токио, а город продолжил успешно развиваться[2883].
Следующий приток военных и промышленных инвестиций поступал в Хиросиму в первые три десятилетия XX века, по мере все большего вовлечения Японии в международные авантюры. К началу Второй мировой войны, отмечается в одном американском исследовании осени 1945 года, «Хиросима стала городом немалого военного значения. В ней находилась штаб-квартира 2-й армии, распоряжавшаяся обороной всей Южной Японии. Город был узлом связи, складским пунктом и местом сосредоточения войск. Как говорилось в одном японском отчете: «Вероятно, больше тысячи раз с начала войны жители Хиросимы провожали войска, покидающие гавань, криками “Банзай!”»[2884]. Именно из Хиросимы Генеральный штаб японской армии собирался в 1945 году руководить обороной Кюсю от ожидавшегося американского вторжения.
Ранее во время войны численность населения города приблизилась к 400 000, но угроза стратегической бомбардировки, зловеще откладывавшейся все далее, побудила власти провести несколько этапов эвакуации. К 6 августа в городе было от 280 000 до 290 000 местных жителей и около 43 000 военнослужащих. Учитывая это соотношение численности гражданского и военного населения – более шести к одному, – Хиросима не была, как обещал Трумэн в своем потсдамском дневнике, «чисто военной» целью. Однако нельзя сказать, что она не играла никакой роли в ведении войны.
«Было раннее утро, тихое, теплое и ясное, – начинает свой дневник событий, которые повлек за собой “Малыш”, врач Митихико Хатия, директор городской больницы Хиросимы. – Листья в моем саду блестели в солнечном свете, падавшем с безоблачного неба, и красиво выделялись на фоне тени»[2885]. В восемь часов утра было 27 °C, влажность 80 %, ветер слабый. Семь рукавов реки Ота текли мимо толп горожан, спешивших на работу пешком и на велосипедах. Трамваи, звеневшие возле универмага «Фукуя», находившегося в двух кварталах к северу от моста Айои, были переполнены. Тысячи солдат, раздетых до пояса, делали утреннюю зарядку на восточном и западном плацах, примыкавших к Хиросимскому замку, в одном длинном квартале к западу от Т-образного моста. Более восьми тысяч школьниц, которых призвали на работы днем раньше, работали в центре города: они помогали сносить строения, чтобы расчистить противопожарные полосы на случай бомбардировки зажигательными бомбами. В 7:09 была объявлена воздушная тревога – в небе появился метеоразведочный самолет 509-й группы, – но в 7:31 самолет улетел, и тревогу отменили. Незадолго до 8:15, когда были замечены еще три Би-сан, почти никто не пошел в убежище, хотя многие подняли глаза, чтобы посмотреть на летевшие высоко в небе серебристые машины.
«Как раз когда я посмотрела на небо, – вспоминает пятилетняя на тот момент девочка, находившаяся в безопасности в своем пригородном доме, – вспыхнул яркий белый свет, и в этом свете казалось, что зеленые растения стали цвета сухих листьев»[2886].
Ближе к взрыву иллюминация была более жестокой. Девушка, помогавшая расчищать противопожарные полосы, – она была тогда студенткой техникума – вспоминает: «Вскоре после того, как учительница сказала: “О, там летит Би!” – и мы посмотрели в небо, вспыхнула чудовищная молния. Мы моментально ослепли, и весь мир как будто впал в бешенство или исступление»[2887].
Еще ближе, в центре города, не осталось в живых никого, кто мог бы рассказать о световой вспышке; вместо свидетельств очевидцев нам приходится довольствоваться ограниченными данными позднейших расследований. Эверилл Э. Либов, патологоанатом с медицинского факультета Йельского университета, работавший в составе совместной американо-японской исследовательской комиссии через несколько месяцев после войны, рассказывает:
Вместе со вспышкой света произошла моментальная тепловая вспышка… Она длилась, вероятно, менее одной десятой секунды и была настолько интенсивной, что находившиеся поблизости воспламеняемые предметы… вспыхнули; столбы были обуглены на расстоянии до 3700 метров от эпицентра [т. е. точки, расположенной на земле непосредственно под светящейся областью взрыва]… На расстоянии 550–640 метров жар был настолько сильным, что раскалывал гранит или оставлял следы на его поверхности… Кроме того, жар вызвал вспучивание черепицы на расстоянии приблизительно до 1200 метров. На опыте было установлено, что для получения такого эффекта необходимо воздействие температуры порядка [1650 °C] в течение четырех секунд, но в этих условиях воздействие глубже проникает в материал. Это говорит о том, что при взрыве в Хиросиме температура была выше, а ее воздействие менее длительным[2888].
«Из-за того что жар вспышки появляется за такое короткое время, – добавляют авторы исследования, выполненного в рамках Манхэттенского проекта, – не успевает произойти какое-либо охлаждение, и за первую миллисекунду на расстоянии [3,7 км]… температура кожи человека может подняться на [50 °C]»[2889].
Последствия этого адского освещения, обладавшего в 800 метрах от эпицентра энергией, более чем в три тысячи раз большей, чем солнечный свет, блестевший на листьях в саду доктора Хатии, описываются в самом авторитетном исследовании бомбардировки Хиросимы, которое было начато в 1976 году с участием тридцати четырех японских ученых и врачей:
На месте взрыва[2890] температура… достигала [3000 °C]… причем случаи поражения первичным тепловым излучением атомной бомбы… были зарегистрированы у жертв, находившихся на расстоянии до [3,2 км] от эпицентра… Первичные ожоги представляют собой травмы особого рода, не похожие на обычные ожоги, встречающиеся в повседневной жизни[2891].
Это японское исследование разделяет первичные тепловые ожоги на пять степеней: первая степень соответствует красным ожогам, третья – белым ожогам, а пятая – сгоревшей и обугленной коже. Исследование выяснило, что «сильные тепловые ожоги выше 5-й степени возникали на расстоянии [от 1 до 1,6 км] от эпицентра… а ожоги 1–4 степени [возникали на расстоянии от 3,2 до 4 км] от эпицентра… Тепловая энергия чрезвычайно высокой интенсивности вызывает не только обугливание, но и испарение внутренних органов»[2892]. Таким образом, те, кто находился в пределах километра от светящейся области взрыва «Малыша», за долю секунды превратились в комки дымящейся черной плоти, а их внутренние органы полностью выкипели. «Доктор, – говорил несколько дней спустя один из пациентов Митихико Хатии, – поджаренный человек становится очень маленьким, не правда ли?»[2893] На дорогах, мостах и тротуарах Хиросимы остались тысячи черных комков.
В тот же момент в воздухе вспыхивали летящие птицы. Загорались и исчезали комары и мухи, белки и домашние животные. Подобно гигантской фотовспышке, огненный шар запечатлел город в момент возгорания на его же минеральных, растительных и животных поверхностях. Силуэт винтовой лестницы остался начертанным несгоревшей краской на поверхности стальной цистерны. Теневые силуэты листьев отпечатались на обугленных телеграфных столбах. От визитной карточки на рисовой бумаге, висевшей на двери школьного здания, осталась каллиграфическая надпись, словно нанесенная черной тушью. Человек оставил свой контур в уцелевшем граните на раскрошившемся крыльце банка. От другого, катившего тачку, остался на вскипевшем асфальте нетронутый участок в форме человека с тачкой. Дальше от эпицентра, в пригородах, вспышка вызывала темную, похожую на солнечный ожог пигментацию человеческой кожи с незатронутыми участками в тени носа и ушей или рук, которые напуганные люди поднимали к лицу. Либов и его коллеги стали называть такую пигментацию «маской Хиросимы». Они установили, что она оставалась на коже даже через пять месяцев после взрыва.
Мир мертвых не похож на мир живых, и заглянуть в него практически невозможно. В этот день в Хиросиме эти два мира почти сошлись вместе. «Районы, ближайшие к эпицентру, настолько захлестнуло смертью, – пишет американский психиатр Роберт Джей Лифтон, подробно расспрашивавший выживших, – что, если бы человек выжил на расстоянии тысячи метров от взрыва и вышел на улицу… более девяти десятых окружавших его людей были мертвы»[2894]. Рассказать о мертвых могут только живые, хоть и окруженные со всех сторон смертью; но ближе к эпицентру, в местах, где гибло девять человек из десяти – а часто и все десять, – рассказы живых не могли не быть искаженными. Выжившие остались похожими на нас; погибшие радикально изменились, остались без голоса, без прав, без помощи. Вместе с жизнью они лишились принадлежности к миру людей. «Стояла пугающая тишина, из-за которой казалось, что все люди, все деревья, все растения мертвы»[2895], – вспоминает выжившая хиросимская писательница Йоко Ота. Тишина была уделом мертвых. О них следует помнить, говоря о том, что случилось после этого с живыми. Они находились ближе к месту событий; они погибли потому, что принадлежали к другой государственной системе, и потому их гибель официально не считается убийством; то, что с ними произошло, наиболее точно представляет самый худший вариант нашего общего будущего. В тот день в Хиросиме они были в большинстве.
Речь по-прежнему шла только о вспышке, не об ударной волне. Хатия:
Я спросил доктора Кояму, что он обнаружил у пациентов с повреждениями глаз.
«У тех, кто смотрел на самолет, выгорело глазное дно, – ответил он. – Световая вспышка, по-видимому, проникала через зрачки и оставляла слепой участок в центральной части поля зрения.
Поскольку ожоги глазного дна по большей части третьей степени, лечение невозможно»[2896].
Немецкий священник-иезуит рассказывает об одном из своих братьев во Христе:
Отец Копп… стоял перед женским монастырем, собираясь пойти домой. Внезапно он заметил свет, почувствовал волну жара, и на его руке появился большой волдырь[2897].
Белый ожог с образованием волдыря соответствует ожогу третьей степени.
Затем к свету прибавилась ударная волна; тем, кто находился близко к взрыву, показалось, что они возникли одновременно. Другая ученица техникума говорит:
О, это мгновение! Мне показалось, что меня ударили в спину чем-то вроде большого молота и бросили в кипящее масло… Меня, видимо, отбросило далеко на север, и мне показалось, что все направления поменялись местами[2898].
Первая девушка из техникума, учительница которой сказала всем посмотреть вверх:
Вокруг непроглядная тьма; яркое красное пламя поднимается из глубин мрака и с каждой секундой распространяется все дальше. Лица моих друзей, которые всего секунду назад энергично работали, покрылись ожогами и пузырями, их одежда порвана в клочья; с чем сравнить то, как они, шатаясь, ковыляют вокруг меня? Наша учительница прижимает к себе своих учеников, как наседка, защищающая цыплят, – и ученики жмутся к ней, стараясь спрятать головы под ее руками, как маленькие цыплята, парализованные ужасом[2899].
Свет не обжег тех, кто был внутри зданий, но ударная волна добралась и до них:
В момент взрыва этот мальчик был в комнате на берегу реки и смотрел в окно на реку. В это мгновение, когда дом развалился на части, его отбросило из задней комнаты на другую сторону дороги, которая шла вдоль набережной, и он оказался на следующей улице. По пути он пролетел сквозь несколько окон, бывших внутри дома, и его тело было полностью покрыто осколками стекла. Поэтому он и был настолько залит кровью[2900].
Ударная волна, прошедшая первые несколько сотен метров от эпицентра со скоростью более трех километров в секунду и замедлившаяся затем до скорости звука, 340 метров в секунду, подняла огромное облако дыма и пыли. «Мое тело казалось совершенно черным, – сказал Лифтону один хиросимский физик, – и всюду кругом была темнота, полная темнота… Тогда я подумал: “Это конец света”»[2901]. Писательница Йоко Ота испытала такой же ужас:
Я просто не могла понять, почему все вокруг нас так сильно изменилось в одно мгновение… Я подумала, что это, возможно, не имеет никакого отношения к войне, что земля провалилась – как, говорят, это должно случиться при конце света[2902].
«В самом городе, – отмечает Хатия, который получил тяжелые ранения, – небо казалось покрашенным суми [т. е. тушью для каллиграфии], и видна была только резкая, слепящая вспышка света; за городом же небо было прекрасного золотисто-желтого цвета, и раздался оглушающий грохот»[2903]. Те, кого взрыв застал в городе, называли его словом пика, «вспышка», а те, кто находился на большем расстоянии от него, называли его пика-дон, «вспышка и гром».
Дома падали как подкошенные. Вспоминает ученик четвертого класса:
Меня отбросило по меньшей мере метров на семь, и, когда я открыл глаза, было так темно, как будто я уперся в покрашенную черным стену. После того постепенно стало светлеть, как будто кто-то отдирал слой за слоем тонкой бумаги. Первым, что я увидел после этого, была плоская земля, от которой поднимались только облака пыли. За это мгновение все разрушилось и превратилось в улицы обломков, многие и многие улицы развалин[2904].
Хатия с женой выбежали из своего дома за секунду до того, как он обрушился, и то, что они увидели, превратило их испуг в настоящий ужас.
Поскольку самый короткий путь на улицу лежал через соседний дом, туда мы и бросились. Мы бежали, спотыкались, падали и снова бежали, пока не запнулись обо что-то в этом слепом беге и не вывалились на улицу. Поднимаясь на ноги, я увидел, что споткнулся о человеческую голову.
«Извините! Извините, пожалуйста!» – истерически закричал я[2905].
Бакалейщик, которому удалось выбраться на улицу:
Люди выглядели… ну, у всех у них кожа почернела от ожогов… У них не было волос, потому что волосы сгорели, и с первого взгляда нельзя было понять, спереди или сзади ты на них смотришь… Они держали руки [перед собой]… и их кожа обвисала – не только на руках, но и на лицах и телах… Если бы таких было всего несколько человек… возможно, впечатление было бы не таким сильным. Но я встречал таких людей всюду, куда бы я ни пошел… Многие из них умирали прямо на улице – я до сих пор вижу их – как ходячие призраки… Они не были похожи на людей нашего мира… У них была особая походка – очень медленная… Я тоже был одним из них[2906].
Кожа обвисала на лицах и телах этих сильно обожженных людей, переживших взрыв, потому что тепловая вспышка моментально создала на ней волдыри, а ударная волна отделила ее от плоти. Говорит молодая женщина:
Я ясно услышала голос девочки, раздававшийся из-за дерева: «Помогите мне, пожалуйста». У нее полностью сгорела спина, а кожа на бедрах разорвалась и свисала вниз…
Спасатели… принесли домой [мою мать]. Ее лицо стало больше, чем обычно, губы сильно распухли, а глаза оставались закрытыми. Кожа на обеих руках свободно висела, как резиновые перчатки. Верхняя часть ее тела была сильно обожжена[2907].
Ученица техникума:
На обеих сторонах улицы из домов были вынесены постели и куски материи, и на них лежали люди, обгоревшие до красновато-черного цвета; все их тела ужасно распухли. Между ними пробирались три старшеклассницы; кажется, они могли быть из нашего училища. Их лица и все остальное совершенно сгорели, и они держали руки поднятыми к груди, как кенгуру, только кисти были обращены вниз. С их тел свисало что-то, похожее на тонкую бумагу, – это их отслоившаяся кожа. За ними тянулись несгоревшие остатки обмоток, которые были у них на ногах. Они ковыляли в точность как сомнамбулы[2908].