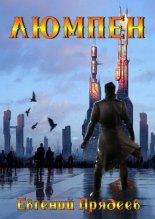Создание атомной бомбы Роудс Ричард
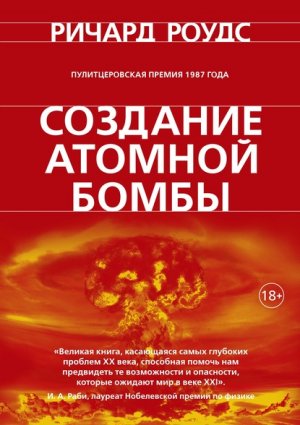
Я сказал ему, что стараюсь заставить ВВС ограничиваться точечными бомбардировками, но с учетом применяемого японцами метода рассредоточения промышленности отказаться от массированных бомбардировок весьма трудно. Я сказал ему, что эта особенность военных действий беспокоит меня по двум причинам: во-первых, я не хочу, чтобы Соединенные Штаты прославились зверствами, превосходящими гитлеровские; а во-вторых, я несколько опасаюсь, что ВВС полностью разбомбят Японию еще до того, как мы будем готовы, и нам будет негде должным образом продемонстрировать силу нового оружия. Он сказал, что понимает меня[2635].
В отсутствие Стимсона Бирнс быстро и решительно подчинил себе весь комитет. «Бирнс считал, что важно достичь окончательного решения по вопросу применения этого оружия»[2636], – вспоминал после войны протоколист Арнесон. Процесс принятия решения описан в протоколе, который он вел 1 июня:
М-р Бирнс рекомендовал, а комитет согласился сообщить военному министру, что, признавая, что окончательный выбор цели относится, по существу, к ведению военных, комитет полагает в настоящее время, что бомба должна быть применена против Японии как можно скорее; что она должна быть применена против военного производства, окруженного жилищами работников; и что она должна быть применена без предупреждения.
Оставалось передать это решение на утверждение президенту. Как только заседание Временного комитета было закрыто, Бирнс отправился прямо в Белый дом[2637]:
Я сообщил президенту об окончательном решении Временного комитета. Трумэн сказал мне, что, получив информацию о разработках комитета и рассмотрении альтернативных планов, он серьезно обдумывал эту тему в течение многих дней и вынужден признать, хотя и неохотно, что не может предложить никакой альтернативы и должен согласиться с рекомендацией комитета, о которой я ему рассказал[2638].
Пять дней спустя Трумэн встретился с военным министром. Как отметил Стимсон в своем дневнике, президент «сказал, что Бирнс уже сообщил ему о [решении Временного комитета] и что Бирнс, кажется, чрезвычайно доволен проделанной работой»[2639].
1 июня Гарри Трумэн не отдал приказа о применении атомной бомбы. Кажется, однако, что решение он принял именно тогда, причем не без помощи Джимми Бирнса.
После заседания Временного комитета 31 мая Роберт Оппенгеймер разыскал Нильса Бора. «На меня произвела глубочайшее впечатление мудрость генерала Маршалла, – вспоминал он в 1963 году, – а также министра Стимсона. Я поехал в британское представительство, встретился там с Бором и попытался его успокоить. Он, однако, был слишком мудр и опытен, чтобы успокоиться, и почти сразу же после этого уехал в Англию безо всякой уверенности относительно того, что теперь произойдет и произойдет ли что-нибудь»[2640].
Перед отъездом, в конце июня, Бор в последний раз попытался встретиться с высокопоставленным представителем правительства Соединенных Штатов – а именно Стимсоном. 18 июня Харви Банди отправил министру сообщение: «Не хотите ли Вы попытаться найти на этой неделе, до Вашего отъезда, время для встречи с датским профессором Бором?»
На полях этой записки Генри Стимсон написал жирными буквами – которые подчеркивали то ли его изнеможение, то ли раздражение, то ли понимание, что это дело полностью вышло из-под его контроля, – свой окончательный ответ: «Нет»[2641].
В том, что из всех возможных конструкций сработает по меньшей мере «Малыш», не сомневался никто. Эксперимент «Дракон» Отто Фриша доказал действенность цепной реакции на быстрых нейтронах в уране. Пушечный механизм был неэкономным и малоэффективным, но 235U – материал нетребовательный. Оставалось провести испытания имплозии. В процессе этих испытаний физики могли также сравнить свою теорию развития такого необычного высвобождения энергии с гигантским, ослепительным реальным событием. Испытания «Тринити» должны были стать крупнейшим из всех физических опытов, поставленных до этого момента[2642].
Тяжелая работа по поискам достаточно пустынной и изолированной площадки и ее подготовке выпала на долю физика-экспериментатора из Гарварда Кеннета Т. Бейнбриджа. Его задачей, как говорится в технической истории Лос-Аламоса, «было создать в безжизненной пустыне сложную научную лабораторию, причем в условиях строжайшей секретности и чрезвычайной спешки»[2643]. Бейнбридж хорошо подходил для такого дела. Он родился в Куперстауне, штат Нью-Йорк, в семье оптового книготорговца, работал у Эрнеста Резерфорда в Кавендишской лаборатории, а впоследствии спроектировал и построил гарвардский циклотрон, служивший теперь Манхэттенскому проекту на Холме. Летом 1941 года он привез Вэнивару Бушу сообщение об отчете комитета MAUD. Кроме того, он работал с радарами в МТИ и Великобритании. Летом 1943 года Роберт Бахер завербовал его в Лос-Аламос. Начиная с марта 1944 года, он стал ответственным за «Тринити».
Ему нужна была плоская пустынная площадка в месте с хорошим климатом, расположенная настолько близко к Лос-Аламосу, чтобы до нее было удобно добираться, но в то же время настолько далеко, чтобы связь между этими объектами не была слишком очевидной. Изучив карты, он отобрал восемь участков, в том числе полигон в пустыне Южной Калифорнии, покрытый дюнами участок в Мексиканском заливе у берегов Техаса, известный сейчас как остров Падре, и несколько безжизненных, сухих долин на юге Нью-Мексико. В мае 1944 года Бейнбридж с Робертом Оппенгеймером и группой армейских офицеров начали исследование площадок в Нью-Мексико, пробираясь по позднему снегу на легком грузовике. Как он вспоминает, они везли с собой еду, воду и спальные мешки, «следуя по не обозначенным на карте скотоводческим тропам мимо пустынных участков высохшей сельскохозяйственной земли, уплотнившейся за слишком много лет засух и сильных ветров»[2644]. Оппенгеймеру эта поездка дала редкую возможность сбежать от повседневных забот директора Лос-Аламоса; другого такого случая ему уже не представилось. Проведя несколько разведочных выездов, Бейнбридж выбрал поросший кустарником участок километрах в ста к северо-западу от Аламогордо, между Рио-Гранде и горами Сьерра-Оскура. При испанцах эта сухая и потому опасная местность получила зловещее название Хорнада-дель-Муэрто – «путь мертвеца», «маршрут смерти». Хорнада, расположенная в 337 километрах к югу от Лос-Аламоса, образовывала северо-западный сектор бомбардировочного полигона Аламогордо; получив согласие командующего 2-й воздушной армией Узала Энта, Бейнбридж выгородил из нее участок размером тридцать на сорок километров.
В связи с имплозивным кризисом осени 1944 года приоритет «Тринити» был понижен и, как говорит Бейнбридж, оставался «почти на нуле… до конца февраля 1945 года»[2645]. К тому времени физика бомбы была вполне освоена, и Оппенгеймер назначил испытания на 4 июля. Бейнбридж принялся за дело. За следующие пять месяцев его группа, сначала состоявшая из двадцати пяти человек, выросла более чем до двухсот пятидесяти. За крупные участки работы отвечали Герберт Андерсон, Ф. Б. Мун, Эмилио Сегре и Роберт Уилсон; Уильям Дж. Пенни, Энрико Ферми и в особенности Виктор Вайскопф исполняли обязанности консультантов.
Военные предоставили в их распоряжение ранчо Дэвида Макдональда, расположенное в центре Хорнады, и отремонтировали его для размещения полевой лаборатории и участка военной полиции. Километрах в трех к северо-западу от ранчо Макдональда Бейнбридж расположил нулевую отметку. Приблизительно к северу, западу и югу от этого центра, на расстоянии чуть более 9 км, подрядчики Инженерного корпуса построили земляные бункеры с крышами из бетонных плит, опиравшимися на дубовые балки, толщина которых была больше, чем у железнодорожных шпал. В северном бункере (N-10000), в 9 километрах от нулевой отметки, предполагалось установить записывающее оборудование и прожекторы; западный бункер (W-10000) предназначался для прожекторов и батарей высокоскоростных фотоаппаратов; южный бункер (S-10000) служил центром управления испытаниями. Еще в восьми километрах к югу от южного бункера выросли палатки и бараки базового лагеря.
На холме Компанья, находящемся в 32 километрах к северо-западу от нулевой отметки, на краю Хорнады, решили разместить наблюдательный пункт для высокопоставленных лиц. На востоке более чем на 1200 метров над высокогорным солонцовым плато поднимались горы Сьерра-Оскура.
В Хорнаде встречались мескитовые деревья и кусты юкки с листьями, острыми, как самурайские мечи, скорпионы и многоножки, которых по утрам приходилось вытряхивать из сапог, а также гремучие змеи, огненные муравьи и тарантулы. Военные полицейские охотились с пулеметами на антилоп – ради свежего мяса и просто для забавы. Гровс разрешил установить для своих подчиненных только холодные души; служа в столь изолированном месте, они вполне могли победить в соревновании на самый низкий уровень венерических заболеваний во всех американских вооруженных силах. Колодезная вода, загрязненная гипсом, была непревзойденным слабительным. Кроме того, она придавала жесткость волосам.
Подрядчики построили две вышки. Одну из них, расположенную в 720 метрах к югу от нулевой отметки, они собрали из тяжелых балок, таких же, какие использовались в бункерах. На верху вышки, на шестиметровой высоте, была широкая платформа, похожая на открытую танцплощадку. Однажды в начале мая, вернувшись из увольнения, в которое их отправили в приказном порядке, строители обнаружили, что вышка исчезла. Бейнбридж приказал нагрузить на нее 100 тонн взрывчатки в деревянных ящиках, сложил в центре канистры с раствором на основе радиоактивных стержней из Хэнфорда и взорвал всю эту конструкцию перед рассветом 7 мая – просто чтобы отработать процедуры и испытать измерительные приборы. Это был самый крупный в истории преднамеренный химический взрыв. Грунтовые дороги замедляли работу; в результате Бейнбридж потребовал у Гровса сорок километров асфальтированных дорог и получил их, продолжая совершенствовать процедуры для одного-единственного запланированного ядерного испытания.
Другая вышка была установлена на нулевой отметке. Она была заранее изготовлена из стали и перевезена на площадку по частям. Четыре ее «ноги», расположенные на расстоянии 10 метров друг от друга, опирались на бетонные основания, залитые в твердую известковую почву пустыни на глубину 6 метров; вышка была укреплена перекрестными распорками и поднималась на 30 метров в высоту. На ее вершине была установлена дубовая платформа с крышей, закрытая с трех сторон листами гофрированного железа. Открытая сторона железной будки была обращена на запад – к бункеру, предназначенному для фотоаппаратов. Съемный участок в центре платформы позволял спуститься с нее на землю. Монтажники, завершавшие сооружение вышки, установили на ее вершине крепеж для мощной лебедки с электрическим приводом, обошедшейся в 20 000 долларов.
Фрэнк Оппенгеймер, физик из Беркли, которому брат поручил теперь выявление и устранение проблем, которые могли бы помешать испытаниям, вспоминает, что в конце мая, когда он приехал на площадку «Тринити», «по всей пустыне лихорадочно протягивали провода, строили вышку, строили маленькие домики, в которых в момент взрыва должны были находиться люди и съемочные камеры»[2646]. В железобетонных бункерах для фотоаппаратов были иллюминаторы из толстого пуленепробиваемого стекла. Сотни трехметровых деревянных опор Т-образной формы, поддерживавшие провода суммарной длиной около 800 километров, расположенные на них так же плотно, как нити на ткацком станке, образовывали линии от нулевой отметки к приборным бункерам, находившимся на безопасном многокилометровом расстоянии. Для защиты других проводов, проложенных под землей, их поместили внутри нескольких километров высококачественных садовых шлангов.
Помимо фотосъемки Бейнбридж и его сотрудники занимались организацией экспериментов трех типов. Один набор оборудования, значительно более крупный, чем остальные, должен был измерять силу взрыва, а также оптические и ядерные явления при помощи сейсмографов, сейсмометров, ионизационных камер, спектрографов, пленок и разнообразных датчиков. Второй был предназначен для подробного изучения имплозии и проверки работы новых детонаторов с взрывчатыми проводниками, которые изобрел Луис Альварес. К третьей категории относились эксперименты, запланированные Гербертом Андерсоном для определения мощности взрыва радиохимическими методами. Гарвардский физик Дэвид Андерсон (не родственник Герберту) раздобыл для этой работы два армейских танка, загерметизировал их и обшил свинцом. Герберт Андерсон и Ферми собирались подъехать на них к воронке на нулевой отметке сразу после взрыва, взять образцы радиоактивных обломков при помощи черпака на тросе, прикрепленного к ракете, которую можно было выстрелить в воронку, и отвезти этот материал в лабораторию для измерений. По относительному содержанию продуктов деления и неразделенного плутония можно было бы оценить мощность взрыва.
К 31 мая в Лос-Аламос из Хэнфорда прибыло достаточно плутония, чтобы начать эксперименты с критической массой[2647]. От оболочечной конфигурации активного материала, предложенной Сетом Неддермейером, отказались, хотя тонкие стенки оболочки и давали самую высокую степень сжатия при имплозии. Конструкция, компенсирующая их гидродинамическую нестабильность, требовала слишком сложных расчетов, которые невозможно было выполнить вручную. Теоретик Роберт Кристи из Беркли разработал более надежную конфигурацию со сплошным сердечником из активного материала – две подогнанные друг к другу полусферы, суммарная масса которых была меньше критической. Имплозия должна была сжать их с увеличением плотности по меньшей мере в два раза, уменьшая расстояние пробега образующихся при делении нейтронов между ядрами и превращая массу в сверхкритическую. Группа Фриша провела успешную экспериментальную проверку этой конфигурации 24 июня. Критическая масса плутония высокой плотности в тяжелой отражающей оболочке составляет пять килограммов; даже с учетом центральной полости для запала размером с орех сердечник из активного материала для «Тринити» не мог быть крупнее небольшого апельсина.
Сроки проведения испытаний определялись скоростью получения полномасштабных форм для отливки сегментов имплозивных линз. Эти формы начали поступать в нормальном темпе только в июне, и 30 июня комитет, отвечавший за определение даты испытаний, перенес самую раннюю дату на 16 июля. Группа Кистяковского круглосуточно трудилась на площадке S над производством линз. «Больше всего неприятностей доставляли воздушные полости внутри крупных отливок, – вспоминал он после войны, – мы обнаруживали их методами рентгеновской дефектоскопии, но ничего не могли с ними поделать. К нашему отчаянию, брака обычно бывало больше, чем приемлемых линз»[2648].
27 июня Гровс встретился с Оппенгеймером и Парсонсом, чтобы разработать планы перевозки первых атомных бомб на Тихий океан[2649]. Они договорились отправить «пулю» «Малыша», сделанную из 235U, по морю, а отдельные части «мишени», также из 235U, – позже по воздуху. Программа перевозки получила кодовое обозначение «Бронкс», по названию нью-йоркского района, соседнего с Манхэттеном. Металлурги, работавшие в Лос-Аламосе, отлили одну часть «мишени» до конца июня, а «пулю» – 3 июля. На следующий день, в День независимости, в Вашингтоне собрался англо-американский Объединенный политический комитет, и Британия дала свое официальное согласие на применение атомных бомб против Японии, как того требовало Квебекское соглашение.
Трумэн согласился в течение лета встретиться со Сталиным и Черчиллем в берлинском пригороде Потсдаме; 6 июня он сказал Стимсону, что ему удалось отсрочить эту конференцию до 15 июля, «специально, – записал Стимсон в своем дневнике, – чтобы дать нам побольше времени»[2650]. Хотя Трумэн и Бирнс еще не решили, говорить ли Сталину об атомной бомбе, успешное проведение испытаний изменило бы ситуацию на Тихом океане. Возможно, для борьбы с Японией им уже не потребовалось бы советское вторжение в Маньчжурию, а тогда они могли пойти на меньшие уступки в Европе. Чтобы президент заведомо получил в Потсдаме информацию об испытаниях, на первой неделе июля Гровс решил окончательно назначить испытания на 16 июля с точностью до капризов погоды. В конце июня он узнал о возможности выпадения опасных радиоактивных осадков в населенных районах Нью-Мексико – «Вы что, – разносил он физика из Лос-Аламоса, который сообщил ему эту новость, – пропагандист Херста какой-нибудь?»[2651] – иначе он не стал бы обращать внимания и на погоду.
Итак, взрыв был назначен на середину июля, в разгар пустынного лета, когда температура в Хорнаде часто превышала к концу дня 38 °C. Оппенгеймер отправил Артуру Комптону и Эрнесту Лоуренсу телеграмму: «для нашей рыбалки подойдет любой день после 15-го. так как мы не уверены в погоде, возможна задержка на несколько дней»[2652].
Старшие сотрудники лаборатории устроили тотализатор на мощность взрыва со ставками по одному доллару. Эдвард Теллер оптимистично выбрал 45 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Ханс Бете поставил на 8000 тонн, Кистяковский на 1400. Оппенгеймер выбрал скромную цифру в 300 тонн. Норман Рамзей цинично поставил на зеро. За несколько дней до испытаний, когда приехал И. А. Раби, незанятой оставалась всего одна ставка – на 18 000 тонн. Неизвестно, верил ли он, что мощность «Тринити» окажется именно такой, но он ее купил.
На 9 июля[2653] у Кистяковского все еще не было достаточного количества качественных линзовых отливок для сборки полного заряда. Оппенгеймер еще более усугубил его неприятности, распорядившись взорвать макет устройства без активного материала для проверки конфигурации взрывчатки всего за несколько дней до испытаний «Тринити». Для каждого устройства требовалось по девяносто шесть блоков взрывчатки. Кистяковский прибег к героическим мерам:
В некотором отчаянии я раздобыл зубоврачебную бормашину и, не желая предлагать другим незнакомую работу, провел большую часть одной ночи, за неделю до испытаний «Тринити», сверля отверстия в дефектных отливках, чтобы добраться до воздушных полостей, которые были видны на наших рентгеновских снимках. Сделав это, я заполнил полости, залив в них расплавленную жидкую взрывчатку; после этого отливки были пригодны к использованию. За эту ночь к нашим запасам моими трудами прибавилось больше отливок, чем требовалось для изготовления двух сфер[2654].
«Это было совсем не страшно, – добавляет он с фатализмом. – Видите ли, если у вас на коленях взорвутся двадцать килограммов взрывчатки, вы об этом даже не узнаете»[2655].
Сборку взрывчатой части взял на себя живой и энергичный капитан третьего ранга Норрис Э. Брэдбери, получивший в Беркли докторскую степень по физике. В среду 11 июля он встретился с Кистяковским, чтобы рассортировать заряды по качеству. «Кистяковский и Брэдбери лично осмотрели отливки на предмет сколотых углов, трещин и других дефектов, – пишет Бейнбридж. – В сборке “Тринити” были использованы только отливки высшего сорта, не имевшие сколов или легко подлежащие починке. Остальные отливки отложили для заряда Кройца»[2656] – физик Эдвард Кройц отвечал за испытания с макетом. Отливки были восковой фактуры, пестрые, коричневые от лака. Суммарная масса отливок для каждого устройства составляла около 2250 килограммов.
На всех давило приближение дня испытаний. Это напряжение сказывалось. «Последняя неделя во многих отношениях тянулась бесконечно, – вспоминает Элси Макмиллан, – а во многих отношениях неслась как на крыльях. Трудно было вести себя обычно. Трудно было не думать. Трудно было не срываться. Кроме того, нам было трудно удержаться от чрезмерного увлечения всеми нормальными жизненными занятиями»[2657]. В письме к Элеоноре Рузвельт, написанном в 1950 году, Оппенгеймер вспоминал одно странное коллективное заблуждение:
Совсем незадолго до испытания первой атомной бомбы люди в Лос-Аламосе, естественно, пребывали в несколько напряженном состоянии. Я помню одно утро, когда почти все сотрудники проекта вышли на улицу и смотрели на яркий объект в небе через очки, бинокли и все, что только попалось им под руку. С соседней авиабазы Кертленд-Филд нам сообщили, что у них нет перехватчиков, которые могли бы приблизиться к этому объекту. Начальником нашего отдела кадров был один астроном, человек весьма мудрый. В конце концов он пришел ко мне в кабинет и спросил, не пора ли нам прекратить пытаться сбить Венеру. Я рассказываю эту историю только затем, чтобы показать, что даже группа ученых не гарантирована от ошибок, вызванных внушаемостью и истерией[2658].
К тому времени две маленькие плутониевые полусферы уже были отлиты и покрыты никелем, чтобы защитить их от коррозии и обеспечить поглощение альфа-частиц[2659]. Как писал металлург Сирил Смит, от этого сборка стала «прекрасной с виду». Но «за три или четыре дня до запланированного срока стали проявляться незапланированные изменения». Электролит, заключенный под никелевым покрытием на плоских сторонах полусфер, начал вспучивать никель пузырями, что нарушало подгонку полусфер друг к другу. «Некоторое время, – говорит Смит, – казалось, что испытаниям грозит задержка»[2660]. Пузыри можно было удалить шлфовкой, но тогда плутоний остался бы неприкрытым. Металлурги спасли отливку, срезав пузыри лишь частично и заполнив оставшиеся неровности листками золотой фольги. Активный сердечник первой атомной бомбы отправился навстречу своей славе, облеченный в импровизированные приношения никеля и золота.
В точном соответствии с предсказаниями метеоролога испытаний, тридцатидевятилетнего Джека М. Хаббарда, закончившего Калтех, 10 июля над площадкой «Тринити» проходила на север масса тропического воздуха. Хабард возражал против проведения испытаний в понедельник 16 июля с тех самых пор, как впервые услышал об этой дате: он ожидал на эти выходные плохую погоду. В воздухе, пришедшем с Мексиканского залива, были рассеяны мельчайшие кристаллы соли, которые образовывали легкую дымку. 12 июля Гровс, беспокоившийся о Потсдаме, подтвердил время испытаний: утро 16 июля. Бейнбридж рассказал об этом Хаббарду. «В самый разгар периода гроз, – сердито записал метеоролог в своем дневнике, – что за сукин сын это сделал?»[2661] Такие непочтительные предположения о происхождении Гровса высказывались и раньше.
В четверг, получив решение генерала, Норрис Брэдбери и его группы солдат из Особого инженерного подразделения – их так и называли аббревиатурой SED от слов Special Engineering Detachment – начали на двух отдельных площадках в каньонах возле лос-аламосского плато сборку взрывчатых зарядов для «Тринити» и Кройца. Обсуждалось, следует ли заполнять небольшие воздушные зазоры между отливками смазкой. Кистяковский решил, что такого заполнения не требуется, пишет Бейнбридж, «так как отливки в этих сборках были гораздо более высокого качества, чем все, изготовленные ранее, и воздушные зазоры между блоками материала были незначительными»[2662]. Вместо этого заряды, каждый из которых в последний раз просветили рентгеном и пронумеровали, обернули для более плотного прилегания в бумажные салфетки, которые закрепили клейкой лентой. Упрощенная и усовершенствованная оправа устройства, предназначенного для испытаний, которое назвали моделью 1561, отличалась от предыдущего варианта, модели 1222, в котором оправа состояла из скрепленных болтами пятиугольников. Теперь был предусмотрен экваториальный пояс из пяти сегментов, отлитых из дюралюминия и обработанных на станках; к ним крепились болтами большие верхнее и нижнее полушария. Когда взрывчатка, выстилающая нижнее полушарие, была установлена на место, SED Брэдбери опустили в нее подвешенную на кране тяжелую отражающую сферу из природного урана, которая плотно легла в полость подобно косточке в авокадо. В отражателе не хватало цилиндрической пробки; через оставленное ею отверстие должен был быть вставлен сердечник из активного материала. Затем установили блоки взрывчатки, образующие верхнее полушарие.
Для перевозки на площадку «Тринити» один комплект отливок оставили неустановленным, заменив его заглушкой с люком, через который в отражатель можно было вставить сборку активного материала. Отливки для этого сегмента – внутреннюю из твердого «состава В» и линзовидную внешнюю – упаковали отдельно, вместе с запасным комплектом, в котором было по одной отливке каждого типа. В завершение подготовки взрывчатой сборки к медленной перевозке на площадку «Тринити» ее обернули водонепроницаемым бутваром, уложили в укрепленный транспортный ящик из некрашеных сосновых досок и надежно прикрепили получившуюся упаковку к платформе пятитонного армейского грузовика. Затем груз накрыли брезентом, что придало ему неопределенную форму, не позволявшую разгадать его тайну.
Плутониевый сердечник уехал с Холма первым, в три часа дня в четверг, упакованный в походный футляр с резиновыми амортизаторами, закрепленными прочной проволокой. Он ехал с Филиппом Моррисоном на заднем сиденье военного седана, как почетный гость; ехавшая впереди машина с вооруженной охраной расчищала дорогу, а замыкал кортеж автомобиль со специалистами по сборке внутренней части. Моррисон также вез рабочий запал и макет запала. Около шести часов загорелый сержант в белой футболке и летних форменных штанах внес футляр с плутониевым сердечником в комнату на ранчо Макдональда, где ему предстояло провести ночь. Дом окружила охрана.
Из соображений безопасности и чтобы избежать дорожных пробок, взрывчатую сборку решено было перевозить ночью. Кистяковский специально назначил отправку этого, более заметного кортежа на одну минуту первого в ночь на пятницу 13 июля, в пику несчастливой репутации этого дня. Он ехал в передней машине вместе с охраной. Вскоре он задремал и был внезапно разбужен воем сирены своего автомобиля: кортеж поспешно проезжал через Санта-Фе. Военным не хотелось, чтобы какой-нибудь припозднившийся нетрезвый водитель выкатился из переулка и врезался в грузовик, набитый нестандартной взрывчаткой. Миновав Санта-Фе, кортеж снова сбросил скорость и поехал не быстрее пятидесяти километров в час; путь до площадки «Тринити» занял восемь часов, и Кистяковскому удалось поспать.
В девять часов утра в пятницу сборщики внутренней части собрались на ранчо Макдональда, надели белые халаты и приступили к последнему этапу своей работы. На всякий случай рядом были бригадный генерал Томас Фаррелл, заместитель Гровса, и Роберт Бахер, главный консультант группы. Заглядывали Бейнбридж и Оппенгеймер. Комнату на ранчо, в которой активный материал провел ночь, тщательно пропылесосили, а окна заклеили черной изолентой, чтобы внутрь не попадала пыль, превратив это помещение в импровизированную «чистую зону». Сборщики расстелили на столе хрустящую коричневую оберточную бумагу и разложили на ней детали своей головоломки: две покрытые никелем полусферы плутония с позолоченными поверхностями, блестящий бериллиевый запал с полонием, испускающим альфа-частицы, и несколько кусков природного урана сливового цвета, образующие 36-килограммовую цилиндрическую пробку для отражающей оболочки: она должна была удерживать все эти ключевые элементы устройства на месте. Перед началом сборки Бахер потребовал у военных расписку в получении материала, который вскоре должен был взорваться. Официально Лос-Аламос считался филиалом Калифорнийского университета, работающим на армию по контракту, и Бахер хотел получить документальное подтверждение того, что университет сдал плутоний, который стоил несколько миллионов долларов и вскоре должен был испариться. Бейнбридж посчитал эту формальность бессмысленной тратой времени, но Фаррелл понял ее значение и согласился. Чтобы снять напряжение, Фаррелл потребовал сначала взвесить полусферы в руках, чтобы убедиться, что их масса соответствует нужной. Подобно полонию, плутоний испускает альфа-частицы, но гораздо менее интенсивно; «если взять кусок в руку, – говорит Леона Маршалл, – он на ощупь теплый, как живой кролик»[2663]. Это позволило Фарреллу сделать паузу; он положил полусферы на место и подписал расписку.
Деталей было не много, но сборщики работали очень осторожно. Они вставили запал между двумя плутониевыми полусферами; затем они поместили никелевый шар в полость, оставленную в пробке отражающей оболочки. На это ушло все утро и половина дня. Тяжелый ящик со сборкой погрузили на тачку, и два человека вывезли его к грузовику. В 3:18 дня он прибыл на нулевую отметку во всем своем смертоносном величии.
Там уже была бригада Норриса Брэдбери, работавшая с полутораметровой сферой из взрывчатки, которую привез этим утром Кистяковский. В час дня водитель грузовика подъехал задним ходом под вышку. Деревянный упаковочный ящик сняли стреловой лебедкой и отнесли в сторону, а на сферу опустили окружившие ее массивные стальные захваты, подвешенные к основной лебедке, которая была установлена на тридцатиметровой высоте на вершине вышки. Когда захваты были зафиксированы на сфере, лебедка подняла ее с платформы грузовика; грузовик отъехал, и заранее собранную часть устройства опустили на подставку, установленную на асфальтовой площадке вышки. «Мы смертельно боялись ее уронить, – вспоминает Брэдбери, – потому что мы не верили в надежность подъемника, а другой готовой бомбы у нас не было. Не то чтобы мы опасались, что она взорвется, но падение могло ее повредить»[2664]. Прежде чем открыть верхнюю полусферу и обнажить заглушку с люком, над сборочной зоной установили белую палатку; дальнейшую работу освещал рассеянный солнечный свет.
Операция ввода пробки чуть было не закончилась катастрофой, вспоминает один из членов бригады Бойс Макдэниэл:
Оболочка [из взрывчатки] была собрана не полностью, в ней не хватало одной из линз. Именно через оставшееся от нее отверстие нужно было вставить цилиндрическую пробку, содержащую плутоний и запал… Чтобы максимально увеличить плотность урана в готовой сборке, зазор между пробкой и сферической оболочкой был уменьшен до нескольких тысячных дюйма. В Лос-Аламосе были изготовлены три набора таких пробок и [отражающих сфер]. Однако они были сделаны в последний момент и в такой спешке, что не были взаимозаменяемыми – не все пробки подходили ко всем [отверстиям]. Но детали отбирали очень тщательно, чтобы точно отправить [для «Тринити»] именно подходящие друг к другу компоненты.
Представьте себе наш ужас, когда мы начали вводить пробку в отверстие, в глубине взрывчатой оболочки, и оказалось, что она туда не входит! Мы пришли в смятение и прекратили работу, чтобы не повредить детали, и стали думать. Неужели мы ошиблись?..[2665]
Бахер понял, в чем было дело, и успокоил остальных: пока пробка находилась в жарком доме на ранчо, она нагрелась и расширилась, а отражающая оболочка, установленная в глубине изолирующей сферы из взрывчатки, еще хранила прохладу Лос-Аламоса. Две детали из тяжелого металла оставили в соприкосновении друг с другом и сделали перерыв. Когда сборку проверили в следующий раз, температуры уже выровнялись. Пробка легко встала на место.
После этого пришла очередь бригады, работавшей со взрывчаткой. За ее работой следил Оппенгеймер, выделявшийся среди прочих своей шляпой; от перенесенной незадолго до этого ветрянки и напряжения многомесячной работы поздними вечерами, без выходных, он похудел до 53 килограммов. В фильме, запечатлевшем эту историческую сборку, видно, как он то и дело выбегает из кадра и снова появляется в нем, заглядывая в открытую полость бомбы, как ищущая корм водоплавающая птица. Кто-то передает Брэдбери кусок клейкой ленты, и его руки исчезают в полости, чтобы закрепить там блок взрывчатки. Работу закончили поздно вечером, уже в свете прожекторов. Детонаторы еще не были установлены. Эта операция была запланирована на следующий день, после подъема устройства на вышку.
Около восьми часов следующего утра, в субботу, Брэдбери руководил подъемом пробного устройства на верхнюю платформу вышки. Отверстия в оболочке, в которые должны были быть вставлены детонаторы, были закрыты и заклеены лентой, чтобы в них не попадала пыль; когда массивная сфера поднялась в воздух, оказалось, что она щедро перебинтована, как будто после многочисленных ранений. На высоте пяти метров подъем приостановили, и бригада солдат сложила внизу почти достававшую до подставки груду армейских матрасов, обшитых тиком, в качестве последней и вряд ли эффективной ватной защиты на случай падения, которое могло бы повредить устройства. Затем сфера продолжила свой подъем, медленно поворачиваясь вокруг своей оси на тонком плетеном стальном тросе: казалось, что она самостоятельно парит в воздухе. По мере подъема к вершине вышки она удалялась от наблюдателей, так что создавалось впечатление, что она слегка уменьшается. Два сержанта завели ее внутрь будки, устроенной на платформе вышки, через отверстие в полу, закрыли этот люк панелью и опустили устройство на подставку, повернув его так, что его полушария оказались направлены влево и вправо, а не вверх и вниз, как они были расположены при сборке. В этом же положении «Толстяк», бронированный воинственный близнец «Тринити», должен был лететь в бой в бомбовом отсеке В-29. Затем началась тонкая работа по установке детонаторов.
В этот же день на горизонте замаячила еще одна возможная катастрофа. Группа Кройца взорвала в Лос-Аламосе свой макет, измерила синхронность имплозии магнитным методом и сообщила Оппенгеймеру удручающие новости: бомба «Тринити», скорее всего, не сработает. «Разумеется, – говорит Кистяковский, – я тут же стал главным злодеем, и все принялись читать мне нотации»[2666]. В полдень в Альбукерке прилетел на своем служебном самолете Гровс, привезший Буша и Конанта; эта новость привела их в ужас, и их сетования влились в хор осуждавших Кистяковского:
В штабе все ужасно расстроились и сосредоточились на моей предполагаемой вине. Оппенгеймер, генерал Гровс, Вэнивар Буш – у каждого было что сказать некомпетентному неудачнику, который должен был навсегда войти в мировую историю виновником трагического провала Манхэттенского проекта. Джим Конант, с которым меня связывала тесная личная дружба, вызвал меня на ковер и, как мне показалось, несколько часов холодно расспрашивал меня о причинах надвигающейся катастрофы.
В тот же день, несколько позднее, мы с Бахером бродили по пустыне. Когда я робко усомнился в результатах магнитных измерений, Боб обвинил меня в отрицании, ни больше ни меньше, самих уравнений Максвелла! В другой момент Оппенгеймер так разволновался, что я предложил ему поспорить на мою месячную зарплату против его десяти долларов, что имплозивный заряд сработает[2667].
В разгар этих осложнений были отправлены все составляющие «Малыша», кроме частей «мишени» из 235U. В субботу утром закрытый черный грузовик, который сопровождали два армейских офицера, и семь машин с охраной выехали из Лос-Аламоса на авиабазу ВВС Кертленд в Альбукерке. Дорогостоящий груз, который они перевозили, описан в транспортной накладной:
a) 1 ящик весом около 136 кг, содержащий сборку снаряда из активного материала для бомбы пушечного типа;
b) 1 ящик весом около 136 кг, содержащий специальные инструменты и научные приборы;
c) 1 ящик весом около 4500 кг, содержащий неактивные части для бомбы пушечного типа[2668].
Два самолета DC-3, ожидавшие в Кертленде, перенесли ящики и сопровождавших их офицеров на авиабазу Гамильтон-Филд под Сан-Франциско, а оттуда еще один охраняемый кортеж перевез их на военно-морскую верфь Хантерс-Пойнт. Там им предстояло ждать отхода «Индианаполиса», тяжелого крейсера, который должен был доставить их на Тиниан.
На площадке «Тринити» царило уныние. Джозеф О. Хиршфельдер, физикохимик из Лос-Аламоса, вспоминает, в каком расстройстве был Оппенгеймер в субботу вечером в гостинице, где начали собираться приглашенные на испытания: «Мы поехали в отель “Хилтон” в Альбукерке, в котором Роберт Оппенгеймер должен был встретиться с большой группой генералов, нобелевских лауреатов и других важных особ. Роберт очень нервничал. Он рассказал [нам] об экспериментальных результатах, которые получил в тот же день Эд Кройц: из них следовало, что атомная бомба “Тринити” должна оказаться пустышкой»[2669].
Столкнувшись с новыми доказательствами безжалостности физического мира, Оппенгеймер искал успокоения и отчасти нашел его в Бхагават-гите, религиозной поэме в семь сотен строф, вошедшей в Махабхарату, великий арийский эпос, приблизительно во времена заката золотого века античной Греции. Он познакомился с этой поэмой в Гарварде; в Беркли он выучил санскрит под руководством исследователя Артура Райдера, чтобы приблизиться к ее оригинальному тексту. После этого потрепанная розовая книжка всегда занимала почетное место на полке, ближайшей к его письменному столу. В Бхагават-гите содержится столько смыслов, что их хватило бы на целую жизнь; она написана в форме диалога между воинственным принцем Арджуной и Кришной, основным воплощением Вишну (который, в свою очередь, входит вместе с Брахмой и Шивой в божественную триаду индуизма – еще одна троица). Вэнивар Буш записал, за какой именно смысл Оппенгеймер ухватился в ту безнадежную июльскую субботу:
У него был чрезвычайно глубокий характер… Поэтому мой комментарий будет кратким. Я просто воспроизвожу стихи, которые он перевел с санскрита и читал мне за две ночи до [испытаний «Тринити»]:
- В битве, в лесу, над пропастью горной,
- В темном великом море, среди стрел и копий,
- Во сне, в заблужденье, в пучине стыда
- Благие дела человека его защищают[2670].
Вернувшись в базовый лагерь, Оппенгеймер спал этой ночью не более четырех часов. Фаррелл слышал, как он беспокойно ворочался в соседней комнате их общей квартиры, терзаемый кашлем. Постоянное курение помогало ему существовать не меньше, чем медитативная поэзия.
Как вспоминает Кистяковский, отойти от края этой пропасти помог упорный Ханс Бете:
В воскресенье утром раздался еще один телефонный звонок, на этот раз принесший прекрасные новости. Ханс Бете провел всю ночь субботы за анализом электромагнитной теории этого эксперимента и обнаружил, что при такой конфигурации приборов даже идеальная имплозия дала бы точно такие же осциллограммы, как наблюдались. Так меня снова стали принимать в приличном обществе[2671].
Когда позвонил Гровс, Оппенгеймер стал радостно рассказывать ему о результатах Бете. Генерал перебил его: «Что там с погодой?» – «Погода непростая»[2672], – ответил непростой физик. Над испытательной площадкой застоялась воздушная масса, пришедшая с Мексиканского залива. Но вскоре положение должно было измениться. Метеоролог Джек Хаббард предсказывал на следующий день легкий ветер переменного направления.
Застойный воздух усилил июльскую жару. Операторы, которые заменяли в съемочных камерах батареи, поврежденные коротким замыканием, обжигали руки о корпуса камер. Фрэнк Оппенгеймер, который был достаточно худ, чтобы жара не доставляла ему чрезмерных мучений, поспешно собирал придуманную в последний момент экспериментальную установку, более реалистичную, чем измерения света и излучения. Он устанавливал ящики, наполненные древесной стружкой, и столбы, к которым были прибиты гвоздями полосы гофрированного железа, имитируя ими хрупкие японские дома, в которых скрывались вездесущие сверлильные станки Лемея. Гровс запретил строить для испытаний полномасштабные здания, считая это очередным дурачеством ученых, пустой тратой денег и времени. На субботу в инструкциях Норриса Брэдбери по сборке бомбы было записано «Устройство собрано»; на «воскресенье 15 июля, весь день» он посоветовал своим сотрудникам «искать кроличьи лапки и четырехлистный клевер. Не позвать ли капеллана?»[2673]. Добыть кроличьи лапки было можно, но даже капелланы вряд ли нашли бы в Хорнаде хоть один стебелек клевера.
В четыре часа дня Оппенгеймер, Гровс, Бейнбридж, Толмен и один военный метеоролог встретились на ранчо Макдональда с Хаббардом, чтобы обсудить погоду. Хаббард напомнил им, что ему с самого начала не нравилась дата 16 июля. Он считал, что взрыв может быть произведен по плану, записал он в своем дневнике, «в неоптимальных условиях, что потребует некоторых жертв»[2674]. Гровс и Оппенгеймер ушли совещаться в другую комнату. Они решили подождать и посмотреть, что будет дальше. Очередное метеорологическое совещание назначили на 2 часа следующего утра; на нем они должны были принять окончательное решение. Взрыв был назначен на 4:00, и пока что это время оставили без изменений.
Несколько раньше тем же вечером Оппенгеймер поднялся на вышку для последнего, ритуального осмотра[2675]. Перед ним лежал плод его трудов. С него сняли все повязки, и теперь он висел среди петель изолированных проводов, соединявших распределительные щитки с детонаторами, торчавшими из темного, массивного корпуса, уродливого как Калибан. Дело было почти сделано.
На закате утомленный директор лаборатории был спокоен. Он стоял с Сирилом Смитом на ранчо Макдональда, у водоема, из которого раньше пил скот, и разговаривал с ним о семьях и доме, даже о философии; Смит обнаружил, что это успокаивает и его. Собиралась гроза. Оппенгеймер посмотрел вдаль и зацепился взглядом за темнеющие под тучами горы Сьерра-Оскура. «Забавно, что наша работа всегда вдохновляется горами»[2676], – услышал его слова металлург.
Из-за смены погоды с застойной на бурную и всеобщего недостатка сна в базовом лагере начались резкие перепады настроения. Этим вечером Бейнбриджа привело в ярость очередное проявление едкого юмора Ферми. Гровса оно просто слегка рассердило.
Я несколько разозлился на Ферми… когда он вдруг предложил своим коллегам-ученым заключать пари о том, сможет ли бомба воспламенить атмосферу, а если сможет, то уничтожит ли это только Нью-Мексико или весь мир. Кроме того, он сказал, что в конечном счете не столь важно, сработает бомба или нет, потому что в любом случае будет поставлен ценный научный эксперимент. Если бомба не взорвется, значит, мы докажем, что атомный взрыв невозможен[2677].
Такой вывод можно будет сделать на тех реалистичных основаниях, объяснял итальянский лауреат со своей обычной беспристрастностью, что взрыва не получилось, несмотря на все усилия лучших физиков в мире.
Бейнбридж пришел в ярость, потому что «бездумная бравада»[2678] Ферми могла напугать военных, не обладавших успокаивающими знаниями о температуре термоядерного зажигания и эффектах охлаждения центральной части взрыва. Но в мире должна была появиться новая сила; никто не мог быть абсолютно уверен – что и утверждал Ферми, – к чему приведет ее появление. Оппенгеймер поручил Эдварду Теллеру задачу, как нельзя лучше подходящую к его характеру: попытаться придумать любые воображаемые причины и обстоятельства, из-за которых взрыв может распространиться за предполагаемые границы. Теллер, бывший еще в Лос-Аламосе, задал этим вечером тот же вопрос, что и Ферми, но не простым несведущим солдатам, а Роберту Серберу:
Пытаясь пробраться домой в темноте, я столкнулся со своим знакомым, Бобом Сербером. В этот день мы получили от директора сообщение… в котором говорилось, что нам нужно быть [на площадке «Тринити»] задолго до рассвета, и нужно быть осторожным, чтобы не наступить на гремучую змею. Я спросил Сербера: «Что вы будете делать завтра насчет гремучих змей?» Он сказал: «Я возьму с собой бутылку виски». Потом я пустился в свои обычные речи, рассказывая ему, как можно вообразить, что эта штука может выйти из-под контроля, так, сяк и еще вот эдак. Но мы уже много раз говорили об этих вещах, и в действительности мы не понимали, как мы можем попасть в переплет. Тогда я спросил его: «А что вы думаете об этом?» И там, в темноте, Боб подумал секунду и сказал: «Я возьму с собой вторую бутылку виски»[2679].
Раби, как самый настоящий мистик, провел вечер за игрой в покер.
Бейнбриджу удалось немного поспать. Он руководил группой боевой готовности, которой была поручена окончательная подготовка бомбы к взрыву. Для этого он должен был оказаться на нулевой отметке в 11 вечера. В десять его разбудил сержант военной полиции; он взял Кистяковского и Джозефа Маккибена, высокого и тощего физика родом из Миссури, который отвечал за обратный отсчет перед взрывом, и встретился с Хаббардом и его бригадой, а также двумя охранниками. «По дороге, – вспоминает Бейнбридж, – я заехал в южный бункер и запер главные выключатели временной синхронизации. Положив ключ в карман, я вернулся в машину и поехал на нулевую отметку»[2680]. На вышке работал молодой физик из Гарварда Дональд Хорниг. Он сконструировал 227-килограммовую крестовидную батарею высоковольтных конденсаторов, которые должны были с миллисекундной точностью одновременно включить многочисленные детонаторы «Толстяка»; изобрел это жизненно важное устройство Луис Альварес. Сейчас Хорниг отсоединял модуль, который бригады Бейнбриджа использовали в тренировочных пусках, и подключал устройство, предназначенное для взрыва. В статических испытаниях ток подавался в детонаторы «Толстяка» по проводам, протянутым из командного центра в южном бункере; бомба, отправленная на Тиниан, была автономной, и на ней были установлены собственные батареи. Ток, поступающий по проводам или от батарей, заряжал конденсаторы; по сигналу они разряжались в детонаторы, и проволоки, вставленные в блоки взрывчатки, испарялись, порождая ударные волны, которые и взрывали заряд. «Вскоре после нашего приезда, – говорит Бейнбридж, – Хорниг закончил свою работу и вернулся в южный бункер. Хорниг был последним человеком, побывавшим на вершине вышки»[2681].
Хаббард соорудил возле вышки портативную метеостанцию; для измерения скорости и направления ветра два сержанта, работавшие с ним, надули и запустили воздушные шары с гелием. В одиннадцать часов он обнаружил, что ветер дует на нулевой отметке в сторону северного бункера. В полночь воздушная масса с Мексиканского залива сгустилась на высоте 5000 метров, и в ее слоистой толще образовались две температурные инверсии – зоны, в которых холодный воздух находился выше теплого, – которые могли развернуть радиоактивные выбросы взрыва «Тринити» вниз, к земле.
С точки зрения наблюдателя, ехавшего в пустыню из Лос-Аламоса, «ночь была темной, с черными тучами, и в небе не было видно ни одной звезды»[2682].
Около двух часов ночи 16 июля над Хорнадой начались грозы, заливавшие дождем базовый лагерь и южный бункер. «Дождь шел как из ведра, с громом и молнией, – вспоминает Раби. – [Мы] серьезно опасались, [что] устройство, установленное на вышке, может сработать самопроизвольно. Можете себе представить, как нервничал Оппенгеймер»[2683]. Порывы ветра достигали тринадцати с половиной метров в секунду. Хаббард задержался на нулевой отметке, чтобы произвести последние измерения – в районе вышки пока что была только легкая морось, висевшая в воздухе, – и прибыл в базовый лагерь на метеорологическое совещание, назначенное на два часа, с восьмиминутным опозданием: Оппенгеймер уже ждал его перед метеостанцией[2684]. Хаббард сказал ему, что от взрыва в 4:00 придется отказаться, но должна появиться возможность для испытаний между 5:00 и 6:00. Это, по-видимому, успокоило Оппенгеймера.
Зайдя в дом, они нашли там возбужденного Гровса, ждавшего их со своими консультантами. «Что за чертовщина творится с погодой?»[2685] – приветствовал генерал своего синоптика. Хаббард не преминул повторить, что всегда выступал против 16 июля. Гровс спросил, когда пройдет гроза. Хаббард объяснил ее динамику: тропические воздушные массы, ночной дождь. Вечерние грозы получают энергию от нагретой земли и затихают на закате; эта гроза, наоборот, должна прекратиться на заре. Гровс проворчал, что ему нужно точное время, а не объяснение. Я даю вам и то и другое, ответил Хаббард. Он думал, что Гровс готов отменить испытания, что кажется теперь маловероятным, учитывая напряжение, связанное с Потсдамом. Он сказал Гровсу, что тот может отложить испытания, если хочет, но на рассвете погода должна наладиться.
Оппенгеймер постарался успокоить своего массивного товарища. Он заверял его, что Хаббард – лучший специалист в своем деле и на его прогноз можно положиться. С ним согласились другие участники совещания – Толмен и два военных метеоролога (один в большей степени, чем другой). Гровс смягчился. «Будем надеяться, что вы правы, – угрожающе сказал он Хаббарду, – а не то я вас повешу»[2686]. Он велел метеорологу подписать прогноз и назначил взрыв на 5:30. После этого он ушел звонить губернатору Нью-Мексико, которого его телефонный звонок поднял с постели: Гровс предупредил его, что ему, возможно, придется объявить военное положение.
Бейнбриджа, бывшего на нулевой отметке, больше заботили не местные, а удаленные события, хотя он лично разомкнул и запер все соединения с бункерами. «Нас тревожил внезапно начинавшийся дождь, – вспоминает он. – <…> Не было ни одного сообщения о молниях ни в базовом лагере, находившемся приблизительно в 15 000 метров, ни в районе южного бункера, но эта возможность была темой интересных разговоров, потому что на вышке заканчивалось множество проводов, идущих от северного, южного и западного бункеров»[2687]. Около 3:30 порыв ветра опрокинул палатку Вэнивара Буша в базовом лагере; Буш перебрался в столовую, где в 3:45 повара начали подавать завтрак, состоявший из порошкового омлета, кофе и гренков.
Эмилио Сегре боги послали более интересное развлечение. Чтобы отвлечься, он провел весь вечер за чтением «Фальшивомонетчиков» Андре Жида и проспал худшую часть грозы в базовом лагере. «Но мое внимание привлек невероятный шум, природы которого я совершенно не понимал. Поскольку шум не прекращался, мы с Сэмом Аллисоном взяли фонари, вышли наружу и, к огромному своему удивлению, увидели там сотни лягушек, предававшихся любовным утехам в большой яме, которая наполнилась водой»[2688].
В 3:15 Хаббард уехал из базового лагеря в южный бункер. Дождь уходил. Он позвонил на нулевую отметку; один из бывших там его сотрудников сказал, что облака расходятся и появилось несколько звезд. К 4:00 направление ветра стало смещаться к юго-западу, все дальше от бункеров. В южном бункере метеоролог подготовил свой последний прогноз. В 4:40 он позвонил Бейнбриджу. «Хаббард дал мне полную метеосводку, – вспоминает директор “Тринити”, – и прогноз, из которого следовало, что в 5:30 утра погода на нулевой отметке будет не идеальной, но достаточно хорошей для испытаний. Мы хотели бы, чтобы инверсионного слоя на высоте 5000 метров не было, но не настолько, чтобы ждать ради этого еще полдня. Я позвонил Оппенгеймеру и генералу Фарреллу и получил их согласие на назначение момента взрыва (Т = 0) на 5:30 утра»[2689]. Каждый из четверых – Хаббард, Бейнбридж, Оппенгеймер и Фаррелл – имел право отменить испытания. Все они согласились с этим решением. Взрыв «Тринити» должен был произойти 16 июля 1945 года в 5 часов 30 минут утра – перед самым рассветом.
Бейнбридж должен был сообщать в южный бункер о каждом шаге процесса окончательной подготовки бомбы к взрыву на случай возникновения каких-либо проблем. «Я отвез Маккибена на точку W-900, чтобы он включил переключатели синхронизации и последовательности операций, пока я отмечал его действия в контрольном списке». Вернувшись на нулевую отметку, Бейнбридж объявил следующий этап «и разомкнул специальный переключатель готовности, который не относился к линиям Маккибена. Пока этот переключатель был замкнут, из южного бункера нельзя было запустить детонацию бомбы. Последней операцией было включение ряда установленных на земле фонарей, которые изображали “прицельную точку” для тренировочных полетов В-29. ВВС хотели знать, как взрыв будет воздействовать на самолет на высоте 10 000 метров и расстоянии в несколько километров… Включив фонари, я вернулся в машину и поехал в южный бункер». С ним ехали Кистяковский, Маккибен и охранники. Они уехали с площадки последними. За ними остались прожекторы, наведенные на вышку.
Группа боевой готовности приехала на отметку S-10000, в бетонный командный бункер, покрытый землей, около 5:08. Хаббард передал Бейнбриджу свой подписанный прогноз. «Я отпер главные выключатели, – завершает свой рассказ Бейнбридж, – а Маккибен начал обратный отсчет времени за 20 минут до взрыва, в 5 часов, 9 минут и 45 секунд утра»[2690]. Оппенгеймер должен был наблюдать взрыв из южного бункера вместе с Фарреллом, Дональдом Хорнигом и Сэмюэлом Аллисоном. С началом окончательного отсчета времени Гровс уехал на джипе в базовый лагерь. В качестве меры предосторожности на случай всеобщей катастрофы он хотел находиться на физическом удалении от Фаррелла и Оппенгеймера.
В 2 часа ночи на холм Компанья, смотровую площадку в тридцати километрах от нулевой отметки, начали прибывать автобусы с гостями из Лос-Аламоса и других мест. Там были Эрнест Лоуренс, Ханс Бете, Теллер, Сербер, Эдвин Макмиллан, Джеймс Чедвик, приехавший посмотреть, на что способен его нейтрон, и множество других, в том числе сотрудники «Тринити», присутствия которых в долине больше не требовалось. «Темнота и ожидание в холоде пустыни делали напряжение почти невыносимым»[2691], – вспоминает один из них. Коротковолновое радио, которое они взяли с собой, чтобы узнавать о графике испытаний, не желало работать и включилось только после того, как Аллисон начал транслировать обратный отсчет. Ричард Фейнман, будущий нобелевский лауреат, который увлекся физикой еще подростком, возясь с радиотехникой, повозился и с этим радио и вернул его к жизни. Собравшиеся начали занимать места. «Нам сказали лечь на песок, – говорит Теллер, – повернуться лицом в сторону, противоположную взрыву, и закрыть голову руками. Никто этого не сделал. Мы твердо решили заглянуть чудовищу в глаза»[2692]. Радио снова замолчало, и им пришлось ждать запуска сигнальных ракет от южного бункера. «Я не хотел отворачиваться… но, произведя все эти расчеты, я думал, что взрыв может быть мощнее, чем предполагалось. Поэтому я намазался кремом от загара»[2693]. Теллер пустил свой крем по рукам, и эта странная мера предосторожности встревожила одного из наблюдателей: «Было жутковато видеть, как некоторые из самых крупных наших ученых с серьезными лицами втирали в свои лица и руки крем от загара – в непроглядной ночной тьме, в тридцати километрах от ожидавшейся вспышки»[2694].
В южном бункере продолжался обратный отсчет. В 5:25 из сигнального пистолета запустили зеленую ракету. По этому сигналу в базовом лагере раздался краткий рев сирены. У южного края водоема базового лагеря были вырыты бульдозером неглубокие защитные окопы; поскольку бывшие там наблюдатели находились на пятнадцать километров ближе к нулевой отметке, чем те, кто был на холме Компанья, они собирались воспользоваться ими. Раби лег рядом с Кеннетом Грейзеном, физиком из Корнелла, повернувшись лицом на юг, в противоположную от нулевой отметки сторону. Грейзен вспоминает, что он «лично нервничал, потому что моя группа подготавливала и устанавливала детонаторы, так что если бы взрыва не произошло, это могло случиться по нашей вине»[2695]. Гровс устроился между Бушем и Конантом и думал «только о том, что я буду делать, если отсчет дойдет до нуля и ничего не случится»[2696]. Виктор Вайскопф вспоминает, что «группы наблюдателей расположили метрах в десяти от нашей наблюдательной площадки маленькие деревянные палочки, чтобы оценить размеры взрыва». Палочки были воткнуты по краю водоема. «Они были расставлены так, чтобы их [высота] соответствовала 300 метрам над нулевой точкой»[2697]. Филипп Моррисон повторял обратный отсчет для наблюдателей в базовом лагере через мегафон.
С шипением взлетела ракета, предупреждавшая о двухминутной готовности. В базовом лагере проревела длинная сирена. В 5:29 запустили ракету минутной готовности. Моррисон тоже хотел взглянуть в глаза чудовища и лег на краю водоема лицом к нулевой отметке. Он надел темные очки и держал в одной руке секундомер, а в другой – сварочный щиток. Сварочный щиток у него был совершенно стандартный, модели Super-Visibility Lens компании Lincoln с тонировкой № 10.
В южном бункере кто-то услышал, как Оппенгеймер сказал: «Господи, такие занятия вредны для сердца»[2698]. Маккибен отсчитывал минуты, а Аллисон передавал отсчет по радио. За 45 секунд Маккибен включил более точный автоматический таймер. «В центре управления было довольно тесно, – отмечает Кистяковский, – и, поскольку делать мне там было уже нечего, я вышел, как только включили автоматический таймер… и встал на земляной насыпи, покрывавшей бетонный бункер. Я полагал, что мощность взрыва будет около 1 кт [то есть 1000 тонн, 1 килотонны], так что расстояние в восемь километров казалось вполне безопасным»[2699].
На холме Компанья Теллер продолжал подготовку: «Я надел темные очки. Я натянул пару толстых перчаток. Я прижал сварочную маску к лицу обеими руками так, чтобы по ее краям не проходило никакого света. После этого я стал смотреть прямо в сторону нулевой точки»[2700].
В южном бункере Дональд Хорниг следил за выключателем, который мог разорвать соединение между конденсаторными батареями, установленными на вышке, и бомбой. Он был последним средством остановки испытаний в случае неисправности. За тридцать секунд до нуля отсчета на панели перед ним вспыхнули четыре красные лампочки, и стрелка вольтметра дернулась под круглой стеклянной крышкой слева направо. Это означало, что конденсаторы полностью заряжены. Фаррелл заметил, что «по мере того, как истекали последние секунды, д-р Оппенгеймер, на котором лежало очень тяжелое бремя, становился все напряженнее. Он почти не дышал. Чтобы не шататься, ему приходилось держаться за столб. Последние несколько секунд он смотрел прямо перед собой»[2701].
За десять секунд до взрыва в командном бункере прозвучал гонг. Наблюдатели, лежавшие в неглубоких окопах базового лагеря, как будто ожидали смерти. Конант сказал Гровсу, что никогда не думал, что секунды могут длиться так долго. Моррисон пристально смотрел на секундомер. «Я следил за секундной стрелкой, пока не осталось 5 секунд, – записал он в своем дневнике в день испытаний, – тогда я опустил голову на песчаную насыпь так, что небольшое возвышение рельефа полностью закрывало меня от нулевой отметки. Я прижал сварочный щиток к правому стеклу темных очков; их левое стекло было закрыто непрозрачным куском картона. Я продолжал отсчитывать секунды и, когда дошел до нуля, начал поднимать голову над закрывавшим меня бугорком»[2702]. На холме Компанья Эрнест Лоуренс собирался смотреть через ветровое стекло автомобиля – стекло должно было отфильтровать вредоносное ультрафиолетовое излучение, – «но в последнюю минуту решил выйти из машины… (что показывает, насколько я был взволнован!)»[2703]. Роберт Сербер, державший под рукой для поддержки свои бутылки с виски, смотрел в направлении находившейся в тридцати двух километрах нулевой отметки ничем не защищенными глазами. Решающее бездействие выпало на долю Хорнига:
Теперь всем происходящим управлял автоматический таймер, но у меня был рубильник, которым можно было остановить испытания в любой момент перед собственно зажиганием… Я думаю, я никогда не был так взвинчен, как в эти последние секунды… Я все время говорил себе: «Ты должен среагировать на малейший скачок стрелки». Про себя я продолжал вести отсчет. Я твердил: «Задержка твоей реакции – около половины секунды, так что нельзя расслабляться даже на долю секунды». <…> Мои глаза были прикованы к циферблату, а рука лежала на рубильнике. Я слышал отсчет таймера… три… два… один. Стрелка упала до нуля[2704].
Было 5 часов, 29 минут и 45 секунд. Контур зажигания замкнулся; конденсаторы разрядились; детонаторы, установленные в тридцати двух точках детонации, сработали одновременно; они воспламенили внешние линзовые оболочки из «состава В»; отдельные детонационные волны вздулись, натолкнулись на вставки из баратола, замедлились, искривились, вывернулись наизнанку и слились в единую сжимающуюся внутрь сферу; сферическая детонационная волна прошла во вторую оболочку из твердого, быстро горящего «состава В» и ускорилась; ударившись в стенку из плотного урана отражающей оболочки, она превратилась в ударную волну, сжимающую, разжижающую, проникающую; она достигла никелевой оболочки плутониевого сердечника и сжала ее: маленькая сфера уменьшалась в размерах, схлопываясь внутрь самой себя, доходя до размеров глазного яблока; ударная волна достигла крошечного запала в центре бомбы и, завихряясь на специально сделанных в нем неоднородностях, смешала содержащиеся в нем бериллий и полоний; альфа-частицы, вылетающие из полония, стали выбивать из редких атомов бериллия нейтроны: один, два, семь, девять – даже такого количества нейтронов, проникших в окружающий плутоний, хватило для запуска цепной реакции. Началось деление, размножение нейтронов – восемьдесят поколений за несколько миллионных секунды – с гигантским высвобождением энергии, десятками миллионов градусов температуры, тысячами тонн давления. До того как началась утечка радиации наружу, условия внутри этого глазного яблока в течение короткого времени были похожи на состояние Вселенной в первые мгновения после ее изначального взрыва[2705].
Затем началось расширение с утечкой радиации. Излучаемая энергия, высвобождаемая цепной реакцией, настолько высока, что излучение может принимать форму мягких рентгеновских лучей; они выходят за пределы физического материала бомбы и ее физической оболочки самыми первыми и распространяются со скоростью света, намного обгоняя фронт любой обычной взрывной волны. При невысоких температурах воздух непроницаем для рентгеновских лучей и поглощает их, нагреваясь при этом. «Поэтому, – пишет Ханс Бете, – очень горячий воздух окружен оболочкой воздуха более прохладного, и только эта оболочка… надо сказать, тоже довольно горячая, и видна наблюдателям на расстоянии»[2706]. Центральная воздушная сфера, нагретая поглощенными ею рентгеновскими лучами, испускает затем рентгеновские лучи меньшей энергии, которые, в свою очередь, поглощаются на ее границах и снова испускаются за ними. Благодаря такой затухающей чехарде, известной под названием процесса переноса излучения, горячая сфера начинает самопроизвольно охлаждаться. Когда она остывает до трехсот тысяч градусов – на что уходит около одной десятитысячной секунды, – образуется ударная волна, которая перемещается быстрее, чем может распространяться перенос излучения. «Таким образом, ударная волна отделяется от чрезвычайно горячей, почти изотермической [т. е. равномерно нагретой] центральной сферы»[2707], – объясняет Бете. Фронт ударной волны описывается простыми гидродинамическими законами – как волны в воде, как звуковой удар в воздухе. Он продолжает двигаться, оставляя позади изотермическую сферу, заключенную внутри своей непрозрачной оболочки, изолированную от внешнего мира, медленно – по меркам миллисекундного масштаба этих событий – растущую благодаря переносу излучения.
Окружающий мир видит фронт ударной волны, охлаждающийся до видимого состояния, первую, длящуюся несколько миллисекунд, часть двойной световой вспышки ядерного взрыва: две вспышки происходят так быстро одна за другой, что глаз не может их разделить. Дальнейшее охлаждение делает фронт прозрачным; мир, если у него по-прежнему есть глаза, видит сквозь ударную волну горячую внутреннюю часть светящейся области, и «поскольку теперь появляются более высокие температуры[2708], – продолжает Бете, – суммарное излучение возрастает до второго максимума»[2709] – возникает вторая, более длительная вспышка. Изотермическая сфера в центре расширяющейся светящейся области по-прежнему непрозрачна и невидима, но она также продолжает отдавать свою энергию воздуху, находящемуся за ее пределами, через перенос излучения. То есть, в то время как ударная волна охлаждается, воздух, находящийся за ней, нагревается. В обратном направлении от ударной движется охлаждающая волна[2710], со временем проникая вглубь изотермической сферы. Таким образом, светящаяся область – не простой объект, а сразу несколько объектов: невидимая миру изотермическая сфера, охлаждающая волна, движущаяся внутрь к этой сфере и выбрасывающая наружу ее излучение[2711], и ударная волна, распространяющаяся в воздух, еще не возмущенный, еще не знающий о взрыве. Между всеми этими частями имеются дополнительные промежуточные области, воздушные прокладки.
Наконец охлаждающая волна полностью разъедает изотермическую сферу, и вся светящаяся область становится прозрачной для своего собственного излучения. Теперь она охлаждается медленнее. Когда температура опускается ниже приблизительно 5000 °C, быстрое остывание заканчивается совсем. После этого, заканчивает Бете, «какое бы то ни было дальнейшее охлаждение может быть получено только в результате подъема светящейся области, вызванного его плавучестью и турбулентным смешиванием, происходящим при таком подъеме. Это медленный процесс, занимающий десятки секунд»[2712].
Как сообщает Бейнбридж, скоростные камеры, установленные в западном бункере, зарегистрировали поздние стадии развития светящейся области и отследили ее увеличение из исходного глазного яблока до огромных размеров:
Расширение огненного шара до того, как он достиг земли, было почти симметричным… за исключением повышенной яркости и запаздывания самой нижней части сферы, нескольких вздутий и нескольких острых выростов, радиально выступавших из шара ниже его экватора. Соприкосновение с землей произошло через 0,65 мс [мс – тысячная доля секунды]. После этого шар быстро стал более гладким… Вскоре после соприкосновения выростов с землей (около 2 мс) на земле перед ударной волной появилась широкая юбка из комковатого вещества… Около 32 мс [когда диаметр светящейся области увеличился до 288 метров] непосредственно за ударной волной появился темный фронт поглощающего вещества, медленно перемещавшийся вовне, пока он не стал невидимым в 0,85 с [расширяющийся фронт шириной около 760 метров]. Сама ударная волна стала невидимой [до этого, ] около 0,10 с.
Огненный шар увеличивался еще медленнее до [диаметра] порядка [610 метров], пока его почти полностью не скрыло пылевое облако, поднимающееся из юбки. В 2 с вершина шара снова начала подниматься. В 3,5 с на трети высоты у юбки появился минимальный горизонтальный диаметр, или перетяжка, и часть юбки, расположенная над перетяжкой, образовала вихревое кольцо. Перетяжка сужалась, а кольцо и быстро растущее скопление вещества над ним поднимались наподобие нового облака дыма, вытягивая за собой конвекционный пылевой стебель… Стебель казался перекрученным, как винт с левой резьбой[2713].
Но люди видели то, чего не могла заметить теоретическая физика и не могли зарегистрировать камеры, – они видели горе и ужас. Раби, наблюдавший из базового лагеря, ощутил угрозу:
Мы лежали там, ощущая сильное напряжение; было раннее утро, и на востоке появились всего несколько золотых проблесков; лежащего рядом человека было видно очень смутно. Эти десять секунд были самыми долгими десятью секундами, какие я когда-либо переживал. Внезапно возникла гигантская вспышка света, самого яркого света, какой я – и, я думаю, вообще кто-либо – когда-либо видел. Он бил, он наваливался, он протыкал насквозь. Это было видение, которое воспринимали не одни только глаза. Казалось, оно длится вечно. Хотелось, чтобы оно прекратилось; длилось оно в общей сложности около двух секунд. Наконец оно закончилось, уменьшилось, и мы посмотрели в сторону того места, где раньше была бомба; там был огромный огненный шар, который рос и рос и, увеличиваясь, вращался; он стал подниматься в воздух, вспыхивая желтым, багровым и зеленым. Выглядел он угрожающе. Казалось, что он надвигается на нас.
Только что родилось нечто новое – новая власть, новое знание о природе, приобретенное человеком[2714].
Теллеру на холме Компанья при взрыве показалось, «будто в темной комнате отдернули тяжелые шторы, и в нее хлынул солнечный свет»[2715]. Если бы астрономы наблюдали в этот момент за Луной, они увидели бы на ней отблески – вот уж действительно лунный мираж.
Джозефу Маккибену в южном бункере было с чем сравнить этот свет: «У нас было включено множество прожекторов для киносъемки панели управления. Когда бомба взорвалась, их свет померк по сравнению со светом, хлынувшим в открытую заднюю дверь»[2716].
Эрнеста Лоуренса он застиг в тот момент, когда он выходил из своей машины на холме Компанья: «Только я поставил ногу на землю, как меня залило теплым, ярким, желто-белым светом. Переход от тьмы к ярчайшему солнечному свету был мгновенным, и, насколько я помню, я на секунду застыл от удивления»[2717].
С точки зрения Ханса Бете, также бывшего на холме Компанья, «это было похоже на гигантскую вспышку магния, которая длилась, казалось, целую минуту, хотя на самом деле прошла секунда или две»[2718].
Сербер чуть не ослеп на холме Компанья, но зато разглядел раннюю стадию формирования светящейся области:
В момент взрыва я смотрел прямо на него ничем не защищенными глазами. Сначала я увидел желтое свечение, которое почти моментально превратилось в ошеломляющую белую вспышку, такую яркую, что я совершенно ослеп… Секунд через двадцать или тридцать после взрыва ко мне стало возвращаться нормальное зрение… Величие и масштабы этого явления были абсолютно умопомрачительными[2719].
Сегре, бывший в базовом лагере, вообразил конец света:
Самое сильное впечатление произвел ошеломляюще яркий свет… Я был ошарашен этим невиданным зрелищем. Мы видели, как все небо вспыхнуло с невероятной яркостью, хотя на нас были очень темные очки… Кажется, на мгновение я подумал, что взрыв мог воспламенить атмосферу и, следовательно, уничтожить Землю, хотя я и знал, что это невозможно[2720].
Моррисона в базовом лагере встревожил не свет, а жар:
Мы видели с расстояния в шестнадцать километров невероятно яркую вспышку. Это было чрезвычайно внушительное зрелище. Мы знали, что взрыв будет ослепительно-ярким. На нас были сварочные очки. Меня поразила не вспышка, а ослепляющий жар солнечного дня, который я ощутил на своем лице посреди холодной ночи в пустыне. Это было похоже на открывающуюся печку, из которой всходило солнце[2721].
Как осознал пораженный специалист по баллистике, наблюдавший с холма Компанья, все происходило в тишине:
Вспышка света была сначала настолько яркой, что казалось, что она не имеет определенной формы, но где-то через полсекунды она стала ярко-желтой полусферой, обращенной плоской стороной вниз, как солнце, наполовину поднявшееся из-за горизонта, но приблизительно вдвое больше. Почти сразу же эта светящаяся масса стала распухать и подниматься; казалось, что внутри приблизительно прямоугольного контура, быстро росшего в высоту, выстреливают вверх огромные пламенные вихри… Внезапно из центра поднялся более узкий столб гораздо большей высоты. Затем наступила развязка, безмерно впечатляющая несмотря на то, что ослепительной яркости уже не было: вершина более узкого столба, казалось, расплылась в толстую шляпу гриба или зонтик яркого и чистого синего цвета… Казалось, что все это происходит очень быстро… и потом наступило разочарование, что это зрелище кончилось так быстро. А затем пришло ошеломляющее понимание, что все это происходило в трех десятках километров от нас, что то, что вспыхнуло и погасло с таким блеском и такой скоростью, на самом деле находилось на высоте нескольких километров. Ощущение удаленности этого объекта, который казался таким близким, подчеркивалось долгой тишиной, царившей, пока мы смотрели, как серый дым образует все более и более высокий спиральный столб. Где-то через минуту, которая показалась гораздо более долгой, тишину нарушил весьма внушительный грохот, приблизительно похожий на грохот пятидюймового зенитного орудия на расстоянии в сотню метров[2722].
«Жизненный опыт чаще всего можно осознать, исходя из опытов предыдущих, – отмечает Норрис Брэдбери, – но атомная бомба не вписывалась в рамки бывших у кого-либо каких бы то ни было заранее сформированных суждений»[2723].
По мере того как огненный шар поднимался в воздух, сообщает Джозеф У. Кеннеди, «сплошные слоисто-кучевые облака, расположенные прямо над ним, [становились] розовыми снизу и хорошо освещенными, как на восходе солнца»[2724]. Вайскопф заметил, что «путь распространения ударной волны сквозь облака был ясно виден в форме расширяющегося круга, заметного всюду в небе, где оно было покрыто облачностью»[2725]. «Когда красное сияние померкло, – пишет Эдвин Макмиллан, – проявился совершенно замечательный эффект. Вся поверхность шара была покрыта фиолетовым свечением, похожим на то, что появляется в воздухе при электрическом возбуждении, и вызванным, несомненно, радиоактивностью материала шара»[2726].
Ферми заранее подготовил эксперимент, позволявший приблизительно определить порядок величины мощности бомбы:
Секунд через сорок после взрыва до меня дошла воздушная ударная волна. Я попытался оценить ее силу, роняя с высоты порядка двух метров маленькие клочки бумаги – до, во время и после прохождения волны. Поскольку ветра в это время не было, я мог очень ясно наблюдать и измерить смещение бумажек, падавших во время прохождения ударной волны. Их смещение составило около двух с половиной метров, что, по моей оценке на тот момент, соответствовало взрыву, который могли произвести десять тысяч тонн ТНТ[2727].
«По расстоянию до точки взрыва и смещению воздуха под действием ударной волны, – объясняет Сегре, – он мог вычислить энергию взрыва. Эти вычисления Ферми проделал заранее, подготовив таблицу, по которой он мог сразу же определить энергию в результате такого грубого, но простого измерения»[2728][2729]. «Он был настолько глубоко и безраздельно поглощен своими бумажками, – добавляет Лаура Ферми, – что даже не услышал сильнейшего грохота»[2730].
Фрэнк Оппенгеймер был рядом с братом, наблюдавшим взрыв около командного бункера на точке S-10000:
И мы ощутили, что над нами висит зловещее облако. Оно было ярко-фиолетовым, испускало радиоактивное свечение. И казалось, что оно висит там вечно. Это, разумеется, было не так. Вероятно, оно сместилось вверх через очень короткое время. Оно ужасало.
А еще был гром взрыва. Он отражался от скал и распространялся – не знаю, куда именно. Но казалось, он не прекращался ни на секунду. Не так, как обычное эхо от грома. Его эхо все разносилось и разносилось по Хорнаде-дель-Муэрто. Пока он не затих, было очень страшно.
Я хотел бы вспомнить, что сказал мой брат, но не могу – но мне кажется, что мы просто сказали: «Получилось». По-моему, так мы оба и сказали. «Получилось»[2731].
Директор «Тринити» Бейнбридж произнес подходящее случаю благословение: «Никто из тех, кто видел это ужасное и грандиозное зрелище, не сможет его забыть»[2732].
Бывший в базовом лагере Гровс «лично думал о том, как Блонден прошел по канату над Ниагарским водопадом – только мой канат был длиной почти в три года, – и о своих многократных, уверенных с виду заявлениях, что такое возможно и что мы сможем это сделать»[2733]. Еще до прихода ударной волны они с Конантом и Бушем сели в своих окопах и торжественно пожали друг другу руки.
Кистяковского, стоявшего у южного бункера, взрыв сбил с ног. Поднявшись, он увидел поднимающийся и темнеющий огненный шар и фиолетовое свечение гриба, а потом пошел за своим выигрышем. «Я похлопал Оппенгеймера по спине и сказал: “Оппи, вы должны мне десять долларов!”»[2734] Смущенный директор Лос-Аламоса заглянул в свой бумажник. «Тут ничего нет, – сказал он Кистяковскому. – Вам придется подождать»[2735]. Бейнбридж поздравлял руководителей южного бункера с успехом имплозивного метода. «В самом конце я сказал Роберту: “Теперь мы все сукины дети”… Впоследствии [он] сказал моей младшей дочери, что это было самое лучшее из всего сказанного после испытаний»[2736].
«Прежде всего мы ощутили восторг, – вспоминает Вайскопф, – потом мы поняли, что устали, а потом мы встревожились»[2737]. Раби говорит об этом более подробно:
Естественно, мы были очень рады результатам эксперимента. Пока этот огромный пламенный шар был перед нами, и мы смотрели на него, а он перекатывался и постепенно расплывался в облака… А потом его раздуло ветром. Мы повернулись друг к другу и первые несколько минут обменивались поздравлениями. А потом наступил озноб, и он не был вызван утренней прохладой; этот озноб охватывал от мыслей, как, например, когда я подумал о своем деревянном доме в Кембридже, и о своей лаборатории в Нью-Йорке, и о миллионах людей, которые живут вокруг, и об этой природной силе, о существовании которой мы когда-то узнали впервые, – и вот теперь она явилась на свет.
Оппенгеймер еще раз обратился за образцом достойного масштаба к Бхагават-гите:
Мы подождали, пока пройдет ударная волна, вышли из убежища, и атмосфера стала чрезвычайно серьезной. Мы знали, что мир больше не будет таким, как раньше. Кое-кто смеялся, кое-кто плакал. Большинство молчало. Я вспомнил один стих из индуистского писания, Бхагават-гиты: Вишну пытается убедить принца исполнить свой долг и, чтобы произвести на него впечатление, принимает свое многорукое обличье и говорит: «Я всеуносящая смерть»[2738]. Мне кажется, все мы так или иначе об этом подумали[2739].
Вспоминались и другие образцы. Вскоре после войны Оппенгеймер сказал своим слушателям:
Когда она взорвалась, первая атомная бомба, на заре в Нью-Мексико, мы подумали об Альфреде Нобеле и его надежде, его тщетной надежде, что динамит положит конец всем войнам. Мы думали о легенде о Прометее, об этом глубоком чувстве вины за новое могущество человека, которое отражает его осознание зла и глубокое его понимание. Мы знали, что перед нами новый мир, но еще увереннее мы знали, что сама новизна – очень старая вещь в человеческой жизни, что в ней коренится все наше существование[2740].
Добившийся успеха директор Лос-Аламоса уехал на джипе вместе с Фарреллом. Раби видел его прибытие в базовый лагерь и заметил в нем перемену:
Он был в передовом бункере. Вернувшись, он появился, знаете, в своей шляпе. Вы ведь видели фотографии Роберта в шляпе. И вот он пошел туда, где были мы, в штаб-квартиру, так сказать. И он шел такой походкой, как в фильме «Ровно в полдень»[2741] – мне кажется, лучше мне ее не описать, – такой медленной, гордой поступью. Он добился своего[2742].
«Когда Фаррелл подошел ко мне, – продолжает рассказ Гровс, – его первые слова были: “Война закончена”. Я ответил: “Да, после того, как мы сбросим две бомбы на Японию”. Я поздравил Оппенгеймера, тихо сказав ему: “Я горжусь вами”, а он просто ответил: “Спасибо”»[2743]. Физик-теоретик, бывший к тому же поэтом и считавший физику, как говорит Бете, «лучшим способом заниматься философией»[2744], оставил свой след в истории. Этот след был крупнее, хотя и противоречивее любой Нобелевской премии.
В конюшне военной полиции все еще ржали напуганные лошади; лопасти ветряка фирмы Aermotor в базовом лагере еще вертелись, раскрученные энергией взрыва; лягушки больше не спаривались в лужах. Раби открыл бутылку виски и пустил ее по рукам. Все сделали по глотку. Оппенгеймер ушел с Гровсом составлять отчет для Стимсона, ждавшего его в Потсдаме. «Моя вера в человечество несколько восстановлена»[2745], – услышал его слова Хаббард. Он оценил мощность взрыва в 21 000 тонн – 21 килотонну. Ферми знал из своего эксперимента с бумажками, что она была не менее 10 кт. Раби поставил на 18[2746]. Позже тем же утром Ферми и Герберт Андерсон надели белые хирургические костюмы, забрались в два обшитых свинцом танка и поехали к нулевой отметке. Танк Ферми сломался через полтора километра, и ему пришлось возвращаться пешком. Андерсон поехал дальше. Молодой физик рассматривал через перископ воронку, которую образовала бомба. Вышка – лебедка за 20 000 долларов, будка, деревянная платформа, сотни метров стальных распорок – исчезла, испарилась, оставив только перекрученные обломки опор. Асфальт превратился в сплавленный песок, зеленый и просвечивающий, как яшма. Андерсон собрал образцы обломков черпаком, привязанным к ракете. Проведенные затем на них радиохимические измерения подтвердили, что мощность взрыва составила 18,6 кт[2747]. Это было почти в четыре раза больше, чем ожидали в Лос-Аламосе. Раби выиграл джекпот.
Как Ферми рассказал жене, у него наступила отсроченная реакция: «В первый раз в жизни, когда он ехал с площадки “Тринити”, он почувствовал, что не способен вести машину. Ему казалось, что машина не идет прямо по дороге, а бросается из стороны в сторону, с одной кривой на другую. Ему пришлось попросить товарища сесть за руль, хотя он терпеть не мог, когда его возил кто-то другой»[2748]. Станислав Улам, решивший не присутствовать при испытаниях, видел возвращение автобусов: «Сразу можно было сказать, что эти люди пережили нечто странное. Это было видно по их лицам. Я видел, что произошло нечто очень серьезное и сильное, повлиявшее на все их воззрения на будущее»[2749].
Бомба, взорванная в пустыне, не причиняет большого ущерба, разве что песку, кактусам и чистоте воздуха. Физику Стаффорду Уоррену, отвечавшему в испытаниях «Тринити» за радиационную безопасность, пришлось поискать, прежде чем он нашел более смертоносные последствия:
Частично выпотрошенные дикие зайцы, предположительно убитые взрывом, были надены на расстоянии более 730 метров от нулевой отметки. На ферме, расположенной в пяти километрах, сорваны двери и отмечены другие обширные повреждения…
Интенсивность света на расстоянии пятнадцати километров была достаточной для причинения временной слепоты; этот эффект может быть более долговременным на более коротких расстояниях… Свет в сочетании с жаром и ультрафиолетовым излучением, вероятно, способен причинить серьезный ущерб незащищенным глазам на расстоянии 8–10 километров. Такой ущерб может быть достаточным для нарушения боеспособности личного состава на несколько суток или окончательно[2750].
Ящики со стружкой, установленные Фрэнком Оппенгеймером, а также сосновые доски тоже зарегистрировали приход света: на расстоянии более 900 метров они были обуглены, на расстоянии до 1800 метров – слегка обожжены. На расстоянии 1400 метров – в девяти десятых мили от взрыва – открытые поверхности почти мгновенно нагрелись до 400 °C и более[2751].
Через пять дней после «Тринити» в Лос-Аламосе проводил семинар британский физик Уильям Пенни, изучавший результаты взрыва по заданию Комитета по выбору целей. «Он выполнил кое-какие расчеты, – вспоминает Филипп Моррисон. – Он предсказал, что это [оружие] не оставит от города с населением триста-четыреста тысяч человек ничего, кроме неутолимой потребности в гуманитарной помощи, бинтах и больницах. Он совершенно ясно показал это с цифрами в руках. Такова была реальность»[2752].
Приблизительно в то же время, когда произошел взрыв «Тринити», в предрассветной темноте верфи Хантерс-Пойнт в заливе Сан-Франциско, освещенный прожекторами кран грузил на палубу «Индианаполиса» пятиметровый ящик со сборкой пушечной части «Малыша». Два матроса внесли на борт урановую «пулю» в свинцовом контейнере, подвешенном на ломе. Они прошли вслед за двумя армейскими офицерами из Лос-Аламоса в каюту флаг-адъютанта корабля, который освободил ее на этот рейс. К палубе каюты были приварены болты с проушинами. Матросы прикрепили свинцовый контейнер к проушинам. Один из офицеров запер его на висячий замок. В течение всего десятидневного пути до Тиниана офицеры должны были круглосуточно охранять контейнер, сменяя друг друга.
В 8:36 по тихоокеанскому военному времени[2753], через четыре часа после того, как свет, испущенный из Хорнады-дель-Муэрто, осветил поверхность Луны, «Индианаполис» прошел со своим грузом под мостом Золотые ворота и вышел в море.
19
Языки пламени
В конце марта 1945 года, когда бомбардировщики Лемея летали взад и вперед, сжигая города, на Марианские острова прибыл прямолинейный полковник инженерных войск Элмер Э. Киркпатрик, который должен был найти там уголок для размещения 509-й сводной авиагруппы Пола Тиббетса. В день своего приезда на Гуам Киркпатрик встретился с Лемеем, а затем и командующим Тихоокеанским флотом Честером Нимицем и нашел командующих готовыми к сотрудничеству. На следующий день, как он доложил Гровсу[2754], он «осмотрел большую часть острова [и] выбрал площадки, после чего планировщики приступили к работе над проектами». Хотя недостатка в В-29 не ощущалось, он обнаружил дефицит цемента и зданий; «жилье и условия жизни здесь несколько суровы для всех, кроме [генералов] и моряков. Палатки или открытые казармы». 5 апреля Киркпатрик снова прилетел на Гуам, чтобы «раздобыть где-нибудь кое-какие материалы» и «получить разрешение на требуемые работы», прошел по всем инстанциям армейской и флотской иерархий, упирая на свои полномочия, полученные в Вашингтоне, и уже к концу дня отправил на Сайпан по телетайпу «требование выдать мне материалы, достаточные для основных работ». Строительный батальон ВМФ – те же «Морские пчелы» – должен был построить здания и самолетные стоянки с твердым покрытием, а также вырыть ямы, из которых в бомбовые отсеки В-29 Тиббетса можно было загружать бомбы: их размеры не позволяли подводить их под брюхо стоящего на земле самолета.
К началу июня, когда Тиббетс приехал, чтобы осмотреть условия размещения и встретиться с Лемеем, Киркпатрик уже мог доложить, что «ход работ весьма удовлетворителен, и сейчас я полагаю, что сроки не могут быть сорваны». Он присутствовал на одной из вечерних встреч Тиббетса с Лемеем и понял из услышанного там, что командующий 20-й воздушной армией еще не осознал силы атомной бомбы:
Лемей не любит высотных бомбардировок. Точность попадания ниже, но еще важнее, что на таких высотах чрезвычайно плохая видимость, особенно в период с июня по ноябрь. Тиббетс сообщил ему, что это оружие может уничтожить самолет, применяющий его на высоте менее 7600 метров.
Киркпатрик предъявил Гровсу впечатляющий перечень своих достижений: завершены пять складов, административный корпус, дороги и парковки, а также девять хранилищ для боеприпасов; загрузочные ямы завершены, кроме подъемников; стоянки для самолетов 509-й группы завершены, кроме асфальтового покрытия; завершены генераторные и компрессорные корпуса; одно здание с системой кондиционирования воздуха для сборки бомб должно было быть завершено к 1 июля; еще два сборочных корпуса – к 1 и 15 августа. 1100 человек из состава 509-й уже прибыли по морю, «и каждую неделю прибывают всё новые».
Первые из боевых экипажей Тиббетса прибыли 10 июня: они прилетели на Тиниан на усовершенствованных, специально переоборудованных новых В-29. Самолеты более ранней модели, которые группа получала предыдущей осенью, уже устарели, как объяснял Тиббетс после войны читателям газеты Saturday Evening Post:
Испытания показали, что те В-29, которые у нас были, не подходили для атомной бомбардировки… Это были тяжелые самолеты старого типа. Во время долгого подъема на 9000 метров на 80 % мощности верхние цилиндры перегревались, что приводило к отказу клапанов…
Я потребовал новых, облегченных В-29 с системами впрыска топлива вместо карбюраторов[2755].
Все эти усовершенствования он получил, и не только их: на новых самолетах были еще и быстро закрывающиеся пневматические створки бомболюков, расходомеры топлива, реверсивные воздушные винты с электроприводом.
Новые самолеты были переделаны так, чтобы в них помещались особые бомбы, которые им предстояло перевозить, и дополнительные члены экипажа. Цилиндрический туннель, соединявший герметичные отсеки в носу и хвосте самолета, пришлось разрезать и перестроить, чтобы бомба увеличенного размера, «Толстяк», поместилась в передний бомбовый отсек. Были установлены специальные направляющие, чтобы хвостовое оперение бомб не заклинило при их сбросе. Перед постом радиста в носовом отсеке поставили дополнительный стол, кресло, патрубок подачи кислорода и переговорное устройство для оружейника, который должен был следить за состоянием бомбы во время полета. «У этих особых В-29 были исключительные рабочие характеристики, – пишет инженер, отвечавший за их поставку. – Они, несомненно, были лучшими В-29 на всем театре военных действий»[2756]. К концу июня на стоянках под тихоокеанским солнцем стояли одиннадцать блестящих новеньких бомбардировщиков[2757].
Как утверждает историк 509-й группы, ее служащим, привыкшим к метелям и пыли Уэндовера, штат Юта, Тиниан «казался райским садом»[2758]. Раскинувшийся вокруг синий океан и пальмовые рощи вполне могли создать такое впечатление. Филипп Моррисон, приехавший после «Тринити» помогать в сборке «Толстяка», нашел более звучное описание того, во что превратился остров, о чем и рассказал позднее в 1945 году комиссии сената США:
Тиниан – это настоящее чудо. Здесь, почти в 10 000 километров от Сан-Франциско, вооруженные силы Соедненных Штатов построили крупнейший в мире аэропорт. Огромный коралловый хребет наполовину срезали, чтобы засыпать неровности местности, и построили шесть взлетных полос, каждая из которых получилась не хуже превосходной десятиполосной автострады и имела почти три километра в длину. Рядом со взлетными полосами стояли длинные ряды огромных серебряных самолетов. Их были там не дюжины, а сотни. С воздуха этот остров, размером меньше Манхэттена, казался гигантским авианосцем с палубой, переполненной бомбардировщиками.
И вся эта колоссальная подготовка заканчивалась величественным и ужасающим итогом. На закате летное поле порой гремело от рева моторов. По огромным полосам катились гигантские самолеты – из-за их размеров казалось, что они едут медленно, но они легко обгоняли мчащиеся джипы. Самолеты начинали взлетать с одной полосы за другой. Каждые 15 секунд в воздух поднимался очередной В-29. Это выверенное и упорядоченное движение продолжалось в течение полутора часов. Солнце садилось в море, а вдали еще были видны последние самолеты, еще не выключившие габаритные огни. Часто какому-нибудь самолету не удавалось взлететь, и можно было видеть его ужасающее падение в море или на пляж, где он превращался в гигантский факел. Мы часто сидели на гребне кораллового хребта и с настоящим благоговением смотрели на боевой вылет 313-го авиакрыла. Большинство самолетов возвращалось на следующее утро; они летели одной длинной цепочкой, как бусины на нитке, начинавшейся прямо над головой и тянущейся до горизонта. Одновременно можно было увидеть 10 или 12 самолетов, летевших с интервалами километра в три. Как только ближайший к нам самолет садился, на краю неба появлялся еще один. В поле зрения все время оставалось одно и то же число самолетов. Пустое летное поле заполнялось, и через час-другой все самолеты уже были на земле[2759].
Поскольку Тиниан напоминал формой Манхэттен, «Морские пчелы» назвали проложенные на острове дороги именами нью-йоркских улиц. Так совпало, что 509-я группа разместилась на западном краю северного летного поля, на углу 125-й улицы и 8-й авеню, возле Риверсайд-драйв; на Манхэттене там расположен Колумбийский университет, в котором Энрико Ферми и Лео Сцилард когда-то обнаружили вторичные нейтроны от деления ядер: круг замкнулся.
«Первая половина июля, – пишет о деятельности 509-й Норман Рамзей, – ушла на организацию и установку всех технических средств, необходимых для испытаний на Тиниане»[2760]. Тем временем летные экипажи группы упражнялись в навигации, летая на Иводзиму и обратно, а также сбрасывали обычные бомбы общего назначения, а затем и «тыквы», на обойденные американским наступлением острова, формально все еще остававшиеся в руках японцев, – Роту, Трук и т. п.
Приблизительно в то же время 16 июля 1945 года, когда Гровс с Оппенгеймером составляли на площадке «Тринити» свой первый отчет об успешном взрыве на вышке, Гарри Трумэн и Джимми Бирнс выехали из Потсдама в открытом автомобиле на экскурсию по разоренному Берлину. В этот день должна была начаться Потсдамская конференция, которой присвоили уместное кодовое название «Терминал», но Иосиф Сталин, ехавший из Москвы на бронированном поезде, запаздывал. По-видимому, накануне он перенес легкий сердечный приступ. Поездка по Берлину позволила Трумэну увидеть своими глазами те разрушения, которые причинили бомбардировки союзников и артиллерийские обстрелы Красной армии.
Теперь Бирнс официально был государственным секретарем. На церемонии его вступления в должность, проходившей знойным днем 3 июля в Розовом саду Белого дома, присутствовали его многочисленные коллеги по палате представителей, сенату и Верховному суду. После того как Бирнс принес присягу, Трумэн в шутку сказал ему: «Поцелуй Библию, Джимми»[2761]. Бирнс подчинился, но потом нанес ответный удар: он передал Библию президенту и предложил ему тоже ее поцеловать. Трумэн так и сделал; зрители, понявшие смысл этой мизансцены, разыгранной бывшим вице-президентом и человеком, обойденным в очереди к власти, рассмеялись. Четыре дня спустя два руководителя взошли на борт крейсера «Августа», направлявшегося через Атлантику в Антверпен. Сейчас они бок о бок ехали в Берлин – завоеватели в шляпах с загнутыми вниз полями и элегантных шерстяных пиджаках.
Хотя Генри Стимсон прибыл в Потсдам раньше их, он не поехал на экскурсию с президентом и его любимым советником. Военный министр разговаривал с Трумэном за день до церемонии приведения Бирнса к присяге – предлагая предоставить японцам «предупреждение о надвигающихся событиях и несомненную возможность капитулировать»[2762], – а уходя, печально спросил президента, отчего тот не пригласил своего военного министра на приближающуюся конференцию – уж не из заботы ли о его здоровье? Именно так, быстро сказал Трумэн, на что Стимсон ответил, что вполне в силах совершить такое путешествие и хотел бы поехать в Потсдам, чтобы Трумэн мог воспользоваться там советами «самых высокопоставленных гражданских служащих нашего министерства»[2763]. Назавтра, в день вступления Бирнса в должность, Трумэн дал пожилому министру разрешение на поездку. Однако Стимсон ехал отдельно, через Марсель, на военном транспорте «Бразилия», жил в Потсдаме отдельно от президента и госсекретаря и не принимал участия в их ежедневных разговорах с глазу на глаз. Одному из адъютантов Стимсона казалось, что «госсекретарь Бирнс был несколько недоволен присутствием Стимсона… Министра ВМФ там не было – так зачем же там оказался Стимсон?»[2764]. В повествовании о своей карьере, вышедшем в 1947 году под названием «Откровенно говоря» (Speaking Frankly), Бирнс посвятил Потсдаму целую главу, ни разу не упомянув в ней имени Стимсона – роль своего соперника он свел к краткому отдельному обсуждению решения об атомной бомбардировке Японии и приписал ему сомнительную честь выбора целей для нее. Действительно, в Потсдаме Стимсон оказался всего лишь на посылках у Трумэна и Бирнса. Но сообщения, которые он доставлял, имели судьбоносное значение.
«Мы осмотрели 2-ю бронетанковую дивизию, – рассказывает Трумэн об этой берлинской экскурсии в своем импровизированном дневнике, – генерал [Дж. Х.] Кольер, который, кажется, знает свое дело, усадил нас в разведывательную машину с боковыми сиденьями, но без крыши, наподобие фургона первопроходцев со снятым верхом или пожарной машины с сиденьями и без брандспойта, и мы медленно проехали пару километров вдоль строя отличных солдат и машин стоимостью несколько миллионов долларов – которые с лихвой оплатили свой путь до Берлина». Разрушенный город вызвал у него всплеск безрадостных ассоциаций:
Потом мы поехали в Берлин и увидели совершенные развалины. Безумие Гитлера. Он взял на себя слишком много, попытался захватить слишком большую территорию. Он был человеком безнравственным, а его народ его поддерживал. Нигде я не видел более мрачной картины, образа возмездия, возведенного в энную степень…
Я думал о Карфагене, Баальбеке, Иерусалиме, Риме, Атлантиде; о Пекине, Вавилоне и Ниневии; о Сципионе, Рамзесе II, Тите, Арминии, Шермане, Чингисхане, Александре, Дарии Великом. Но Гитлер разрушил только Сталинград – и Берлин. Я надеюсь на какой-то мир – но боюсь, что машины на несколько веков опережают нравы, и только когда нравы догонят их, тогда, возможно, ни в чем этом не будет нужды.
Надеюсь, что нет. Но мы – всего лишь термиты на поверхности планеты, и, может быть, когда мы проникнем в толщу планеты слишком глубоко, наступит возмездие – как знать?[2765]
В «Проекте программы для Японии»[2766], который Стимсон представил Трумэну 2 июля, был изложен анализ положения этой страны – с учетом возможного вступления Советского Союза, все еще сохранявшего нейтралитет, в войну на Тихом океане, – и сделан вывод, что оно безнадежно:
У Японии нет союзников.
Ее флот почти уничтожен, и страна уязвима для надводной и подводной блокады, которая может лишить ее продуктов и материалов, необходимых для жизни ее населения.
Она чрезвычайно уязвима для наших концентрированных воздушных атак на ее перенаселенные города, промышленные и пищевые ресурсы.
Ей противостоят не только англо-американские силы, но и все возрастающие силы Китая и серьезная угроза со стороны России.
Мы обладаем неисчерпаемыми и нетронутыми промышленными ресурсами, которые могут быть применены против ее сокращающегося потенциала.
На нашей стороне сильное моральное преимущество, так как мы были жертвой ее вероломного нападения.
С другой стороны, утверждал Стимсон, в связи с гористым рельефом Японии и тем, что «японцы чрезвычайно патриотичны и, несомненно, откликнутся на призывы к фанатичному сопротивлению вторжению», Америке, вероятно, «предстоят еще более ожесточенные финальные бои, чем в Германии», если она попытается предпринять высадку. Существует ли в таком случае альтернативное решение? Стимсон считал, что оно может существовать:
Я полагаю, что в таком кризисном положении Япония все же способна прислушаться к голосу разума в гораздо большей степени, чем можно заключить из нынешних материалов нашей прессы и другой современной информации. Япония далеко не полностью состоит из безумных фанатиков, мышление которых совершенно отличается от нашего. Напротив, в течение прошлого века она продемонстрировала, что в ней есть чрезвычайно разумные люди, способные освоить за беспрецедентно короткое время не только сложные технологии западной цивилизации, но, в значительной степени, и ее культуру, а также политические и социальные идеи. Ее развитие в этих отношениях… стало одним из самых впечатляющих свершений в истории в области национального развития…
Исходя из этого, я делаю вывод, что Японию следует предупредить в тщательно выбранный момент…
Лично я считаю, что, если [к такому предупреждению] будет прибавлено заверение в том, что мы не исключаем возможности существования конституционной монархии с сохранением нынешней династии, это существенно увеличит шансы на принятие наших условий.
В тексте своего предложения военный министр несколько раз назвал его «эквивалентным безоговорочной капитуляции», но так думали не все. Перед отъездом в Потсдам Бирнс показал этот документ болевшему Корделлу Халлу, также южанину, бывшему при Франклине Рузвельте с 1933 по 1944 год государственным секретарем. Халл немедленно заметил в тексте упоминание уступок «нынешней династии» – то есть императору Хирохито, добродушный близорукий образ которого стал для многих американцев олицетворением японского милитаризма, – и сказал Бирнсу, что «это предложение слишком похоже на попытку умиротворения Японии»[2767].
Возможно, так оно и было, но к моменту прибытия в Потсдам Стимсон, Трумэн и Бирнс уже знали, что оно является также минимальным условием капитуляции, которое японцы вообще готовы рассматривать, каким бы безнадежным ни было их положение. Американская разведка перехватила пересылавшиеся между Токио и Москвой зашифрованные сообщения, в которых японскому послу Наотаке Сато предлагалось попытаться предложить Советам роль посредника в переговорах о капитуляции Японии. «Международное и внутреннее положение империи весьма серьезно, – телеграфировал Сато 11 июля министр иностранных дел Сигэнори Того, – и сейчас тайно рассматривается даже прекращение войны… Мы также выясняем, до какой степени мы можем прибегнуть к услугам СССР в связи с завершением войны… Императорский двор… чрезвычайно озабочен [этим] вопросом»[2768]. Сообщение от 12 июля было составлено в еще более определенных выражениях:
Его величество горячо желает быстрого окончания войны… Однако, пока Америка и Англия настаивают на безоговорочной капитуляции, у нашей страны не остается другого выхода, кроме продолжения войны всеми имеющимися силами ради выживания и сохранения чести нашей Родины[2769].
Японскому руководству казалось, что безоговорочная капитуляция потребует от него отказаться от важных для него традиционных устоев правления; в аналогичных обстоятельствах американцы тоже могли бы воспротивиться выполнению такого требования даже ценой собственной жизни: из этого и исходил Стимсон, внося в условия капитуляции свои оговорки. Но, поскольку имперские учреждения были запятнаны милитаризмом, предложение сохранить их могло показаться равнозначным предложению сохранить милитаристское правительство, управлявшее страной до этого, которое и начало и вело эту войну. Многие американцы, несомненно, могли так думать и заключить впоследствии, что жертвы, принесенные ими во время войны, были преданы самым циничным образом.
Пока Бирнс пересекал Атлантику, Халл обдумал эти затруднения и 16 июля послал ему телеграмму с дальнейшими советами. Японцы могут отвергнуть требование капитуляции, утверждал бывший госсекретарь, даже если императору будет позволено сохранить престол. Это может не только воодушевить милитаристов, которые увидят в этом признак ослабления воли союзников, но и «привести к тяжелейшим политическим последствиям в самих Соединенных Штатах… Не лучше ли будет сперва дождаться результатов союзнических бомбардировок и вступления России в войну?»[2770].
Предупреждение японцев должно было побудить их к скорой капитуляции и позволяло надеяться на предотвращение кровопролитного вторжения; проблема с ожиданием вступления в войну Советского Союза заключалась в том, что такое ожидание оставляло Трумэна еще на несколько месяцев в неприятном неопределенном положении – в полной зависимости от Сталина, в надежде на то, что СССР начнет в Маньчжурии военные действия, которые свяжут там японские войска. Отсрочка, которую предлагал Халл, могла улучшить положение в отношении первого аспекта; при этом она могла усугубить второй.
Однако в тот же вечер в Потсдам прибыло другое сообщение, резко изменившее ситуацию, – Джордж Гаррисон сообщил Стимсону из Вашингтона об успехе испытаний «Тринити».
Операция прошла сегодня утром. Диагноз еще не окончательный, но результаты выглядят удовлетворительно и уже превзошли ожидания. Необходимо сообщение в местной прессе, так как возникает широкий интерес. Д-р Гровс доволен. Он возвращается завтра. Я буду держать Вас в курсе[2771].
«Что же, – с облегчением сказал Стимсон Харви Банди, – я потратил на эту атомную авантюру два миллиарда долларов. Раз она закончилась успехом, меня не посадят в форт Ливенворт[2772]»[2773]. Военный министр радостно отнес телеграмму Трумэну и Бирнсу, только что вернувшимся в Потсдам из Берлина.
Бирнс увидел в долгожданных новостях Стимсона облегчение более общей ситуации. Это отразилось в его ответе Халлу, отправленном той же ночью. «На следующий день, – вспоминает Халл, – я получил от госсекретаря Бирнса сообщение, в котором он соглашался, что заявление [с предупреждением японцев] следует отложить и что, когда оно будет сделано, в нем не должно быть обязательств в отношении императора»[2774]. Теперь у Бирнса были все основания отсрочить предупреждение: сперва нужно было дождаться готовности первых боевых атомных бомб. Это оружие решало первую задачу, о которой говорил Халл; если бы японцы проигнорировали предупреждение, у Соединенных Штатов были бы наготове мощные средства возмездия. Имея такое оружие в своем арсенале, США могли добиваться безоговорочной капитуляции без каких-либо уступок. Кроме того, Америка больше не нуждалась в помощи Советского Союза на Тихом океане; теперь нужно было не столько уговорить Советы вступить в войну, сколько задержать или вообще исключить их участие. «После того как мы с президентом узнали об успехе этих испытаний, – заявляет Бирнс, – ни один из нас уже не стремился заставить их вступить в войну»[2775].
Бирнс и другие члены американской делегации осознали, что сохранение власти императора может быть разумным шагом, если только Хирохито сможет убедить разбросанные на большие расстояния японские армии, имевшие к тому же в своем распоряжении годовой запас боеприпасов[2776], сложить оружие. Составляя приличное случаю заявление, новый государственный секретарь старался найти формулировку, которая не возмутила бы американский народ, но в то же время могла успокоить японцев. Объединенный комитет начальников штабов предложил в первой редакции следующую фразу: «При наличии соответствующих гарантий, исключающих будущие акты агрессии, японскому народу будет предоставлена свобода выбора своей собственной формы правления»[2777]. Политическое устройство Японии опиралось не на народ, а на императорскую династию, но положение о народном правительстве было единственной оговоркой в условиях безоговорочной капитуляции, на которую противник мог рассчитывать.
21 июля Джордж Гаррисон сообщил Стимсону телеграммой, что «все Ваши военные советники, участвующие в подготовке, решительно предпочитают Ваш любимый город»[2778]: Гровс по-прежнему тянулся к Киото. Стимсон быстро ответил, что ему «неизвестны факторы, которые заставляли бы изменить свое решение. Напротив, новые факторы, возникающие здесь, по-видимому, подтверждают его правильность»[2779].
Кроме того, Гаррисон просил Стимсона известить его до 25 июля, «если [появятся] какие-либо изменения в планах», потому что «состояние пациента быстро прогрессирует»[2780]. Одновременно с этим Гровс запросил у Джорджа Маршалла разрешения проинформировать Дугласа Макартура, которому еще не сообщили о новом оружии, с учетом «неизбежности применения бомбы на основе атомного деления в операциях против Японии между 5 и 10 августа»[2781]. Накануне 509-я группа начала сбрасывать на Японию «тыквы», чтобы приобрести боевой опыт и приучить неприятеля к пролетам мелких, лишенных сопровождения групп В-29 на больших высотах.
Отчет Гровса о его собственных впечатлениях от испытаний «Тринити»[2782] прибыл в субботу перед самым полуднем. Стимсон разыскал Трумэна и Бирнса и зачитал его вслух: к его удовлетворению, они слушали его как прикованные. По оценке Гровса, «выработанная энергия была выше 15 000–20 000 тонн в тротиловом эквиваленте»; он привел слова своего заместителя Томаса Ф. Фаррелла, который называл визуальные эффекты «беспрецедентными, великолепными, прекрасными, ошеломляющими и ужасающими». То, что было для Кеннета Бейнбриджа «ужасным и грандиозным зрелищем», превратилось в устах Фаррелла в «ту красоту, о которой великие поэты мечтают, но говорить могут лишь бледно и несовершенно» – видимо, он считал это высокой похвалой. «Что касается нынешней войны, – считал Фаррелл, – у нас было ощущение: что бы еще ни случилось, мы получили теперь средства, позволяющие обеспечить ее быстрое завершение и сохранить жизни тысячам американцев». Стимсон видел, что этот отчет «чрезвычайно взбодрил» Трумэна. «[Он] сказал, что обрел совершенно новую уверенность»[2783].
На следующий день президент встретился для обсуждения результатов Гровса с Бирнсом, Стимсоном и начальниками штабов, в том числе Маршаллом и Счастливчиком Арнольдом. Арнольд давно утверждал, что одних стратегических бомбардировок будет достаточно для принуждения Японии к капитуляции. В конце июня, когда принималось решение о высадке, он срочно отправил Лемея в Вашингтон, чтобы проработать конкретные цифры. Лемей считал, что сможет завершить уничтожение японской военной машины к 1 октября[2784]. «Для этого, – пишет Арнольд, – ему нужно было разобраться приблизительно с 30–60 крупными и мелкими городами»[2785]. Между маем и августом Лемей разобрался с пятьюдесятью восемью. Однако Маршалл был не согласен с оценкой, представленной ВВС. Положение на Тихом океане, сказал он Трумэну, «практически идентично» положению в Европе после высадки в Нормандии. «Одних военно-воздушных сил было недостаточно для вывода Японии из войны. Точно так же они не смогли в одиночку покончить с Германией»[2786]. После войны он объяснил в интервью, как именно он рассуждал в Потсдаме:
Мы считали вопрос о применении [атомной] бомбы чрезвычайно важным. Мы только что пережили ужасные события на Окинаве [в ходе последней крупной островной кампании, за восемьдесят два дня боев которой американцы потеряли убитыми и пропавшими без вести более 12 500 человек, а японцы – более 100 000 убитыми]. Перед этим похожие события происходили на многих других тихоокеанских островах севернее Австралии. Каждый раз японцы демонстрировали, что они не собираются сдаваться и готовы биться насмерть… Ожидалось, что в Японии, у себя дома, они окажут еще более упорное сопротивление. За одну ночь бомбардировки Токио [обычными бомбами] мы уничтожили сто тысяч человек, и это, по-видимому, не оказало на них никакого воздействия. Да, японские города уничтожались, но, насколько мы могли сказать, на боевой дух это не влияло совершенно никак. Поэтому казалось, что совершенно необходимо, если возможно, потрясти их настолько, чтобы это побудило их действовать… Мы должны были закончить войну; мы должны были спасти американские жизни[2787].
До получения отчета Гровса Дуайт Эйзенхауэр, жесткий и прагматичный командир, предложил существенно отличную оценку, рассердившую Стимсона. «Мы проводили вместе весьма приятный вечер в штаб-квартире в Германии, – вспоминает командующий союзными войсками, – с хорошим ужином, все было отлично. Потом Стимсон получил телеграмму, что бомба доведена до совершенства и готова к применению»[2788]. Это была вторая телеграмма, отправленная Гаррисоном на следующий день после испытаний «Тринити», когда Гровс вернулся в Вашингтон:
Доктор только что вернулся, полный энтузиазма и уверенности, что малыш так же крепок, как и его старший брат. Свет его глаз можно было видеть отсюда до Хайхолда, а его крики разносились отсюда до моей фермы[2789].
Хайхолдом называлось имение Стимсона на Лонг-Айленде, в 400 километрах от Вашингтона; вспышка «Тринити» была видна даже на еще большем расстоянии от нулевой отметки. Ферма Гаррисона находилась в 80 километрах от столицы. Эйзенхауэру этот аллегорический шифр показался неприятным, а сама тема – весьма мрачной:
Телеграмма была написана условным шифром, знаете, как это бывает. «Ягненок родился» или еще какая-то чушь в этом роде. Тут он сказал мне, что они собираются сбросить ее на японцев. Я его слушал и ничего не говорил, потому что, в конце концов, моя война в Европе уже закончилась, и все это меня не касалось. Но даже мысли на эту тему угнетали меня все больше и больше. Потом он спросил мое мнение, и я сказал ему, что я против этой идеи по двум соображениям. Во-первых, японцы уже готовы сдаться, и нет никакой необходимости наносить по ним удар этим ужасным оружием. А во-вторых, я совершенно не хотел бы, чтобы наша страна стала первой, применившей его. Ну… старик пришел в ярость. И я его понимаю. В конце концов, именно он отвечал за обеспечение всех тех огромных средств, которые потребовались для создания бомбы, и он, разумеется, имел право это делать, и даже должен был это делать. И тем не менее тут возникла ужасно сложная проблема[2790].
Эйзенхауэр поговорил и с Трумэном, но президент согласился с мнением Маршалла, а также сформировал собственное. «Считаю, что японцы сдадутся до подхода России, – записал он в своем личном дневнике почти сразу после получения известий об успехе “Тринити”. – Уверен, что так они и сделают, когда над их страной появится Манхэттен»[2791].
Теперь момент выпуска Потсдамской декларации зависел, по сути дела, только от сроков готовности первых атомных бомб к применению. Стимсон послал запрос Гаррисону, и тот ответил 23 июля: