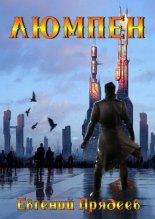Создание атомной бомбы Роудс Ричард
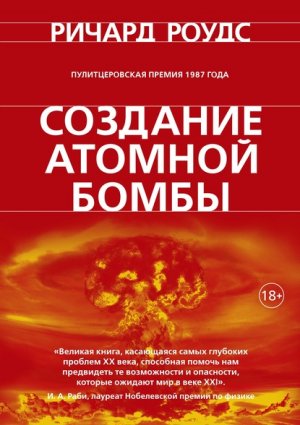
Летом Вудс заканчивала свою диссертацию, но иногда помогала Андерсону искать в Чикаго строительный лес. Ферми планировал построить реактор СР-1 – это название было сокращением от слов Chicago Pile («Чикагский котел») – сферическим, так как эта форма лучше всего максимизирует значение k. Поскольку составляющие реактор слои графитовых блоков должны были концентрически расширяться по мере приближения к экватору сферы, ей нужны были внешние опоры, а из дерева было просто собрать легкий каркас нужной формы. «Я стал закупщиком большого количества пиломатериалов, – говорит Андерсон. – Помню компанию Sterling Lumber и то удивление, которое вызывали у ее сотрудников мои заказы, всегда высшей категории срочности. Тем не менее они исправно поставляли лес, не задавая никаких вопросов. У нас не было почти никаких ограничений ни по деньгам, ни по возможности заказывать все, что мы хотели»[1888].
Одним субботним днем, поехав на верховую прогулку в лесной заказник округа Кук километрах в тридцати к юго-западу от Чикаго, Артур и Бетти Комптон нашли уединенный и живописный участок для строительства реактора, конечную ледниковую морену, заросшую боярышником и дубом падуболистным: это место называлось Аргоннским лесом. Николс от имени армии договорился с округом о предоставлении права использования участка; компания Stone & Webster начала планировать строительство.
Семейство Ферми сняло дом у бизнесмена, переехавшего по военным делам в Вашингтон; поскольку они были враждебными иностранцами, им было запрещено иметь коротковолновый радиоприемник. Хозяину дома пришлось заблокировать в стоявшей в гостиной на третьем этаже большой всеволновой радиоле марки Capehart коротковолновые диапазоны, но она по-прежнему могла принимать танцевальную музыку во время вечеринок. Ферми очень злило, что его почту вскрывают и просматривают; он подавал возмущенные жалобы, пока эта практика не прекратилась (или не стала более скрытной). Комптоны устроили несколько приемов для вновь прибывающих сотрудников Металлургической лаборатории. «На каждом таком вечере, – пишет Лаура Ферми, – гостям показывали английский фильм “Близкий родственник” (Next of Kin). Он изображал в самых черных красках, к чему приводят небрежность и легкомыслие. Портфель, оставленный на полу в общественном месте, похищает шпион. Английские военные планы становятся известными неприятелю. В результате – бомбежка, разрушенные жилые здания, громадные потери на фронте, которых можно было бы избежать… Мы с готовностью приняли к сведению этот намек и поддерживали знакомство только с группой “металлургов”»[1889][1890]. Комптон, называвший себя «одним из тех, кому необходимо обсуждать важные вопросы с женой»[1891], добился допуска к секретным материалам только для Бетти Комптон. Считалось, что все остальные жены ничего не знают о работе своих мужей. Лаура Ферми, как и многие другие, узнала обо всем только в конце войны.
В середине августа группа Ферми смогла объявить о вероятном значении k для реактора из графита и оксида урана, «близком к 1,04»[1892]. Они разрабатывали конструкцию регулирующих стержней и определяли характеристики герметичной оболочки из листового металла и из аэростатной ткани. Использовать ткань в качестве возможной альтернативы металлического кожуха реактора, который не пропускал бы в него поглощающий нейтроны воздух, предложил Андерсон. Идея оказалась осуществимой, и Андерсон занялся ее воплощением: «Я обратился за аэростатной тканью в компанию Goodyear Rubber в Акроне, штат Огайо. У них был большой опыт изготовления дирижаблей и надувных плотов, но заказ на кубический воздушный шар со стороной 7,5 метра показался им несколько странным». Тем не менее компания его выполнила «без лишних вопросов»[1893]. Такая изоляция должна была увеличить значение k еще на один процент[1894].
Кроме того, между 15 сентября и 15 ноября Андерсон, Зинн и их сотрудники последовательно построили под западной трибуной стадиона Стэгг-Филд шестнадцать экспоненциальных реакторов для измерения чистоты разных партий графита, оксида урана и металлического урана, которые они начали получать в огромных количествах. Уран не всегда был достаточно высокого качества. Но химический завод Mallinckrodt в Сент-Луисе, специализирующийся на работе с эфиром, необходимым для очистки графита, начал производить по тридцать тонн высокочистого бурого оксида в месяц, а компания National Carbon и еще один, более мелкий, поставщик значительно повысили качество поставляемого графита, используя в качестве сырья очищенный нефтяной кокс и удвоив время выдержки в печи (при производстве графита используют кокс, который формуют, а затем пережигают в высокотемпературной электродуговой печи в течение долгих часов, пока он не кристаллизуется и из него не испарятся все посторонние включения). К сентябрю начали регулярно прибывать закрытые грузовики с этими материалами. Физики взяли на себя дополнительные обязанности грузчиков: они разгружали грузовики и переносили брикеты и канистры под западную трибуну для окончательной обработки.
Уолтер Зинн взял на себя подготовку материалов для реактора. Графит поступал от разных производителей в виде необработанных балок сечением 10 на 10 сантиметров и длиной от 45 до 125 сантиметров. Чтобы балки плотно прилегали друг к другу, их нужно было отшлифовать и обрезать до стандартной длины около 42 сантиметров. Приблизительно в четверти балок также нужно было высверлить гнезда для кусков урана, которые предполагалось в них установить. В некоторых нужны были сквозные пазы, которые должны были образовать каналы для регулирующих стержней. Оксид урана нужно было спрессовать в брикеты, которые физики называли «псевдосферами», – приземистые цилиндры с закругленными торцами. Для этого предыдущей зимой в Чикаго переправили пресс, найденный на свалке в Нью-Джерси.
В свою команду Зинн набрал с полдюжины молодых физиков, высококвалифицированного плотника и человек тридцать старшеклассников, бросивших школу и зарабатывавших себе на карманные расходы в ожидании призыва в армию. Это были ребята из опасных районов, расположенных за чикагскими скотобойнями, и Зинн, командуя ими, сильно усовершенствовался в сквернословии.
Механическая обработка графита была похожа на заточку тысяч гигантских карандашей. Зинн использовал электрические деревообрабатывающие станки. Сначала две грани каждого графитового брикета делали перпендикулярными и гладкими на фуговальном станке; на рейсмусовом станке отшлифовывали две другие грани; для обрезки брикета до нужной длины использовали маятниковую пилу. Через такую обработку каждый день проходили 14 тонн графитовых брикетов; каждый брикет весил 8,6 килограмма.
Для высверливания глухих отверстий диаметром 83 миллиметра с закругленным дном для урановых псевдосфер – в каждом брикете должно было быть два таких отверстия – Зинн приспособил тяжелый токарный станок. Он закрепил в патроне станка – там, куда обычно устанавливают обрабатываемую деталь, – перовое сверло на 83 миллиметра и прижимал к нему графитовый блок, установленный на каретке станка. Возникла проблема тупых сверл. Зинн попробовал использовать высокопрочные сверла из углеродистого сплава, но их было трудно затачивать. Тогда он начал делать сверла из старых стальных напильников, затачивая их вручную каждый раз, когда они тупились. Одной заточки хватало на 60 отверстий, то есть около часа работы. Всего им пришлось сформировать и отшлифовать 45 000 графитовых блоков и просверлить 19 000 отверстий[1895].
Генерал Гровс впервые появился в Металлургической лаборатории 5 октября и тут же вынес свое первое решение. Технический совет снова спорил о системе охлаждения. «Военное министерство считает этот проект важным, – пересказывает Сиборг формулировку Гровса, которую все они заучили наизусть. – Неправильное решение с быстрым результатом не вызовет возражений. Если нужно выбрать один из двух методов, один из которых заведомо хорош, а другой выглядит перспективным, разрабатывайте оба»[1896]. Гровс потребовал предоставить Комптону решение относительно системы охлаждения к вечеру субботы. Дело было в понедельник. Споры по этому вопросу шли уже несколько месяцев.
Гровс уехал в Беркли под большим впечатлением от работы Металлургической лаборатории, чем показалось его слушателям. «Когда я уезжал из Чикаго, мне казалось, что плутониевый метод дает нам самые высокие шансы на успешное производство материала для бомбы, – вспоминает он. – Все остальные процессы… требовали физического разделения материалов с почти бесконечно малыми различиями в физических свойствах». Само преобразование элементов в цепной реакции было совершенно новой технологией, но остальная часть плутониевого технологического процесса, химическая очистка, «хотя и была чрезвычайно трудной и совершенно беспрецедентной, вовсе не казалась невозможной»[1897].
В начале месяца, к большому облегчению Комптона, бригадный генерал убедил компанию E. I. du Pont de Nemours из штата Делавэр, производившую химикаты и взрывчатые вещества, взять на себя сооружение и эксплуатацию реакторов по производству плутония в качестве субподрядчика компании Stone & Webster. Он хотел вовлечь химическую промышленность в еще более широких масштабах – чтобы плутониевый проект полностью перешел в ее ведение. Однако компания Du Pont противилась расширению своего участия. «У них были вполне здравые резоны, – пишет Гровс, – явные физические опасности этого производства, отсутствие у компании опыта работы в области ядерной физики, многочисленные сомнения в осуществимости технологического процесса, скудость доказанной теории и полное отсутствие основополагающих данных, необходимых для технического проектирования»[1898]. Кроме того, прислав в Чикаго в начале ноября наблюдательную группу из восьми человек, компания Du Pont стала подозревать, что плутониевый проект – наименее перспективный из всех разрабатывавшихся в это время и даже может закончиться провалом, что запятнало бы репутацию компании. Не привлекала ее и перспектива причастности к производству секретного оружия массового уничтожения; в компании еще помнили то общественное осуждение, которое вызвали поставки боеприпасов в Британию и Францию до вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Гровс сказал совету директоров Du Pont, что немцы, вероятно, интенсивно работают над аналогичным проектом и что единственной защитой от нацистской атомной бомбы может быть бомба американская. К этому он добавил еще один довод, который считал решающим: «Если мы вовремя добьемся успеха, мы сможем завершить войну раньше, что спасет десятки тысяч американских жизней»[1899]. На второй неделе ноября компания Du Pont признала возможность начала регулярного производства к 1945 году и приняла заказ (оговорив, что прибыль компании должна быть равна одному доллару, чтобы избежать клейма торговцев оружием), но ясно выразила свое скептическое отношение к проекту и сомнения в его успехе.
В этот момент строители компании Stone & Webster забастовали. Завершение реакторного корпуса, намеченное на 20 октября, оказалось отложено на неопределенный срок. Ферми смирился с этой проблемой только на то время, которое было необходимо для нового расчета рисков управления реактором. В начале ноября он поймал Комптона в его кабинете и предложил альтернативную площадку: тот самый корт для парной игры в сквош, на котором его группа собирала экспоненциальные котлы. Однако работа реактора с коэффициентом k, большим 1,0, была связана с рисками совершенно другого порядка, чем при k, меньшем 1,0; как говорит Сиборг, Комптону предстояло принять «ужасающее решение»[1900]. «Мы не видели возможности возникновения настоящего ядерного взрыва, аналогичного взрыву бомбы, – пишет Комптон, вероятно, с большим спокойствием, чем он ощущал в то время. – Но количество потенциально радиоактивных материалов, присутствующих в реакторе, должно было быть огромным, и в таком месте ни в коем случае нельзя было допустить возникновения чрезмерного ионизирующего излучения»[1901]. Он попросил Ферми проанализировать возможности управления реактором.
Ферми, несомненно, говорил о разнообразных стержнях для ручного и автоматического регулирования, которые он собирался установить в реакторе. Но, согласно расчетам, даже при делении ядер медленными нейтронами их число должно было увеличиваться в несколько тысяч раз за секунду, что могло увеличить температуру и уровень излучения реактора до опасного уровня быстрее, чем любая исто механическая регулировочная система сможет прийти в требуемое положение. «Самым важным фактором, убедившим нас в возможности управления цепной реакцией», говорит Комптон, было одно из самых первых открытий, сделанных группой Ричарда Робертса на факультете земного магнетизма Института Карнеги после того, как Бор объявил в 1939 году об открытии деления. Говоря словами Комптона, оно состояло в том, что «некоторая небольшая часть нейтронов, связанных с процессом деления, испускается не сразу, но через несколько секунд после самого деления»[1902]. В реакторе, работающем с k, лишь немного превышающим 1,0, такие задержанные нейтроны должны были внести в реакцию системы задержку, достаточную для обеспечения возможности регулировки[1903].
На этот раз Комптон принял решение быстро: убедившись в возможности управления, он разрешил Ферми построить реактор СР-1 под западной трибуной. Он решил не сообщать об этом президенту Чикагского университета Роберту Мейнарду Хатчинсу, рассудив, что спрашивать мнения юриста по вопросам ядерной физики не следует. «Он мог ответить только отказом, и этот ответ был бы неправильным. Поэтому я взял ответственность на себя»[1904]. Термин «расплавление активной зоны» еще не вошел в словарь специалистов по реакторной технике – саму эту профессию еще только создавал Ферми, – но именно этим, возникновением миниатюрного Чернобыля посреди густонаселенного города, и рисковал Комптон. Однако Ферми, как ему было известно, был исключительно компетентным инженером.
В середине ноября Ферми разбил свою группу на две бригады, работавшие по двенадцать часов; дневную смену возглавлял Уолтер Зинн (который продолжал при этом руководить подготовкой материалов), а ночную – Герберт Андерсон. Сборка реактора началась утром в понедельник 16 ноября 1942 года. Ферми руководил подвешиванием темно-серой аэростатной оболочки фирмы Goodyear, которую его сотрудники поднимали на место при помощи системы блоков, с балкона корта для парной игры в сквош под западной трибуной стадиона Стэгг-Филд. Оболочка занимала почти все помещение: ее нижняя сторона была растянута по полу, верхняя и три боковых стороны были прикреплены к потолку и стенам, а четвертая боковая сторона, обращенная к балкону, была завернута наверх наподобие тента, открывая доступ внутрь оболочки. Кто-то начертил на нижней стороне окружность, отмечающую место расположения первого слоя графита, и темные скользкие блоки без дальнейших церемоний начали выкладывать на пол. Первый слой состоял из «мертвого» графита, в котором не было урана; твердые кристаллы углерода должны были рассеивать и замедлять нейтроны, порождаемые делением. Выше по реактору после каждого слоя мертвого графита следовали два слоя блоков, в каждом из которых были высверлены два отверстия, а в них установлены две урановые псевдосферы массой по 2,27 килограмма. Таким образом, вокруг каждого куска урана образовывалась кубическая ячейка из рассеивающего нейтроны графита[1905].
Для сооружения деревянного каркаса, как вспоминает Герберт Андерсон, «звали слесаря Гаса Кнута. Мы показывали ему… что нам нужно, он производил несколько измерений, и вскоре балки уже стояли на нужном месте. Не было ни подробных планов, ни чертежей каркаса реактора». Поскольку степень очистки графита, оксида и металлического урана в разных партиях была разной, расположение этих материалов подбиралось по ходу дела. Как говорит Андерсон, Ферми «потратил немало времени на расчеты наиболее эффективного расположения имевшихся [материалов] разного качества»[1906].
Вскоре они выкладывали в среднем чуть менее двух слоев за смену[1907]: блоки переносили с подставок, на которых они были доставлены, и передавали работавшим на штабеле, распевая хором, чтобы скоротать время. Слои мертвого графита выкладывали попеременно в разных направлениях: в трех слоях блоки были ориентированы с востока на запад, в трех следующих – с севера на юг. Это создавало надежную опору для блоков с оксидом, которыми заполняли целые слои, за исключением самых краев, на которых устанавливали блоки мертвого графита, образующие внешнюю оболочку реактора. Укладывавшие блоки физики тщательно следили за совмещением участков десяти каналов для управляющих стержней, которые проходили через весь реактор в точках, широко распределенных по нему. «Была разработана простая конструкция управляющего стержня, – говорит Андерсон, – позволявшая изготовить его прямо на месте: лист кадмия, прикрепленный гвоздями к плоской деревянной доске… Эти [четырехметровые] доски нужно было вводить и выводить вручную. Все время, за исключением моментов измерения реактивности котла, они были установлены внутри реактора и заперты простым засовом с висячим замком, ключи от которого были только у Зинна и у меня»[1908]. Кадмий, обладающий колоссальным сечением поглощения медленных нейтронов, удерживал реактор в неработающем состоянии.
По мере роста реактора они построили деревянные леса, стоя на которых можно было переносить очередные партии блоков с портативного грузового подъемника на собираемую поверхность. До появления этого подъемника, на этапе сооружения крупных экспоненциальных реакторов, они просто наклонялись с шатких лесов, построенных из досок сечением 50 300 миллиметров, и принимали блоки от коллег, подававших их с пола. Однажды Гровс застал их за этим занятием и устроил им разнос за работу с опасностью для жизни. Подъемник, которого никто не заказывал, привезли вскоре после этого.
Закончив пятнадцатый слой, Зинн и Андерсон начали в конце каждой смены измерять интенсивность нейтронного потока в одной и той же точке вблизи центра котла при вынутых регулирующих стержнях. Они использовали разработанный Леоной Вудс счетчик на основе трехфтористого бора, который работал очень похоже на счетчик Гейгера: количество нейтронов можно было определить по его щелчкам. Калибровку счетчика ежедневно проверяли при помощи стандартной индиевой фольги, которую бомбардировали нейтронами из реактора до возникновения радиоактивности. В октябре Ферми жаловался Сегре, что ему приходится заниматься физикой по телефону; теперь он оказался несколько ближе к реальной работе. «Каждый день мы докладывали Ферми, как продвигается сборка, – отмечает Андерсон, – обычно в его кабинете в Экхарт-холле. Мы показывали ему схему слоев, которые мы уже уложили, и договаривались о том, что будет добавлено в течение следующих смен»[1909]. Ферми брал необработанные результаты измерений боровым счетчиком и индием и рассчитывал величину обратного отсчета. По мере приближения реактора к критической для медленных нейтронов массе размножение нейтронов, порождаемых спонтанным делением, успевало до их поглощения произвести все большее и большее количество поколений. Например, при k = 0,99 до затухания цепочки размножения каждого нейтрона в среднем успевало возникнуть сто поколений. Ферми разделил квадрат радиуса котла на величину уровня радиоактивности, наводимой реактором в индии, и получил число, стремящееся к нулю по мере приближения реактора к критическому состоянию. При 15 слоях обратный отсчет был равен 390; при 19 слоях он упал до 320. На 25-м слое он был равен 270, а на 36-м – 149[1910].
С наступлением зимы в неотапливаемом здании западной трибуны стало очень холодно. Стены, полы, коридоры, лабораторные халаты, лица и руки были черны от графитовой пыли. Свет прожекторов рассеивался в черной дымке, висевшей в воздухе. Зубы сверкали белизной на закопченных лицах. Все поверхности стали скользкими; мелкие травмы рук и ног, вызванные выроненными блоками, стали обычным делом. Тем, кто собирал реактор, поднимая в течение каждой смены по нескольку тонн материалов, было достаточно тепло, но несчастные охранники, стоявши у дверей и ворот, мерзли. Зинн попытался отогреть их подручными средствами:
Мы попробовали жечь уголь в пустых железных бочках – получалось слишком дымно. Тогда мы раздобыли несколько декоративных газовых каминов с фальшивыми поленьями. Их подключили к газовой сети, но они сжигали слишком много кислорода и выделяли вместо него чад, который разъедал глаза… На помощь пришел Чикагский университет. Несколько лет назад на кампусе запретили матчи профессионального футбола; мы нашли старую кладовку с большим запасом енотовых шуб[1911]. Поэтому в течение некоторого времени у нас были самые модные по университетским понятиям охранники[1912].
Исходно Ферми спроектировал свой первый полномасштабный реактор в виде 76-слойного шара. Теперь, благодаря получению от компании National Carbon 250 тонн графита более высокого качества, появилась надежда уменьшить поглощение нейтронов до более низкого уровня, чем предполагалось раньше. Колледж штата Айова в Эймсе, где один из руководителей химической группы Металлургической лаборатории Фрэнк Спеддинг превратил исследовательскую лабораторию в импровизированную фабрику по массовому производству урана, начал поставку более чем 6 тонн высокочистого металлического урана в виде 57-миллиметровых цилиндров. «Яйца Спеддинга», вставленные в отверстия, просверленные в гранитных блоках, вместо псевдосфер из оксида, расположили затем в сферической конфигурации вблизи центра решетки СР-1, и это значительно увеличило значение k. Внеся поправки на эти усовершенствования, Ферми увидел, что герметично закрывать аэростатную оболочку Goodyear и откачивать из реактора воздух не потребуется; кроме того, из реактора можно убрать около 20 слоев: величина обратного отсчета должна уменьшиться до нуля, что соответствует k = 1,0, между слоями 56 и 57. Реактор получался не шарообразным, а в форме дверной ручки размером с гараж на два автомобиля, сплюснутого эллипсоида вращения с диаметром экватора около 7,6 метра и высотой от полюса до полюса около 6 метров.
Бригада Андерсена завершила сборку этой окончательной конфигурации в ночь 1 декабря:
В эту ночь сборка шла как обычно, с установленными на место досками, покрытыми кадмием. Когда 57-й слой был завершен, я остановил работу, как мы договорились на встрече с Ферми предыдущим вечером. Все кадмиевые стержни кроме одного были вынуты, и мы замерили интенсивность нейтронного потока в соответствии со стандартной процедурой, которой мы следовали в предыдущие дни. По уровню счета было ясно, что после вывода единственного оставшегося кадмиевого стержня реактор должен перейти в критическое состояние. Я боролся с сильным искушением вытянуть последнюю кадмиевую полосу и стать первым человеком, запустившим цепную реакцию. Однако Ферми предвидел такое искушение и взял с меня обещание провести измерения, записать результат, вставить все кадмиевые стержни и запереть их во введенном состоянии[1913].
Что Андерсон и сделал, после чего он запер корт для сквоша и поехал домой спать.
Реактор, оставшийся ждать в темноте и холоде чикагской зимы включения для производства нейтронов и плутония, содержал 350 тонн графита, 36,5 тонны оксида урана и 5600 килограммов металлического урана. Производство материалов и сборка стоили около 1 миллиона долларов. Единственными видимыми движущимися частями реактора были различные регулирующие стержни. Если бы Ферми планировал использовать его для производства энергии, он окружил бы его бетонными или стальными экранами, предусмотрел бы отвод тепла, вырабатываемого при делении, при помощи гелия, воды или висмута, которые использовал бы для вращения турбин, производящих электричество. Но реактор СР-1 был просто и исключительно научной экспериментальной установкой, разработанной для доказательства существования цепной реакции. Он не имел ни экранов, ни охлаждения, и, при условии, что его удастся запустить в управляемом режиме, Ферми собирался получить мощность не более половины ватта – этого едва хватило бы, чтобы зажечь лампочку карманного фонарика. В течение семнадцати дней сборки, по мере того как коэффициент k приближался к 1,0, он ежедневно следил за состоянием реактора, сравнивая результаты измерений со своими оценками, и был уверен, что сможет управлять его работой, когда цепная реакция наконец пойдет с нарастанием. Один из младших коллег спросил его, что он будет делать, если окажется, что он ошибался. Ферми подумал о гасящем воздействии задержки нейтронов. «Я отойду подальше – не спеша»[1914], – ответил он.
«На следующее утро, – вспоминает начало судьбоносного дня 2 декабря 1942 года Леона Вудс, – было ужасно холодно, меньше –18°. Мы с Ферми пробрались к стадиону по скрипящему голубоватому снегу и повторили проведенные Гербом измерения на стандартном счетчике с трифторидом бора». Ферми построил график своего обратного отсчета; точка новых данных легла точно на линию, которую он построил методом экстраполяции предыдущих измерений, немного не доходя до слоя 57.
Ферми обсудил с Зинном и Вольни Уилсоном программу на этот день, продолжает Вудс; «затем появился сонный Герб Андерсон… Мы с Гербом и Ферми вернулись в квартиру, в которой я жила вместе с сестрой (она была недалеко от стадиона), чтобы поесть. Я приготовила оладьи, но так спешила сделать тесто, что в нем остались комки сухой муки. Когда я пожарила оладьи, эти комки хрустели на зубах, и Герб решил, что я добавила в тесто орехи»[1915].
На улице дул пронизывающий ветер. Бензин второй день продавался в городе по талонам, и чикагцы, оставившие свои машины дома, набивались в переполненные трамваи и поезда подземки: плотность автомобильного движения упала почти вдвое. Госдепартамент объявил этим утром, что в Европе погибли два миллиона евреев, а еще пять миллионов находились в опасности. Германия готовила контрнаступление в Северной Африке; американские морские пехотинцы и японские солдаты сражались в аду Гуадалканала.
Мы пришли обратно, пробираясь по холодному хрустящему снегу… Пятьдесят седьмая улица была необычно пуста. Под западной трибуной было так же холодно, как на улице. Мы надели привычные серые (теперь черные от графита) халаты, вошли на корт для сквоша, на котором возвышался реактор, покрытый грязной, серовато-черной аэростатной тканью, потом поднялись на балкон. Раньше этот балкон предназначался для зрителей, наблюдавших за игрой в сквош, но теперь он был забит контрольным оборудованием и измерительной аппаратурой: все это светилось, мигало лампочками и излучало желанное тепло[1916].
Среди прочей аппаратуры там были устаревшие счетчики на трифториде бора для измерения низкой интенсивности нейтронного потока и ионизационные камеры для измерения более высоких уровней. На деревянном помосте, отходившем от реактора, были установлены автоматические регулирующие стержни, приводимые в действие маленькими электромоторами: в этот день они не использовались. На той же конструкции стоял разработанный Зинном утяжеленный предохранительный стержень под названием ZIP. Его удерживал вне реактора соленоидный захват, управляемый ионизационной камерой; в случае превышения интенсивностью нейтронного потока значения, на которое была установлена камера, соленоид срабатывал и высвобождал стержень, который входил в реактор под действием собственного веса, чтобы остановить цепную реакцию. Еще один стержень, похожий на ZIP, был подвешен на веревке к перилам балкона; рядом с ним стоял, чувствуя себя очень глупо, один из физиков, который должен был перерубить веревку топором, если все остальные предохранительные устройства не сработают. Аллисон настоял даже на создании «команды смертников» – три молодых физика с бутылями раствора сульфата кадмия поднялись под самый потолок на подъемнике, который до этого использовали для доставки наверх графитовых блоков. «Некоторые из нас, – сетует Уоттенберг, – были очень этим недовольны: если бы бутыли случайно разбились вблизи реактора, его материал мог стать бесполезным»[1917]. Джордж Вейль, молодой физик, участвовавший в этой работе еще в Колумбийском университете, занял свое место на корте для сквоша: следуя указаниям Ферми, он должен был перемещать один из кадмиевых регулирующих стержней вручную. У Ферми были счетчики, отмечавшие показания трифторида бора громкими щелчками, и цилиндрический самописец, делавший то же самое беззвучно: он отмечал значения интенсивности нейтронного потока в реакторе чернилами на медленно вращающемся рулоне разграфленной бумаги. Расчеты Ферми производил на карманном калькуляторе того времени – своей испытанной 15-сантиметровой логарифмической линейке.
Где-то в середине утра Ферми начал решающий эксперимент. Сначала он приказал вывести из реактора все кадмиевые стержни кроме одного и проверил, совпадает ли интенсивность нейтронного потока с результатами измерений, которые провел прошлой ночью Андерсон. По результатам этого сравнения группа Вольни Уилсона, работавшая на балконе, подстроила свои приборы, что заняло некоторое время. Ферми заранее рассчитал интенсивность, которой должен был достигать реактор по мере того, как Джордж Вейль постепенно выводил из него последний четырехметровый кадмиевый стержень, выдвигая его на каждом шаге на заранее отмеренную величину.
Когда группа Уилсона была готова, пишет Уоттенберг, «Ферми велел Вейлю выдвинуть кадмиевый стержень приблизительно до середины. [В этом положении реактор оказался] в состоянии, далеко не достигающем критического. Интенсивность стала расти, частота щелчков счетчиков увеличивалась в течение короткого времени, а затем их щелчки снова стали равномерными, как и предполагалось»[1918]. Ферми занялся вычислениями скорости роста на своей логарифмической линейке и записал полученные значения. После этого он попросил Вейля выдвинуть стержень еще на пятнадцать сантиметров. «Интенсивность нейтронного потока снова увеличилась и стабилизировалась. Реактор все еще был в докритическом состоянии. Ферми снова занялся расчетами на своей маленькой линейке и, по-видимому, был доволен результатами вычислений. Каждый раз, когда интенсивность выходила на плато, ее значения соответствовали тому, чего он ожидал для данного положения регулирующего стержня»[1919].
Такие медленные, тщательные проверки продолжались все утро. На балконе начала собираться толпа. Там появились Сцилард, Вигнер, Аллисон и Спеддинг, который изобрел металлические «яйца», позволившие уменьшить высоту реактора. На балконе собрались человек двадцать пять или тридцать зрителей, в основном молодые физики, работа которых уже была закончена. Никто не фотографировал эту сцену, но можно предположить, что зрители были по большей части в костюмах и галстуках по элегантной моде довоенной физики. Поскольку на корте для сквоша было холодно, около 18° мороза, на них наверняка были теплые шубы и шапки, шарфы и перчатки. Помещение было покрыто графитовой пылью. Перед ними возвышался реактор: снизу он был закрыт до середины необработанными сосновыми досками 100 150 миллиметров, над которыми выступал купол из неприкрытого графита. Он был похож на зловещий черный улей в светлой коробке. Пчелами в этом улье были нейтроны, горячие и беспокойные.
Ферми велел выдвинуть стержень еще на пятнадцать сантиметров. Вейль выполнил его команду. Установившийся уровень интенсивности нейтронного потока оказался за пределами диапазона измерений некоторых из приборов. Время шло, говорит Уоттенберг, зрители мерзли, а группа Уилсона снова занялась настройкой своей электроники.
После того как приборы были перенастроены, Ферми велел Вейлю вывести стержень еще на пятнадцать сантиметров. Реактор все еще не достиг критического состояния. Интенсивность росла медленно – как вдруг раздался очень громкий грохот! Произошло автоматическое высвобождение аварийного стержня, ZIP. Ионизационная камера привела в действие его реле, так как интенсивность превысила тот произвольно выбранный уровень, на который она была установлена. Было 11:30 утра, и Ферми сказал: «Я проголодался. Пойдемте пообедаем». Остальные стержни ввели в реактор и заперли[1920].
В два часа дня они были готовы продолжать эксперимент. К ним присоединился Комптон. С ним пришел Кроуфорд Гринуолт, высокий, красивый инженер, возглавлявший группу сотрудников компании Du Pont, работавших в Чикаго. Теперь на корте для сквоша было сорок два человека, по большей части толпившиеся на балконе.
Ферми снова распорядился отпереть и вынуть все кадмиевые стержни кроме одного. Он попросил Вейля установить последний стержень в одно из положений, уже пройденных утром, и сравнил интенсивность реактора с предыдущими показаниями. Убедившись в правильности измерений, он велел Вейлю перевести стержень в последнее положение, до которого они дошли перед обедом: стержень был выведен на два с небольшим метра.
Чем ближе значение k подходило к 1,0, тем медленнее изменялась интенсивность реактора. Ферми выполнил еще одно вычисление. Реактор был близок к критическому состоянию. Ферми попросил ввести стержень ZIP. Это привело к уменьшению счета нейтронов. «На этот раз, – сказал он Вейлю, – выдвиньте регулирующий стержень еще на тридцать сантиметров». Вейль вывел кадмиевый стержень. Ферми кивнул, и стержень ZIP также вывели из реактора. «Этого должно хватить», – сказал Ферми Комптону. Директор плутониевого проекта стоял рядом с Ферми. «Теперь реакция станет самоподдерживающейся. Кривая [на самописце] поднимется и продолжит подниматься; она не стабилизируется»[1921].
Герберт Андерсон был свидетелем этих событий:
Сначала можно было слышать нейтронный счетчик: щелк-щелк, щелк-щелк. Потом щелчки стали все более убыстряться и через некоторое время начали сливаться в непрерывный рев; счетчик уже не справлялся с такой скоростью. В этот момент пора было переключиться на самописец. Но когда на него переключились, внезапно наступила тишина, в которой все следили за все более сильными отклонениями пера самописца. Тишина была благоговейной. Все понимали, что означает это переключение: мы перешли в режим высокой интенсивности, в котором счетчики уже не справлялись с измерениями. Диапазон самописца снова и снова приходилось менять, чтобы он соответствовал интенсивности нейтронного потока, которая росла все быстрее и быстрее. Внезапно Ферми поднял руку. «Реактор перешел в критический режим», – объявил он. Никто из присутствующих ничуть не усомнился в этом[1922].
Ферми позволил себе улыбнуться. На следующий день он доложил техническому совету[1923], что реактор достиг k, равного 1,0006. Интенсивность нейтронного потока удваивалась каждые две минуты. Если бы реактор оставили в таком состоянии на полтора часа, при такой скорости роста интенсивности он достиг бы мощности в миллион киловатт. Однако задолго до этого он должен был убить всех оставшихся поблизости и расплавиться.
«Потом все начали удивляться, почему он не останавливает реактор, – продолжает Андерсон. – Но Ферми оставался абсолютно спокоен. Он подождал еще минуту, потом другую, и наконец, когда беспокойство казалось уже почти невыносимым, скомандовал: “Ввести ZIP!”»[1924] Было 3:53 дня. Заставив реактор проработать в течение 4,5 минуты на мощности полватта, Ферми достиг конечной цели многих лет открытий и экспериментов. Человек научился управлять высвобождением энергии из атомного ядра.
Цепная реакция больше не была миражом.
Юджин Вигнер рассказывает об их ощущениях:
Не произошло ничего особенно зрелищного. Ничто не сдвинулось с места, и сам реактор не издавал никаких звуков. Тем не менее, когда стержни снова задвинули в реактор и щелчки постепенно затихли, мы внезапно ощутили нечто вроде разочарования, так как все мы понимали, о чем говорят эти счетчики. Хотя мы ожидали, что эксперимент будет успешным, его результат нас сильно потряс. Мы знали уже в течение некоторого времени, что должны освободить этого великана; и все же, когда мы поняли, что действительно добились этого, мы не могли избавиться от некоего жутковатого ощущения. Как мне кажется, мы ощущали то же, что ощущает любой человек, совершивший нечто, что, как он знает, будет иметь далеко идущие последствия, которых он не может предвидеть[1925].
За несколько месяцев до этого, понимая, что поставки итальянских вин прерваны войной, Вигнер с трудом разыскал в винных магазинах Чикаго традиционную бутылку – fiasco – кьянти, которую он сохранил, чтобы отметить успешное завершение работы. Теперь он передал Ферми пакет из коричневой бумаги, в котором была эта бутылка. «Все получили по бумажному стаканчику, в который налили немного вина, – говорит Уоттенберг, – и выпили его молча, глядя на Ферми. Кто-то предложил Ферми расписаться на [соломенной] оплетке бутылки. Сделав это, он пустил бутылку по рукам, и ее подписали все, кроме Вигнера»[1926].
Интенсивность нейтронного потока в реакторе, зарегистрированная самописцем
Комптон и Гринуолт ушли, когда Уилсон начал выключать электронику. В коридоре Экхарт-холла Сиборг столкнулся с инженером из компании Du Pont, которого «распирали радостные новости»[1927]. Вернувшись в свой кабинет, Комптон позвонил Конанту, который работал в Вашингтоне, «в моей квартире в общежитии при Исследовательской библиотеке и собрании Гарвардского университета в имении Думбартон-Окс»[1928]. Комптон записал их беседу:
– Джим, – сказал я, – вам будет интересно узнать, что итальянский мореплаватель только что высадился в Новом Свете. – До этого я сообщал Комитету S-1, что до завершения реактора остается еще неделя, если не больше; поэтому я добавил, почти извиняющимся тоном, что «Земля оказалась не такой большой, как он предполагал, и он прибыл в Новый Свет раньше, чем ожидалось».
– Да что вы говорите, – взволнованно ответил Конант. – А туземцы вели себя дружелюбно?
– Все высадились в безопасности и остались довольны[1929].
Кроме Лео Сциларда. Сцилард, добившийся вместе с Ферми этим морозным декабрьским днем осуществления той грезы, которая явилась ему в другой стране серым сентябрьским утром, много лет назад, – возникновения нового мира на месте старого, – маячил на балконе – невысокий, полноватый человек в зимнем пальто. Когда-то он мечтал, что атомная энергия сможет заменить войны научными исследованиями, позволит человечеству покинуть тесную Землю и выйти в космос. Теперь он знал, что гораздо раньше такого исхода она должна еще более усугубить разрушительную силу войны, еще глубже погрузить человечество в пучину страха. Его глаза, прикрытые очками, моргали. Это был конец начала. Вполне возможно, это было начало конца. «Сначала там была целая толпа, а потом мы с Ферми остались наедине. Я пожал Ферми руку и сказал, что, по моему мнению, этот день будет считаться черным днем в истории человечества»[1930].
14
Физика и пустыня
В 1942 году Роберту Оппенгеймеру было 38 лет. К тому времени он проделал, по словам Ханса Бете, «огромную научную работу»[1931]. Физики всего мира считали его известным и уважаемым теоретиком. Однако до летних исследований в Беркли мало кто из коллег считал Оппенгеймера способным на решительное руководство. Хотя за 1930-е годы он стал человеком гораздо более зрелым, сохранившиеся у него привычки, особенно склонность к едким высказываниям, вероятно, скрывали его зрелость от коллег. Однако именно 1930-е подготовили Оппенгеймера к той трудной работе, которая предстояла ему теперь.
Яркая внешность ученого хорошо запомнилась его новому другу и поклоннику этого десятилетия, профессору Университета Беркли, переводчику французской литературы Хакону Шевалье.
[Оппенгеймер] был человек высокий, нервный и целеустремленный; он передвигался странной походкой, своего рода толчками, постоянно размахивая руками и всегда несколько склонив голову набок, причем одно его плечо оказывалось выше другого. Но замечательнее всего была его голова: ореол тонких, вьющихся черных волос, тонкий, острый нос и особенно глаза, неожиданно голубые и обладавшие странной глубиной и проницательностью, но в то же время выражавшие совершенно обезоруживающую искренность. Он был похож одновременно на молодого Эйнштейна и на мальчика-переростка из церковного хора[1932].
Портрет, который рисует Шевалье, подчеркивает моложавость и восприимчивость Оппенгеймера, но упускает из виду его склонность к саморазрушению: постоянное курение, вечный кашель, на который он также вечно не обращал внимания, разрушающиеся зубы, почти постоянно пустой желудок, который он атаковал своими любимыми мартини и невероятно острой пищей. Истощенность Оппенгеймера свидетельствует о том, что он боялся впускать в себя мир. Он стеснялся своего тела и редко позволял себе появляться на людях, например на пляже, раздетым. На работе он носил серые костюмы, голубые рубашки и начищенные черные ботинки. Дома (сначала в маленькой квартире; потом, после женитьбы, в элегантном доме на холмах Беркли, который он купил, заплатив чеком, в первый же день, когда осматривал окрестности) он предпочитал джинсы и синие рабочие рубашки из легкой хлопчатобумажной ткани. Широкий ковбойский ремень с серебряной пряжкой удерживал джинсы на его тощих бедрах. В 1930-х годах такой наряд еще не был привычным – Оппенгеймер перенял его в Нью-Мексико, – и эта деталь тоже отличала его от остальных.
Женщины находили его красивым и эффектным. Перед выходом в свет он иногда присылал гардении не только своей спутнице, но и спутницам своих друзей. «На праздниках он бывал великолепен, – замечает одна из его знакомых, знавшая его в более позднем возрасте, – и женщины его просто обожали»[1933]. Вероятно, причиной такого восхищения была его неизменная заботливость. «Он, – пишет Шевалье, – всегда без видимых усилий проявлял внимание и чуткое отношение ко всем присутствующим и постоянно предупреждал невысказанные желания»[1934].
Мужчин он мог раздражать или забавлять. Эдвард Теллер познакомился с Оппенгеймером в 1937 году. Их встреча, говорит Теллер, была «мучительной, но характерной. В тот вечер, когда я должен был выступать на коллоквиуме в Беркли, он повел меня ужинать в мексиканский ресторан. Тогда у меня еще не было того опыта публичных выступлений, который я приобрел потом, и я с самого начала несколько нервничал. Блюда были настолько горячими, приправы настолько острыми – чего можно было ожидать, зная Оппенгеймера, – а его личность настолько подавляющей, что я потерял голос»[1935]. Эмилио Сегре отмечает, что Оппенгеймер «иногда казался дилетантом и снобом». В 1940-м Энрико Ферми, приезжавший тогда в Беркли с лекцией, любопытства ради сходил на семинар, который один из питомцев Оппенгеймера проводил в стиле своего учителя. «Эмилио, – в шутку говорил потом Ферми Сегре, – я старею и дряхлею. Я уже не в силах уследить за высокоумными теориями, которые развивают ученики Оппенгеймера. Я сходил к ним на семинар и был подавлен своей неспособностью их понять. Меня порадовала только последняя фраза; докладчик сказал: “В этом и заключается теория бета-распада Ферми”». Хотя Сегре считал, что Оппенгеймер обладает «самым быстрым умом, с каким мне приходилось сталкиваться», а также «стальной памятью… блеском и несомненными достоинствами», он также находил в нем «серьезные недостатки», в том числе «проявляющееся иногда высокомерие… [которое] ранило его коллег-ученых в самые уязвимые места»[1936]. «Роберт мог заставить человека почувствовать себя дураком, – попросту говорит Бете. – Так случилось со мной, но я ничего не имел против. А вот Лоуренс имел. Эти двое разошлись, еще когда оба работали в Беркли. Мне кажется, Роберт давал Лоуренсу понять, что тот ничего не понимает в физике, а поскольку Лоуренс создавал циклотроны именно для физики, ему это не нравилось»[1937]. Оппенгеймер признавал эту привычку (но не анализировал ее) в письме к своему младшему брату Фрэнку: «Однако нелегко – по крайней мере, мне нелегко – совершенно избавиться от желания подавлять кого-нибудь или что-нибудь»[1938]. Он называл такое поведение «зверством». Популярности оно ему не добавляло.
В конце 1931 года мать Оппенгеймера умерла после долгой борьбы с лейкемией; именно тогда он сказал Герберту Смиту, который был его преподавателем этической культуры, что он «самый одинокий человек в мире»[1939]. В 1937 году скоропостижно скончался от сердечного приступа его отец. Эти две смерти обозначили границы начального периода познания оторванным от мира физиком страданий нашего мира. Позднее он рассказывал о том, каким неожиданным было это открытие:
Моими друзьями, и в Пасадине, и в Беркли, были по большей части преподаватели, естествоиспытатели, классицисты и художники. Я изучал санскрит и читал на этом языке под руководством Артура Райдера. Я читал много разнообразной литературы, в основном классических авторов, романы, пьесы и поэзию; читал я и кое-что из других разделов науки. Экономикой и политикой я не интересовался и ничего по ним не читал. Я был почти полностью оторван от текущих событий в стране. Я никогда не читал ни газет, ни новостных журналов вроде Time или Harper’s; у меня не было ни радио, ни телефона; о биржевом крахе 1929 года я узнал лишь через долгое время после того, как он произошел; в первый раз в жизни я голосовал на президентских выборах 1936 года. Многим моим друзьям мое безразличие к современным событиям казалось диким, и они часто ругали меня за чрезмерную оторванность от жизни. Меня интересовал человек и опыт его существования, меня чрезвычайно сильно интересовала моя наука, но я не имел никакого понятия о связях человека с обществом…
В конце 1936 года мои интересы начали меняться[1940].
Оппенгеймер сообщает о трех причинах этой перемены. «Я ощущал постоянную, жгучую ярость по поводу того, как в Германии обращались с евреями, – отмечает он в первую очередь. – У меня там были родственники, и впоследствии мне пришлось помогать им выбраться из Германии и приехать в Америку». Они прибыли всего через несколько дней после смерти его отца, и Роберт с Фрэнком взяли на себя ответственность за них.
Кроме того, говорит Оппенгеймер, «я увидел, что делала с моими студентами Депрессия»[1941]. Филипп Моррисон, один из самых талантливых молодых теоретиков, изуродованный полиомиелитом и бедный, вспоминает зато «очень серьезное, очень глубокое увлечение физикой, страсть к науке, которая была в те дни у всех нас»[1942]. Оппенгеймер мог накормить своих любящих учеников ужином; он не мог найти им работу. «И через них, – свидетельствует он, – я начал понимать, какое сильное влияние политические и экономические обстоятельства могут оказывать на жизнь человека. Я начал испытывать потребность в более полноценном участии в жизни общества»[1943].
У него еще не было системной опоры. Найти ее ему помогла женщина, участие которой в его жизни он считает третьей причиной своего вовлечения в дела мира. Этой женщиной была грациозная и порывистая Джин Тэтлок, дочь профессора средневековой литературы из Беркли, известного своим антисемитизмом. «Осенью [1936 года] я начал ухаживать за нею, и мы сблизились. По меньшей мере дважды мы настолько приближались к браку, что считали себя обрученными». Тэтлок была женщиной умной, страстной и сострадательной и часто впадала в депрессию; их отношения были похожи на бурное море. Но такими же были и другие отношения в жизни Тэтлок. «Она рассказала мне об истории своего членства в Коммунистической партии; она то вступала в нее, то снова выходила и, кажется, никогда не находила там того, чего искала». Вместе они начали вращаться в кругу людей, которых он называл «левыми друзьями… Мне нравилось это новое для меня чувство товарищества, и мне казалось тогда, что я становлюсь частью жизни своего времени и своей страны»[1944]. Оппенгеймер увлекся поддержкой испанских республиканцев, сражавшихся в гражданской войне, и помощью оказавшимся в Калифорнии рабочим-мигрантам; на оба этих дела он тратил время и деньги. Он читал Энгельса и Фейербаха и прочел всего Маркса, но их диалектика показалась ему недостаточно строгой: «Я никогда не принимал коммунистической догмы или теории; честно говоря, они меня не убеждали»[1945].
Летом 1939-го он познакомился в Пасадине со своей будущей женой Китти. Она была миниатюрной брюнеткой, с широким, высоким лбом, карими глазами, выдающимися скулами и широким, выразительным ртом. Ее очередным мужем был молодой британский врач, «д-р [Стюарт] Харрисон, друг и сотрудник [Ричарда] Толмена, [Чарльза К.] Лауритсена и других преподавателей Калифорнийского технологического института [где Харрисон занимался изучением рака]. Я узнал, что до этого она была замужем за Джо Даллетом, который погиб на войне в Испании. Он был функционером Коммунистической партии, и в течение года или двух во время их недолгого брака моя жена тоже состояла в ней. Когда я познакомился с нею, я увидел, что она глубоко чтит память своего бывшего мужа, полностью отошла от какой бы то ни было политической деятельности и испытывает разочарование и презрение по отношению к Коммунистической партии, которая не оправдала на деле ее ожиданий»[1946]. Между ними, по-видимому, сразу же возникло сильное взаимное влечение.
Вероятно, под влиянием жены, но также, несомненно, благодаря развитию своего собственного здравого смысла Оппенгеймер начал избавляться от своих политических увлечений, которые стали казаться провинциальными. «Вечером накануне Перл-Харбора я был на большом собрании в поддержку Испании, – например, говорит он, – и на следующий день, когда мы узнали о начале войны, я решил, что с меня, наверное, хватит борьбы за Испанию: в мире были другие, более важные проблемы»[1947]. Таким же образом он был готов оставить по настоянию Лоуренса Американскую ассоциацию научных работников, чтобы, как он считал, помочь в создании атомной бомбы раньше, чем этого добьются нацисты.
К тому времени Оппенгеймер, бывший в начале своей деятельности плохим учителем, так как он преподавал квантовую теорию на уровне, далеко превосходившем познания его малообразованных учеников, как считает Бете, «создал величайшую школу теоретической физики, когда-либо виденную в Соединенных Штатах». Объяснение этой эволюции, которое предлагает Бете, позволяет разглядеть основу будущей работы Оппенгеймера в качестве административного руководителя:
Вероятно, самым важным ингредиентом его преподавательской деятельности был его утонченный вкус. Он всегда умел отличать важные задачи, что видно по тем темам, которые он выбирал для раоты. Он по-настоящему вживался в эти задачи, боролся за решение и делился своими заботами со своей группой… Ему было интересно все, и в течение одного и того же дня [он] мог говорить [со своими студентами] о квантовой электродинамике, космических лучах, образовании электронных пар и ядерной физике[1948].
В это же время та неловкость, которой отличались отношения Оппенгеймера с экспериментом, сменилась уважением, и он занялся целенаправленным изучением экспериментальной работы – хотя сам ею и не занимался. «Он начал наблюдать, не вмешиваясь, – отмечает один из его бывших учеников. – Он научился разбираться в аппаратуре и чувствовать границы ее применимости в эксперименте. Он обладал пониманием физики, лежащей в основе эксперимента, и самой лучшей памятью, какую я когда-либо встречал. Он всегда видел, до какого предела может дойти каждый эксперимент. Когда от эксперимента уже нельзя было добиться большего, можно было не сомневаться, что он понимает это и уже обдумывает, каким может быть следующий шаг»[1949].
Оппенгеймеру оставалось научиться умерять свое «зверство» и скрывать свои причуды. Но он всегда быстро учился. Что характерно, его поведение бывало наименее вычурным, наиболее откровенным, наименее причудливым, наиболее естественным и простым, когда он жил на своем невзрачном ранчо в долине Пекос высоко в горах Сангре-де-Кристо, на севере Нью-Мексико.
Оппенгеймер познакомился с генералом Лесли Р. Гровсом в начале октября 1942 года, когда Гровс прибыл в Беркли из Чикаго в рамках своей первой ознакомительной поездки[1950]. Оба они были на обеде, который давал президент университета; после этого они побеседовали. На заседании технического совета Металлургической лаборатории 29 сентября Оппенгеймер уже говорил о потребности в лаборатории быстрых нейтронов. Как он заявлял после войны, он предполагал, что задачи этой лаборатории не ограничатся одними лишь базовыми исследованиями деления:
Как и другие, я был убежден, что в работе над самой бомбой нужны были радикальные изменения. Нам нужна была центральная лаборатория, полностью посвященная этой задаче, в которой люди могли бы свободно общаться друг с другом, в которой теоретические идеи и экспериментальные результаты могли бы влиять друг на друга, в которой можно было бы избежать бесполезной траты сил, провалов и ошибок, свойственных многочисленным изолированным друг от друга экспериментальным исследованиям, в которой мы смогли бы приступить к решению тех химических, металлургических, инженерных и артиллерийско-технических задач, которыми до сих пор никто не занимался[1951].
Однако тут его память сжимает историю образования лаборатории; вряд ли Оппенгеймер уже на первой встрече с Гровсом обсуждал с ним устранение столь милой сердцу последнего информационной изоляции. Напротив, говорит он дальше, сначала они говорили о превращении лаборатории в «военное учреждение, основные сотрудники которого будут зачислены в армию офицерами»[1952]; перед отъездом из Беркли Гровс даже заехал на соседнюю военную базу, чтобы запустить процедуру их призыва.
Как вспоминает Гровс, его «исходное впечатление от нашего первого разговора в Беркли»[1953] было, что центральная лаборатория – хорошая идея; он был убежден, что «работу [по проектированию бомбы] следует начать немедленно, чтобы по меньшей мере одна часть нашей деятельности могла развиваться в, как я надеялся, спокойном темпе»[1954]. Прежде всего его заботил выбор руководителя; он считал, что даже самое капризное судно может выйти в плавание, если у штурвала будет стоять подходящий человек. Гровс выбрал бы Эрнеста Лоуренса, но сомневался, что кто-нибудь другой сможет добиться успеха в области электромагнитного разделения изотопов. Комптон был слишком занят в Чикаго. Гарольд Юри был химиком. «Возможно, за пределами проекта можно было найти и других подходящих людей, но все они были полностью загружены важной работой, и ни одна из предложенных кандидатур, как мне казалось, не могла сравниться с кандидатурой Оппенгеймера»[1955]. Гровс уже подобрал своего кандидата.
«Решение о назначении Оппенгеймера [директором новой лаборатории] было неочевидным, – отмечает Бете. – В конце концов, у него не было опыта руководства большими группами. Кроме того, эта лаборатория должна была заниматься в основном экспериментальной и технической работой, а Оппенгеймер был теоретиком»[1956]. Хуже того – по крайней мере, с точки зрения руководителей проекта, которые были сплошь нобелевскими лауреатами, – он не мог похвастаться Нобелевской премией. Кроме того, имелась, как называл это Гровс, «загвоздка» с левыми политическими связями Оппенгеймера, «многие из которых нам совершенно не нравились»[1957]. Гровсу еще не удалось отобрать обеспечение безопасности Манхэттенского проекта у армейской контрразведки, а эта организация решительно отказывалась предоставить допуск человеку, бывшая невеста, жена, брат и невестка которого некогда были членами Коммунистической партии – и, возможно, оставались ими втайне.
Несмотря на все это, генерал хотел именно Оппенгеймера. «Он гений, – частным образом сказал Гровс интервьюеру сразу после войны. – Самый настоящий гений. Лоуренс очень умен, но он не гений, а просто труженик. А вот Оппенгеймер знает все. Он может разговаривать на любую тему, о которой зайдет речь. Ну, не совсем. Наверное, есть такие вещи, о которых он не знает. Он ничего не знает о спорте»[1958].
Гровс предложил кандидатуру Оппенгеймера Комитету по военной политике. Комитет заартачился. «После долгого обсуждения я попросил каждого члена назвать мне имя человека, который кажется ему более подходящим кандидатом. Через несколько недель стало ясно, что никого лучше нам не найти, и Оппенгеймера попросили взять эту работу на себя»[1959]. Впоследствии физик сетовал, что его выбрали «за неимением лучшего. По правде говоря, все очевидные кандидаты на эту должность уже были заняты, а у проекта была дурная репутация»[1960]. Раби в конце концов пришел к мнению, что «решение назначить его было гениальным, хотя генерала Гровса обычно не считали гением», но в тот момент «такой выбор [казался] совершенно невероятным. Я был поражен»[1961]. 15 октября 1942 года Гровс, ехавший из Чикаго в Нью-Йорк, попросил Оппенгеймера доехать с ним до Детройта, чтобы поговорить об этом назначении. 19 октября оба встретились в Вашингтоне с Вэниваром Бушем[1962]. Это долгое совещание, по-видимому, было решающим. Вопросы безопасности отошли на второй план.
Следующей задачей было определение места для новой лаборатории. Еще в первом разговоре с Оппенгеймером в Беркли Гровс подчеркивал необходимость изоляции; сколько бы ученым, собравшимся в новом центре, ни было позволено общаться друг с другом, генерал намеревался надежно изолировать их от простого народа. «В связи с этим, – писал Оппенгеймер в середине октября своему иллинойсскому коллеге Джону Г. Мэнли, – по-видимому, в наши планы будут внесены довольно значительные географические изменения». В том же письме Оппенгеймер предлагал «начать с этого момента кампанию совершенно беззастенчивой вербовки всех, до кого мы сможем дотянуться»[1963]. Он хотел получить самых лучших сотрудников и вскоре попросил у Гровса таких людей, как Бете, Сегре, Сербер и Теллер[1964].
Площадка Y, как называлась вначале эта гипотетическая лаборатория, должна была иметь хорошее транспортное обеспечение, достаточное снабжение водой, местную рабочую силу и умеренный климат, позволяющий в течение всего года проводить строительство и эксперименты вне помещений. В своих мемуарах Гровс называет главной причиной изоляции безопасность – «чтобы близлежащие населенные пункты не испытывали на себе неблагоприятного воздействия непредвиденных результатов наших экспериментов», – но высокий стальной забор, увенчанный тройным слоем колючей проволоки, которым в результате обнесли лабораторию, явно не был предназначен для защиты от взрывов. Сам Гровс был занят отбором площадок для производственных центров Манхэттенского проекта; разница между критериями выбора этих точек и площадки Y состояла, по его мнению, в том, что в отношении лаборатории, которая должна была заниматься проектированием бомбы, «нам было необходимо разместить группу высокоталантливых специалистов, некоторые из которых могли оказаться весьма капризными, и создать для них удовлетворительные условия жизни и работы»[1965]. Если Гровс действительно ставил перед собой такую цель, то она оказалась одной из немногих задач военного времени, с которыми он не справился.
Генерал поручил поиски подходящего места для лаборатории майору Джону Г. Дадли, служившему в Манхэттенском инженерном округе. Гровс дал Дадли критерии более конкретные, чем просто удовлетворение капризных ученых: помещения на 265 человек; место, находящееся на расстоянии не менее 300 километров от любых государственных границ, но к западу от Миссисипи; наличие некоторых уже существующих строений; естественная впадина между близлежащими холмами, на которых можно установить ограждение и организовать охрану[1966]. Объездив на самолетах, поездах, автомобилях, джипах и лошадях большую часть юго-запада США, Дадли нашел идеальное место: Оук-Сити, «восхитительный маленький оазис на юге центральной части штата Юта»[1967]. Но для использования этого места армии пришлось бы переселить несколько десятков семей и остановить сельскохозяйственное производство на значительной территории. Поэтому Дадли предложил второй вариант: Хемес-Спрингс, штат Нью-Мексико, глубокий каньон километрах в шестидесяти к северо-западу от Санта-Фе, на западном склоне гор Хемес. «Прекрасное место, – считал Оппенгеймер в начале ноября, еще не посетив его, – подходящее во всех отношениях»[1968].
Однако 16 ноября, когда только что назначенный директор приехал вместе с Дадли и Эдвином Макмилланом, помогавшим в организации лаборатории, осмотреть площадку в Хемес-Спрингс, он изменил свое мнение. Каньон казался слишком тесным; Оппенгеймер хорошо знал живописные места этого района и решил, что из его лаборатории должен открываться красивый вид. Как вспоминает Макмиллан, он тоже выражал «серьезные сомнения относительно этого места»:
Пока мы спорили [с Дадли], появился генерал Гровс. Его приезд был запланирован. Он должен был присоединиться к нам во второй половине дня и заслушать наш отчет. Место не понравилось Гровсу с первого же взгляда; он сказал: «Это нам не годится». <…> Тут Оппенгеймер сказал: «Если проехать вверх по каньону, можно подняться на вершину столовой горы, а там есть школа для мальчиков, которая может нам подойти»[1969].
Оппенгеймер предложил школу, жалуется Дадли, «как будто это была совершенно новая идея». На самом деле Дадли уже дважды обследовал это плато и отверг его, потому что оно не соответствовало критериям Гровса. Но столовая гора – это перевернутая впадина, и ее периметр точно так же можно обнести ограждением. А главным требованием все же было, чтобы место понравилось «умникам». «Поскольку я… знал тамошние дороги (или тропы), – сардонически говорит Дадли, – мы быстро доехали до места»[1970].
«Школа называлась Лос-Аламос, – пишет дочь ее основателя, – по названию глубокого каньона, ограничивающего гору с юга и поросшего тополями, которые стоят вдоль песчаного русла речки, текущей по каньону»[1971]. Основатель школы Эшли Понд был болезненным интернатским ребенком, и его, как и Оппенгеймера, отправляли на запад для поправки здоровья. Уже в зрелом возрасте, когда его отец умер и оставил ему некоторый капитал, он вернулся в Нью-Мексико. Он открыл свою «Школу-ранчо Лос-Аламос» на вершине столовой горы, на высоте около 2200 метров, в 1917 году. Она должна была закалять бледных юнцов так же, как закалялся сам Понд: мальчики спали на неотапливаемых террасах общежития, построенного из растрескавшихся бревен, и ходили в шортах даже зимой, в снегу; каждый из них получал лошадь, на которой ездил и за которой ухаживал. Вокруг школы, пишет Эмилио Сегре, раскинулась «красивая и дикая местность»[1972]. К западу возвышаются темные горы Хемес с верхней кромкой одноименного кратера, осевшего конуса старого вулкана, один из выбросов туфовой породы которого и образовал Лос-Аламос. Восточный склон горы резко обрывается в долину Рио-Гранде, «знойную и бесплодную» за исключением зеленых излучин реки, пишет Лаура Ферми, с «песком, кактусами, редкими соснами, едва подымающимися над землей, и необъятным прозрачным простором, в котором нет ни тумана, ни влаги»[1973]. Еще дальше к востоку стоит стена Скалистых гор: этот хребет, проходящий через Нью-Мексико с севера на юг, образует там массив Сангре-де-Кристо, постепенно становящийся из зеленого красным в закатном свете. «Я помню, как мы приехали [в Лос-Аламос], – продолжает свой рассказ об этом первом осмотре Макмиллан, – дело было в самом конце дня. Шел снег… Было холодно, и мальчики с учителями играли на спортивной площадке в шортах. Я заметил, что к закалке молодежи тут относятся серьезно. Как только Гровс увидел это место, он сказал что-то вроде “Это то, что нам нужно”»[1974].
«Больше всего на свете я люблю физику и пустыню, – писал как-то одному своему другу Роберт Оппенгеймер. – Жаль, что их нельзя свести друг с другом»[1975]. Теперь такая возможность появилась.
Когда об этом месте услыхал Лео Сцилард – горожанин, привыкший к холлам гостиниц, – он был другого мнения. «В таком месте никто не сможет сохранить ясность мысли, – говорил он своим коллегам по Металлургической лаборатории. – Все, кто туда поедет, сойдут с ума»[1976]. В оценочном заключении инженерных войск, подготовленном 21 ноября, описывается крупный лесной участок к северо-западу от Санта-Фе, на расстоянии 56 километров по шоссе, без линий подачи газа или топлива, с одним одноканальным телефоном лесной охраны, среднегодовым количеством осадков 470 миллиметров и годовым диапазоном температур от –24 до +33 °C[1977]. Землю и элементы благоустройства, включая саму школу, шестьдесят лошадей, два трактора, два грузовика, пятьдесят седел, восемьсот вязанок дров, двадцать пять тонн угля и тысячу шестьсот книг, оценили в 440 000 долларов. Школа была готова заключить сделку. Манхэттенский проект приобрел эту живописную площадку для своей лаборатории.
Гровс убедил Калифорнийский университет взять на себя обязанности подрядчика по управлению секретным предприятием. Строительство – дешевых зданий барачного типа, которые должны были просуществовать только до конца войны, с угольными печками, на улицах без тротуаров, по которым можно было бы обойти весеннюю или осеннюю грязь, – началось почти сразу же. «Мы пытались, – пишет Джон Мэнли, физик из Университета штата Иллинойс, работавший тогда с Оппенгеймером, – построить новую лабораторию в пустыне посреди Нью-Мексико, исходно имея под рукой только кижки Горацио Элджера[1978] – или что там читали мальчики в этой школе – и упряжь, которую они использовали для верховой езды, что не очень-то пригодилось нам при сооружении ускорителей, производящих нейтроны»[1979]. Роберт Р. Уилсон, молодой доктор наук из Беркли, преподававший в Принстоне, отправился по просьбе Оппенгеймера в Гарвард и договорился с Перси Бриджменом, что тот предоставит гарвардский циклотрон; Висконсин дал два генератора Ван де Граафа; Мэнли собрал другое оборудование по другим университетам, в том числе в Беркли и в Университете штата Иллинойс. Тем временем Оппенгеймер ездил по всей стране, вербуя ученых:
Перспектива переезда в Лос-Аламос сильно пугала. Речь шла о военном гарнизоне; сотрудникам предлагалось завербоваться более или менее до конца войны; предполагались жесткие ограничения передвижений и свободы семей ученых… От идеи исчезнуть на неопределенный срок в пустыне посреди Нью-Мексико, причем в квазивоенной организации, многим ученым – и семьям многих других – становилось не по себе. Но у этого дела была и оборотная сторона. Почти все понимали, что речь идет о великом предприятии. Почти все знали, что если эта программа будет завершена успешно и достаточно быстро, это может решить исход войны. Почти все знали, что им представляется беспрецедентная возможность применить фундаментальные знания и искусство научных исследований на благо страны. Почти все знали, что эта работа, если она будет доведена до конца, войдет в историю. В конце концов эти чувства – заинтересованность, верность долгу и патриотизм – одерживали верх. Большинство тех, с кем я разговаривал, приехали в Лос-Аламос[1980].
Однако туда не приехал один из самых трезвомыслящих ученых, И. А. Раби. Причины его решения были поучительны. Он продолжил работать в Радиационной лаборатории МТИ над разработкой радаров. «Оппенгеймер хотел, чтобы я стал заместителем директора, – сказал он в интервью много лет спустя. – Я обдумал это предложение и отказался. Я сказал: “Я отношусь к этой войне очень серьезно. Мы можем проиграть, если у нас не будет достаточно хорошего радара”»[1981]. Физик из Колумбийского университета считал потребность в радаре более насущной с точки зрения обороны страны, чем отдаленную возможность получения атомной бомбы. Кроме того, как он сказал Оппенгеймеру, он не желал способствовать всей своей деятельностью тому, чтобы «конечным результатом трех столетий физических исследований»[1982] стало оружие массового уничтожения. Оппенгеймер ответил, что занимал бы «другую позицию», если бы считал атомную бомбу таким результатом. «На мой взгляд, речь в первую очередь шла о разработке в военное время оружия, которое может иметь важное значение»[1983]. То ли Оппенгеймер еще не пришел тогда к более эпохальному взгляду на последствия создания нового оружия, то ли предпочел не обсуждать эти последствия с Раби. Он только попросил Раби принять участие в назначенной на апрель 1943 года конференции по физике, приуроченной к открытию Лос-Аламоса, и помочь ему убедить работать там других, в особенности Ханса Бете. Впоследствии Раби приезжал и уезжал в качестве приглашенного консультанта, что было одним из очень немногих исключений из установленных Гровсом правил разделения и изоляции работ.
В декабре Оппенгеймер приехал в Кембридж, в заснеженную Новую Англию, и поговорил с супругами Бете; они подробно расспрашивали его об условиях жизни, которую он им предлагал. Отрывки из его письма составляют набросок изобретенного им населенного пункта быстрого приготовления: «Лаборатория… город… коммунальные услуги, школы, больницы… своего рода городской управляющий… главный инженер… учителя… база военной полиции… прачечная… две столовые… ответственный за культурную жизнь… библиотеки, экскурсии, кино… однокомнатные квартиры… так называемый гарнизонный магазин… ветеринар… парикмахерские и тому подобное… бар с пивом, колой и легкими обедами». Наилучшей гарантией удовлетворения Бете, заключил Оппенгеймер, были «огромные и щедрые усилия, которые… приложил к организации этого странного поселения Гровс, а также явное стремление [Гровса] сделать его по-настоящему успешным. В общем случае [его] интересует не экономия денег, а… экономия ключевых материалов, сокращение штатов и исключение любых действий, которые могли бы привлечь к нашим шалостям внимание конгресса»[1984]. Он предпочел не упоминать о мерах безопасности, в разработке которых он участвовал: огороженный забором периметр, пропускной режим, почти полное исключение телефонов («Оппенгеймер считал, что телефоны должны быть только у него самого, – говорит Дадли, – и у начальника военной базы, а любой объемный обмен информацией должен производиться по телетайпу»)[1985]. К марту, по словам Теллера, у Бете сложилось «весьма положительное мнение об этом проекте, и уговаривать его приехать не было никакой нужды»[1986].
Теллеру казалось, что в Чикаго у него недостаточно работы, и он стремился переехать в новую лабораторию[1987]. Джон Мэнли попросил его написать проспект, который можно было бы использовать при вербовке, и в начале января Теллер прислал его Оппенгеймеру. Во время летних исследований в Беркли между ними возник, говоря словами другого участника этой работы, «интеллектуальный роман». Теллер «испытывал к Оппи сильную приязнь и уважение. Он все время хотел говорить о нем с другими его знакомыми, то и дело упоминал его имя в разговорах»[1988]. Бете отмечал, и тогда, и потом, что, несмотря на многочисленные внешние различия, Теллер и Оппенгеймер были «по сути… очень похожи. Теллер очень быстро все понимал, так же как и Оппенгеймер… Кроме того, они были несколько схожи и тем, что ощутимые результаты работы обоих, их научные публикации, далеко не отражали того, на что они были способны. Я очень высоко ценю умственные способности Теллера, как и Оппенгеймера, но, с другой стороны, их статьи, хотя среди них попадались и очень хорошие, никогда не соответствовали наивысшим стандартам. Ни тот ни другой так и не поднялись до нобелевского уровня. Мне кажется, до этого уровня невозможно добраться, не будучи в некотором роде интровертом»[1989]. Луис Альварес, удостоенный Нобелевской премии по физике в 1968 году, не соглашается с этим мнением[1990], по меньшей мере в отношении Оппенгеймера. Он считает, что Оппенгеймер получил бы Нобелевскую премию за свои работы по астрофизике, если бы дожил до того времени, когда существование предсказанных им экзотических звездных объектов – нейтронных звезд и черных дыр – было подтверждено астрономическими открытиями. Оба, и Оппенгеймер, и Теллер, писали стихи. Оппенгеймер увлекался литературой так же, как Теллер увлекался музыкой. По-видимому, в течение какого-то периода в 1942 и 1943 годах венгерский физик восхищался старшим и более социально умудренным ньюйоркцем и надеялся сделать его своим союзником.
В этих вербовочных поездках по стране Оппенгеймер с удивлением обнаружил, что мало кого из его коллег привлекает перспектива поступления на военную службу. Возглавить этот бунт выпало на долю Раби и его коллеги по Радиационной лаборатории Роберта Ф. Бахера; произошло это за несколько недель до того, как Раби решил остаться в Кембридже. Одним из главных мотивов своего сопротивления милитаризации они называли необходимость сохранения «научной автономии», писал Оппенгеймер Конанту в начале февраля 1943 года; они настаивали на том условии, что, «хотя осуществление режима безопасности и секретности должно быть делом военных… какие именно меры следует принимать, должна решать лаборатория». С этим предложением Оппенгеймер был согласен: «Я считаю, что это единственный способ обеспечить сотрудничество ученых и избежать ухудшения их морального состояния». Речь шла не просто о возможности потери Раби и Бахера, сообщал Конанту Оппенгеймер: «Я считаю, что солидарность физиков такова, что, если эти условия не будут выполнены, мы не только не сможем привлечь к работе сотрудников МТИ, но и рискуем тем, что многие из ученых, уже собирающихся перейти в новую лабораторию, могут пересмотреть свои обязательства или отнестись к организации с таким недоверием, которое снизит эффективность их работы». Бунт, писал он в заключение, означал бы «существенную задержку нашей работы»[1991].
Гровс хотел зачислить ученых в армию по соображениям секретности и в связи с тем, что их работа может быть опасной. Политические аспекты этого вопроса его интересовали мало, но задержка была недопустима. Он пошел на компромисс. Конант написал письмо, подписанное также и Гровсом, которое Оппенгеймеру было разрешено использовать при вербовке; оно гарантировало сохранение в новой лаборатории гражданской администрации и гражданских сотрудников вплоть до начала опасных крупномасштабных испытаний. После этого все желающие остаться должны были быть зачислены в армию (впоследствии Гровс решил не настаивать на этом требовании). Армия должна была управлять населенным пунктом, который она создавала вокруг лаборатории. За безопасность лаборатории отвечал Оппенгеймер, подчинявшийся в этом отношении Гровсу.
Таким образом, Роберт Оппенгеймер добился для Лос-Аламоса того, чего Лео Сцилард не смог получить в Чикаго, – свободы научного слова. Ценой, которую заплатило за это вновь возникшее сообщество, – ценой социальной и в еще большей степени политической, – была охраняемая ограда из колючей проволоки вокруг города и вторая охраняемая ограда из колючей проволоки вокруг самой лаборатории. Они подчеркивали, что в том, что касается информации о работе в лаборатории, ученые и их семьи отгорожены не только от всего мира, но и друг от друга. «Некоторые европейцы чувствовали себя там очень несчастными, – отмечает Лаура Ферми, – потому что жизнь на огороженной территории напоминала им о концентрационных лагерях»[1992].
Зимой 1942/43 года завод по производству тяжелой воды в Веморке на юге Норвегии стал мишенью британских диверсионных операций[1993]. Британцы планировали отправить туда два планера с 34 подрывниками, набранными из числа обученных добровольцев; когда Гровс, недавно назначенный руководителем Манхэттенского проекта, попросил союзников перейти к активным действиям, они осуществили этот план. 18 октября в районе Рьюкана высадился с парашютами передовой отряд из четырех норвежских десантников, которые должны были подготовить операцию. Однако 19 ноября, когда планеры перелетели из Шотландии через Северное море, ошибки в планировании и плохая погода привели к провалу операции: оба планера разбились в Норвегии, причем один из них врезался в гору. Четырнадцать человек, выживших после крушения, были схвачены германскими оккупационными войсками и казнены в тот же день.
После этого Р. В. Джонсу, оксфордскому питомцу Черуэлла, бывшему в это время начальником разведки Главного штаба британских ВВС, предстояло «принять одно из самых трудных решений в моей жизни» – следует ли отправлять вторую диверсионную группу после гибели первой. «Я рассудил, что мы уже решили, еще до трагической развязки первого рейда и, следовательно, непредвзято, что установку по производству тяжелой воды необходимо уничтожить. В ходе войны следует ожидать потерь, так что, если организация первого рейда была обоснованной, то, вероятно, столь же обоснованным должен быть и повторный рейд»[1994].
На этот раз, 16 февраля 1943 года, в ночь полнолуния, на замерзшее озеро в 50 километрах к северо-западу от Веморка высадились шесть парашютистов, норвежцы, родившиеся в этих местах и прошедшие обучение в войсках специального назначения. «Перед нами лежала Хардангервидда, – пишет один из них, Кнут Хаукелид, о высокогорном плато, окружающем озеро, – самый крупный, изолированный и дикий горный район в Северной Европе»[1995]. Поверх британской военной формы на них были белые десантные комбинезоны; с собой у них были лыжи, продовольствие, коротковолновая радиостанция и восемнадцать комплектов пластиковой взрывчатки – по одному на каждую из восемнадцати сделанных из нержавеющей стали электролитических ячеек установки повышения концентрации[1996]. Так случилось, что эту установку спроектировал как раз физикохимик Лейф Тронстад, бежавший из Норвегии и ставший в Лондоне руководителем диверсионно-разведывательной службы норвежского командования. Хаукелид, горец крепкого телосложения, говорит, что они перенесли «одну из худших метелей, какие мне приходилось встречать в горах»[1997] и встретились несколько дней спустя с четырьмя норвежцами из передового отряда, которым пришлось скрываться в пустынных местах на Хардангервидде; они были истощены от голода и очень ослабели. Вновь прибывшие стали откармливать своих соотечественников, а один из десантников отправился на лыжах в Рьюкан, чтобы собрать свежую информацию о заводе. Вернувшись, он сообщил, что наиболее очевидные подходы заминированы, подвесной мост, пересекающий отвесное ущелье над выступом, на котором был построен гидрохимический завод, охраняется, но, несмотря на провалившуюся ранее планерную атаку, охрану составляют всего пятнадцать немецких солдат. Сам завод был оборудован прожекторами и пулеметами.
Вечером в субботу 27 февраля десантники отправились к своей цели, оставив одного человека охранять радиостанции. У них были с собой капсулы с цианидом: они договорились, что, если кого-нибудь из них ранят, он совершит самоубийство, чтобы не попасть в плен и не выдать товарищей. Они разбили лагерь высоко на горе, расположенной через ущелье от завода, который был размещен так, чтобы использовать энергию воды, текущей из находящегося выше озера Тинншё. «Мы в первый раз увидели свою цель, расположенную на середине противоположного от нас склона ущелья, ниже нашего лагеря. Огромное семиэтажное здание завода подавляло пейзаж своей массой… Хотя дул довольно сильный [ветер], через ущелье до нас доносился гул оборудования. Теперь мы понимали, почему немцы могли охранять завод такими малыми силами. Этот гигантский комплекс был устроен как средневековый замок: он был построен в самом недоступном месте, под защитой пропастей и речек»[1998].
Они спустились, пробираясь по нетронутому мягкому снегу, до самого дна ущелья, пересекли замерзшую реку и поднялись по противоположной стенке ближе к заводу. Выше, на уровне площадки завода, находилась редко используемая железнодорожная ветка, ведущая на завод; они надеялись, что ее немцы не заминировали. «Ночь была темной и безлунной», – вспоминает Хаукелид. Прожекторы были выключены, сильный ветер «заглушал все звуки, которые мы издавали. За полчаса до полуночи мы добрались до покрытого снегом здания в пятистах метрах от Веморка; там мы съели немного шоколада и стали ждать смены караула»[1999]. Они разделились на две группы – группу подрывников и группу прикрытия. «Мы были хорошо вооружены: на девять человек у нас было пять автоматов, и у каждого из нас был пистолет, нож и ручные гранаты»[2000].
Через час, когда бдительность часовых должна была притупиться, они пошли в атаку. Впереди шел Хаукелид с группой прикрытия. Они разрезали болторезом «тоненькую железную цепочку, преграждавшую вход в один из самых важных военных объектов в Европе»[2001]. Группа прикрытия разошлась по заранее назначенным позициям: Хаукелид с еще одним человеком засели в двадцати метрах от немецкой казармы, хлипкого деревянного строения, стены которого, как они видели, можно было прострелить насквозь; группа подрывников вышла вперед. Двери на первом этаже завода были заперты, но Тронстад еще в Лондоне показал десантникам кабельный канал, по которому они могли пробраться прямо к установке по производству тяжелой воды. Два человека залезли в кабельный канал, а двое других отправились на поиски других входов.
После бесконечного, как показалось Хаукелиду, ожидания он услышал взрыв, «но взрыв на удивление слабый, незначительный. И ради этого они прилетели за тысячу миль?»[2002] Охрана не спешила проверять, что случилось; вышел всего один немецкий солдат, и он, по-видимому, не понимал, что произошло. Он подергал двери завода, убедился, что они заперты, посмотрел, не взорвалась ли одна из мин, на которую мог упасть с горы снег, и вернулся в казарму. Норвежцы быстро покинули место диверсии. Они спустились к реке еще до того, как завыли сирены.
Операция прошла успешно. Ни с той ни с другой стороны не было даже раненых. Все восемнадцать ячеек были взорваны, и почти полтонны тяжелой воды вылилось в канализацию. Дело было не только в том, что ремонт установки должен был занять несколько недель. Поскольку установка была устроена по каскадной схеме, – вода со все более высокой концентрацией дейтерия перекачивалась в ней из предыдущей ячейки в следующую, – только для установления в ней естественного равновесия и возобновления производства после ремонта требовался почти год работы оборудования. Генерал Николаус фон Фалькенхорст, главнокомандующий германскими оккупационными силами в Норвегии, назвал нападение на Веморк «самой лучшей диверсией, какую я когда-либо видел»[2003]. Отныне любые работы немецких физиков, в которых использовалась тяжелая вода, должны были замедлиться.
Начиная с 1941 года армейские военно-воздушные силы и Императорский военно-морской флот Японии вели две независимые программы исследований, направленных на создание атомной бомбы[2004]. Престижная токийская лаборатория «Рикен» под руководством Ёсио Нисины в основном работала на армию, исследуя теоретические возможности выделения 235U методами барьерной газовой диффузии, газовой термодиффузии, электромагнитного разделения и центрифугирования. Весной 1942 года ВМФ начал разработку двигателей на ядерной энергии:
Изучение ядерной физики – проект национального масштаба. В Соединенных Штатах, которые недавно поставили себе на службу многочисленных еврейских ученых, продолжаются широкомасштабные исследования в этой области и был достигнут значительный прогресс. Целью является получение огромной энергии из деления ядра. Если эти исследования окажутся успешными, будет получен чрезвычайно мощный и надежный источник энергии, который можно будет использовать для приведения в действие кораблей и другого крупного оборудования. Хотя получения ядерной энергии в ближайшем будущем не ожидается, такой возможностью нельзя пренебрегать. В связи с этим Императорский военно-морской флот настоящим подтверждает свою решимость способствовать и содействовать исследованиям в этой области[2005].
Однако вскоре после этого, довольно мирного, заявления Институт военно-морских технологических исследований учредил секретный комитет, состоявший из ведущих японских ученых, – аналог комитета Национальной академии наук США. Он должен был ежемесячно собираться и рассматривать ход исследований до тех пор, пока не появится возможность вынести окончательное решение, положительное или отрицательное, о возможности создания японской атомной бомбы. В состав этого комитета вошел и Нисина, которого сразу же выбрали его председателем. Одним из более пожилых членов комитета был Хантаро Нагаока, автор сатурнианской модели атома, которая предвосхитила в начале века планетарную модель Резерфорда.
Первое заседание комитета ВМФ, в котором участвовали высшие технические специалисты флота, прошло 8 июля в офицерском клубе в токийском парке Сиба. Его участники отметили, что Соединенные Штаты, вероятно, работают над созданием бомбы, и согласились, что вопросы о том, сможет ли Япония произвести такое оружие и в какие сроки, остаются пока нерешенными. Флот выделил на поиски ответов на эти вопросы 2000 иен, то есть около 4700 долларов – несколько меньше, чем запросил у Казначейства США по требованию Эдварда Теллера в начале существования американской программы, в 1939 году, Урановый комитет.
Нисина почти не участвовал в заседаниях флотского комитета. Видимо, дело осложнялось тем, что он уже работал на армию; эти две ветви вооруженных сил, подчинявшиеся императору напрямую, без посредничества гражданских властей, и гораздо более независимые друг от друга, чем их американские аналоги, все более жестко конкурировали друг с другом. Однако Нисина формировал свои собственные выводы, и в конце 1942 года, когда флотский комитет начал сообщать об отсутствии благоприятных перспектив, встретился частным образом с молодым физиком Тадаси Такеути, специалистом по космическим лучам, работавшим в его лаборатории. Он сказал своему младшему коллеге, что собирается заняться исследованиями разделения изотопов, и попросил его помощи. Такеути согласился.
Между декабрем 1942-го и мартом 1943 года флотский комитет провел десять сессий физического коллоквиума, который должен был разработать окончательное решение по этому вопросу. К тому времени стало ясно, что создание бомбы потребует обнаружения, добычи и переработки сотен тонн урановой руды, а для выделения 235U понадобятся одна десятая всей электроэнергии, вырабатываемой в Японии в течение года, и половина производимой в стране меди. Коллоквиум заключил, что, хотя создание атомной бомбы, несомненно, возможно, ее разработка в Японии может занять десять лет. Ученые полагали, что ни Германия, ни Соединенные Штаты не располагают свободными производственными мощностями, которые позволили бы начать производство атомных бомб достаточно быстро для их применения в войне.
По окончании последнего совещания 6 марта представитель ВМФ на коллоквиуме сообщал о неутешительных выводах: «Лучшие умы Японии, изучив эту тему как с точки зрения областей своей профессиональной деятельности, так и с точки зрения национальной обороны, пришли к выводам, в справедливости которых нельзя усомниться. Чем больше они обдумывали и обсуждали эту проблему, тем более пессимистической становилась атмосфера совещания»[2006]. В результате ВМФ распустил свой комитет и предложил его членам заняться исследованиями, имеющими большую практическую ценность, в частности радарами.
Нисина продолжал изучение изотопов по заказу армии. 19 марта он решил сосредоточиться на термодиффузии, единственной из технологий разделения изотопов, практически осуществимой в условиях все более жесткого экономического дефицита. Он говорил своим сотрудникам о переработке нескольких сотен тонн урана после создания диффузионной установки лабораторного масштаба. Кроме того, он задумал параллельную программу проектирования и разработки оружия, которая должна была проводиться одновременно с производством 235U, аналогично тому, как это происходило в это время в Манхэттенском проекте.
Тем временем другая ветвь ВМФ, Центр администрации флота, выделила финансовую поддержку новому проекту разработки атомной бомбы в Университете Киото, где Токутаро Хагивара поразительно рано предсказал возможность создания термоядерной взрывчатки. В 1943 году университет получил финансирование в размере 600 000 иен – почти 1,5 миллиона долларов, – большая часть которого предназначалась на строительство циклотрона.
Роберт Оппенгеймер приехал в Санта-Фе с группой помощников холодным днем ранней весны, 15 марта 1943 года. В течение следующих четырех недель на автомобилях и поездах приезжали ученые и х семьи. На столовой горе, которую стали называть просто Холмом, мало что было готово. Гровс не хотел рисковать нарушениями секретности в холлах гостиниц Санта-Фе; военные реквизировали под временное жилье несколько достаточно изолированных близлежащих ранчо и закупили в Санта-Фе целый парк подержанных автомобилей и микроавтобусов для поездок по грязи и колдобинам жуткого, неогороженного грунтового серпантина вверх на плато и вниз с него. Из-за проколов шин и застрявших в грязи автомобилей на работу на вершине Холма иногда оставалось мало времени. Некоторым, хотя и слабым, утешением бывал обед – если только грузовику, доставлявшему из Санта-Фе сухой паек, удавалось доехать до места.
Все эти трудности были важны только тем, что они замедляли работу. Оппенгеймер утверждал, что эта работа положит конец не только нынешней войне, но и всем войнам вообще, и его сотрудники ему верили. Поэтому потерянное время измерялось в человеческих жизнях. Вначале главный удар раздражения и нетерпения ученых принимали на себя строительные бригады, не желавшие менять спецификации лабораторных дверей или устанавливать полки, не предусмотренные проектом. Джон Мэнли вспоминает, как он осматривал физико-химический корпус. В одном его конце нужно было устроить подвал для ускорителя, а в другом – прочный фундамент для двух генераторов Ван де Граафа, причем важно было не перепутать их местами. Вместо того чтобы приспособить строительный проект под особенности площадки, строители выдолбили подвал в скале и использовали обломки скальной породы для заполнения фундамента. «Так я познакомился с инженерными войсками»[2007].
Фуллер-лодж, изящный главный корпус лос-аламосской школы, построенный из огромных, обтесанных вручную бревен, сохранили, чтобы использовать в качестве столовой и гостиницы. На расположенном к югу от этого корпуса пруду Эшли-понд, названном в честь основателя школы, зимой можно было кататься на коньках, а летом, среди легкой регулярной ряби, которая оставалась за плавающими в пруду утками, – на лодках. Строители оставили рядом с прудом каменный ледник, в котором школа хранила напиленный зимой лед, и два ряда домов для преподавателей, стоявших в тени деревьев к северо-востоку от главного корпуса. За грунтовой главной дорогой, проходившей через плато к югу от пруда, выросла Техническая площадка, построенная по технологии, известной в армии под названием модифицированной мобилизационной. Она состояла из простых одноэтажных зданий, похожих на вытянутые бараки, с дощатыми стенами и крышами из дранки. Корпус Т был предназначен для Оппенгеймера с подчиненными и отдела теоретической физики. За корпусом Т стоял соединенный с ним крытым переходом гораздо более длинный физико-химический корпус с генераторами Ван де Граафа; еще дальше находились лабораторные мастерские. К югу от этих зданий, вблизи к краю плато, выходившему на каньон Лос-Аламос, строители должны были соорудить криогенную лабораторию и здание для размещения гарвардского циклотрона. К западу и северу от Технической площадки на бывших пастбищах и полях появились первые двухэтажные, четырехквартирные семейные дома, выкрашенные в тускло-зеленый цвет. Позднее были построены другие жилые дома и общежития для неженатых сотрудников.
В начале апреля Оппенгеймер собрал научных сотрудников – как говорит Эмилио Сегре, бывший в их числе, их было в этот момент «человек тридцать»[2008] из ста первоначально завербованных ученых, – на курс вводных лекций. Худой и застенчивый Роберт Сербер сумел, несмотря на свою шепелявость, прочитать эти лекции убедительно; в них кратко излагались выводы летних исследований в Беркли и результаты экспериментальных работ по делению быстрыми нейтронами, проведенных за последний год. Эдвард У. Кондон, родившийся в Аламогордо теоретик с военной стрижкой из компании Westinghouse, которого Оппенгеймер назначил заместителем директора, составил на основе лекций Сербера первый отчет новой лаборатории. Впоследствии этот документ, прозванный «Лос-Аламосским букварем»[2009], выдавали всем вновь прибывающим сотрудникам Технической площадки, которые имели ограниченный допуск к секретным материалам. На отпечатанных на мимеографе двадцати четырех страницах «Букваря» была изложена программа создания в лаборатории первой атомной бомбы.
Лекции Сербера привели в изумление химиков и физиков-экспериментаторов, которых держали до этого в неведении в соответствии с политикой разделения информации. Восторг ученых, наконец узнавших в подробностях то, о чем они ранее лишь догадывались или слышали намеками, показывает, до какой степени режим секретности искажал их эмоциональную вовлеченность в дело. Теперь они наконец могли полностью посвятить себя работе под руководством своих наставников: средний возраст сотрудников лаборатории составлял около двадцати пяти лет; Оппенгеймер, Бете, Теллер, Макмиллан, Бахер, Сегре и Кондон принадлежали к старшему поколению. Благодаря этой вновь обретенной головокружительной свободе ученые почти не обращали внимания на колючую проволоку. Их женам, не получавшим той же информации, но для которых существовали те же ограничения, потому что так решили Оппенгеймер и Гровс, приходилось труднее.
«Целью проекта, – кратко излагает Кондон то, что рассказал ученым Сербер, – является создание практически осуществимого военного оружия в виде бомбы, высвобождение энергии в которой происходит за счет цепной реакции на быстрых нейтронах в одном или нескольких материалах, в которых обнаружено ядерное деление»[2010]. Сербер сказал, что один килограмм 235U приблизительно эквивалентен 20 000 тонн ТНТ, и отметил, что природа сделала это превращение почти недоступным для человека: «Поскольку только последние несколько поколений [цепной реакции] высвобождают достаточно энергии, чтобы произвести значительное расширение [критической массы], постольку и существует возможность того, что реакция разовьется до требуемых масштабов, прежде чем ее остановит расширение активного материала»[2011]. Если бы деление происходило с большим выделением энергии, бомбы так и остались бы навечно заключенными в темных толщах урановой руды.
Сербер говорил о сечениях деления, об энергетическом спектре вторичных нейтронов, о среднем числе вторичных нейтронов на одно событие деления (по данным измерений на тот момент оно составляло около 2,2), о процессе захвата нейтронов в 238U, который приводит к образованию плутония, и о причинах, по которым обычный уран можно считать безопасным («для возникновения возможности взрывной реакции»[2012], как указывал молодой теоретик, необходимо обогащение 235U по меньшей мере до 7 %)[2013]. Он уже называл бомбу словом gadget[2014][2015]; впоследствии это название – панибратская метонимия, вероятно изобретенная Оппенгеймером, – прижилось на Холме. По расчетам, которые представил Сербер, критическая масса металлического 235U в толстой отражающей оболочке из обычного урана составляла 15 килограммов. Для плутония, снабженного аналогичной оболочкой, критическая масса могла быть равна 5 килограммам. Таким образом, сердцем атомной бомбы могли быть «дыня» из 235U или «апельсин» из 239Pu, окруженные отражающим «арбузом» из обычного урана; суммарный диаметр двух вложенных друг в друга сфер должен был составлять около полуметра. Отражающая оболочка, изготовленная из столь тяжелого металла, должна была весить около тонны. Точные значения критической массы в конце концов придется определять в реальных испытаниях, сказал Сербер.
Затем он заговорил о разрушительном воздействии. В области радиусом до 1000 метров вокруг точки взрыва появится высокая концентрация нейтронов, достаточная, чтобы вызвать тяжелые патологические эффекты»[2016]. На некоторое время эта область станет непригодной для жизни. К этому моменту уже стало ясно – а раньше ясно не было, – что ядерный взрыв может причинить не меньший ущерб, чем эквивалентный химический. «Поскольку основным фактором, определяющим ущерб, является количество высвобождаемой энергии, наша цель заключается просто в получении из взрыва максимально возможной энергии. А поскольку материалы, которые мы используем, очень ценны, мы должны добиться этого с максимально возможной эффективностью»[2017].
Как оказалось, эффективность представляла собой серьезную проблему. «В реальном устройстве реакция не дойдет до своего завершения»[2018]. Без использования отражателя, даже при массе активного материала, в два раза превышающей критическую, деление произойдет менее чем в 1 % ядерного материала, после чего этот материал расширится настолько, что цепная реакция не сможет продолжаться. Имелся и другой неблагоприятный вторичный эффект, также стремящийся остановить реакцию: «по мере увеличения давления оно начинает смещать материал к внешним краям [активной зоны]»[2019]. Отражающая оболочка всегда повышает эффективность; она отражает нейтроны внутрь активного материала, а ее инерция – но не ее прочность на растяжение, которая становится пренебрежимой при тех давлениях, которые создает цепная реакция, – замедляет расширение активного материала и удерживает его поверхность от разлетания. Но даже при наличии хорошей отражающей оболочки для создания бомбы с достаточной эффективностью потребовалось бы более одной критической массы.
Еще одна возможная проблема была связана с детонацией. Для детонации бомбы нужно было изменить расположение активного материала так, чтобы эффективное число нейтронов в нем, соответствующее введенному Ферми коэффициенту k, изменилось со значения, меньшего 1, на значение, большее 1. Но как бы ни было организовано изменение расположения материала – самым простым вариантом казалось выстреливание одной докритической частью активного материала в другую докритическую часть внутри пушечного ствола, – невозможно было получить тот медленный, плавный переход, который был у Ферми в реакторе СР-1. Если запустить одну часть в другую с получающейся при выстреле скоростью порядка 900 метров в секунду, соединение этих частей займет время, составляющее около тысячной доли секунды. Но, поскольку для эффективного взрыва необходима масса, превышающая одну критическую, эти части превзойдут критическую массу еще до полного соединения. Тогда, если шальной нейтрон запустит цепную реакцию, вызванный этим неэффективный взрыв разовьется от начала до конца за несколько миллионных долей секунды. «Взрыв, запущенный преждевременным нейтроном, закончится еще до того, как части материала успеют сдвинуться на сколько-нибудь заметное расстояние»[2020]. А из этого следовало, что нейтронный фон – нейтроны, образовавшиеся при спонтанном делении в материале отражающей оболочки, нейтроны, выбитые из случайных вкраплений легких элементов, нейтроны, принесенные космическими лучами, – должен быть максимально низким, а скорость перемещения активного материала – максимально высокой. И в то же время можно было не волноваться о том, что в результате неудачи неповрежденная бомба попадет в руки врага; даже в этом случае выделившаяся энергия была бы эквивалентна по меньшей мере 60 тоннам ТНТ.
Преждевременная детонация уменьшит эффективность бомбы, повторил Сербер; такой же эффект может произвести и поздняя детонация. «Мы должны обеспечить запуск реакции нейтроном при достижении частями активного материала оптимального положения, прежде чем они смогут разделиться и распасться»[2021]. Поэтому в атомной бомбе, возможно, следовало предусмотреть третий основной компонент, в дополнение к ядерному активному материалу и ограничивающей его отражающей оболочке: пусковой источник типа Ra + Be или, лучше того, Po + Be. Например, радий или полоний можно прикрепить к одной части активного материала, а бериллий – к другой; тогда при соединении этих частей произойдет и столкновение частей источника, и он начнет испускать нейтроны, которые запустят цепную реакцию.
Быстрое соединение частей активного материала, продолжал теоретик из Беркли, – «это наименее понятная нам сейчас часть задачи»[2022]. Группа, участвовавшая в летних исследованиях, рассмотрела несколько хитроумных конфигураций. В наиболее удовлетворительной из них предлагалось выстреливать цилиндрической пробкой из активного материала и материала отражателя в соответствующее ей гнездо, высверленное в шаре из активного материала и материала отражателя. Вот как выглядела эта конструкция в разрезе на схеме, приведенной в «Лос-Аламосском букваре»[2023]:
Шар можно было просто приварить к дулу пушечного ствола; после этого цилиндром, который мог весить около 50 килограммов, можно было выстрелить по этому стволу как снарядом:
Наибольшая дульная скорость в артиллерии армии Соединенных Штатов достигается в орудии калибра 120 мм с длиной ствола 6,4 м. Снаряд массой 25 кг развивает в нем дульную скорость 960 м/с. Орудие весит 5 т. Поскольку отношение массы снаряда к массе орудия, по-видимому, приблизительно постоянно для разных орудий, для снаряда массой 50 кг потребуется орудие, весящее около 10 т[2024].
Чтобы получить механизм в восемь раз меньшей массы или удвоить эффективную дульную скорость, можно было сварить два орудия дулами стволов так, чтобы два снаряда одновременно выстреливались друг в друга. Но в такой схеме возникла проблема синхронизации, а для эффективного взрыва могли потребоваться не две, а четыре критические массы, что значительно замедлило бы получение готовой к использованию бомбы.
Сербер описал также некоторые из более гипотетических конфигураций: две половины эллипсоидальной сборки из активного материала и отражателя, похожие на половинки вареного яйца, сдвигаемые воедино скользящим движением; или установленные в кольце клиновидные четверти шара из активного материала и отражателя, подобные четвертинкам яблока. Эта странная и запоминающаяся конструкция, изображенная в «Букваре», а до этого, вероятно, начерченная на доске во время лекции, не осталась незамеченной. «При срабатывании распределенного по кольцу взрывчатого вещества части сборки смещаются взрывом внутрь и образуют шар»[2025][2026].
Автокаталитические бомбы – то есть бомбы, в которых коэффициент размножения нейтронов в течение некоторого времени увеличивает по мере своего развития сама цепная реакция, – казались менее перспективными. В самой продуманной схеме использовались «пузырьки» покрытого бором парафина, находящиеся внутри активного массива 235U; расширение активного материала должно было приводить к сжатию поглощающего нейтроны бора и уменьшению интенсивности такого поглощения, что приводило бы к появлению большего числа нейтронов, способных участвовать в цепной реакции деления. Но «все автокаталитические схемы, предложенные до сих пор, требуют большого количества активного материала, обладают низкой эффективностью без использования чрезвычайно больших количеств материала и опасны в обращении. Требуются какие-то яркие идеи»[2027].
Первоочередной экспериментальной задачей, сказал Сербер в заключение, должно стать измерение нейтронных свойств различных материалов и решение артиллерийских задач – то есть задач объединения критической массы и подрыва бомбы. Также необходимо решить задачу измерения критической массы для деления быстрыми нейтронами на докритических количествах 235U и 239Pu. Для этих работ установлен крайний срок: рабочая конструкция бомб должна быть готова к тому моменту, когда будут готовы уран и плутоний. Это, вероятно, дает им два года.
В марте 1943 года токийский коллоквиум японских физиков решил, что атомная бомба возможна, но практически недостижима для любой из воюющих сторон за то время, когда ее можно было бы использовать в нынешней войне. В начале апреля Роберт Сербер утверждал в своих лекциях в Лос-Аламосе, что для Соединенных Штатов атомная бомба, напротив, возможна и, вероятно, достижима в течение двух лет. Японская оценка была сделана, исходя в основном из технологических соображений. Как и предположение, высказанное Бором в 1939 году, она переоценивала сложности разделения изотопов и недооценивала промышленные мощности США. Кроме того, подобно японскому правительству до Перл-Харбора, она недооценивала самоотверженность американцев. Японской культуре коллективная самоотверженность свойственна более, чем американской. Но в критической ситуации американцы способны проявить это качество и усилить его такими резервами талантов и капиталов, каких нет нигде в мире.
Европейцы, попавшие в Лос-Аламос, жаловались на колючую проволоку. Американцы, за, видимо, единственным исключением в лице Эдварда Кондона, который был настолько подавлен режимом безопасности, что уже через несколько недель вышел из работы над этим проектом и вернулся в Westinghouse, согласились с тем, что условия военного времени требуют, чтобы они работали и жили в огороженном пространстве. Война есть проявление патриотизма, а не науки, и в первое время казалось, что это относится и к их работе на Холме. В Лос-Аламосе было «сравнительно мало ядерной физики»[2028], говорит Бете, – в основном речь шла о расчетах сечений. Они считали, что их собрали там для разработки «практически осуществимого военного оружия». Эта задача была прежде всего задачей патриотической. Науку – хрупкую, только зарождающуюся политическую систему с ограниченными, хотя и растущими возможностями, – приходилось отложить до конца войны. Так, по крайней мере, им казалось. Но некоторые из собравшихся в Лос-Аламосе людей – одним из них, несомненно, был Роберт Оппенгеймер, – чувствовали, что тут имеется некий парадокс. По сути дела, они предполагали, что войну можно выиграть благодаря применению их науки. Более того, они мечтали, что то же применение сможет предотвратить следующую войну и даже положить конец использованию войн в качестве средства урегулирования разногласий между разными странами. Что в конечном итоге должно было привести к решающим последствиям, положительным или отрицательным, для патриотизма.
К середине апреля, когда Роберт Сербер завершил свои вступительные лекции, научные и технические сотрудники по большей части уже прибыли в Лос-Аламос; многие из них временно разместились в зданиях бывшей школы. Теперь началась вторая часть конференции, планирование работы лаборатории. «Если в Лос-Аламосе и были какие-нибудь церемонии открытия, с шампанским или разрезанием ленточек, – отмечает Джон Мэнли, – то я о них ничего не знал. Для большинства из нас, бывших там, настоящим торжественным открытием стала апрельская конференция 1943 года»[2029]. Из Кембриджа и Чикаго приехали Раби, Ферми и Сэмюэл Аллисон, получившие должности старших консультантов. Гровс назначил наблюдательный комитет, членами которого стали У. К. Льюис, инженер Э. Л. Роуз, имевший большой опыт по части разработки артиллерийских систем, Ван Флек, Толмен и еще один эксперт; они должны были контролировать планирование и давать необходимые рекомендации. Несмотря на все свои великолепные организационные и администраторские способности, в присутствии такого множества выдающихся ученых Гровс чувствовал себя не в своей тарелке – да и кто на его месте чувствовал бы себя иначе?
Они составляли свои планы, часто во время прогулок по необитаемым диким местам, окружающим плато[2030]. Во многом им приходилось полагаться на теоретические предположения о тех эффектах, которые они хотели исследовать; это обстоятельство было главным ограничением в их работе. В любом экспериментальном устройстве, способном продемонстрировать цепную реакцию на быстрых нейтронах, необходимо было использовать по меньшей мере одну критическую массу: тут не было места ни контролируемым испытаниям бомб, уменьшенным до лабораторных масштабов, ни демонстрационным экспериментам на корте для сквоша. Они решили проанализировать взрыв теоретически и разработать способы расчета этапов его развития. Нужно было понять, как будет происходить диффузия нейтронов в активном материале и в отражающей оболочке. Требовалась теория гидродинамики взрыва – сложной динамики движения текучих сред, в которые почти моментально должны превращаться активный материал и отражающая оболочка, когда образующие их металлы переходят при нагревании из твердого состояния в жидкое, а затем и в газообразное[2031].
Нужно было провести подробные экспериментальные исследования ядерных явлений, имеющих отношение ко взрыву бомбы, и обобщающие эксперименты, как можно точнее воспроизводящие действие полномасштабной бомбы. Нужно было сконструировать пусковую систему для запуска цепной реакции. Нужно было разработать технологии получения металлического урана и металлического плутония, отливки и формовки этих металлов, а также, возможно, создания их сплавов для улучшения их свойств. В частности, свойства плутония еще только предстояло открыть и оценить, и сделать это нужно было быстро, как только будут получены первые микрограммы этого вещества. Кроме всего этого, поскольку было решено продолжать, хотя и с более низким приоритетом, работу над супербомбой, они собирались построить и запустить установку для производства сжиженного дейтерия при –256 °C; необходимую для этого криогенную установку предполагалось построить у южного края плато.
Жизненно важное значение имела работа отдела артиллерии. Апрельские обсуждения немедленно породили важное достижение в этой области. У высокого, худого тридцатишестилетнего физика-экспериментатора Сета Неддермейера, бывшего ученика Оппенгеймера в Калтехе, которого тот привел из Национального бюро стандартов, возникла совершенно новая концепция сборки. После войны Неддермейер не мог точно вспомнить те сложные мысленные комбинации, из которых она родилась. Шла лекция некоего специалиста по боеприпасам. Он мелочно упрекал физиков в том, что они называют взрыв, который должен соединить части бомбы, неверным термином – explosion[2032], «эксплозия». Правильнее, говорил он, было бы использовать слово «имплозия». Слушая лекции Сербера, Неддермейер уже думал о том, что случится при выстреливании тяжелым металлическим цилиндром в глухое отверстие в еще более тяжелом металлическом шаре. Шары и ударные волны навели его на мысль о сферически симметричных ударных волнах[2033], чем бы они ни были. «Насколько я помню, я думал о том, как заставить снаряд из материала двигаться против упругого потока, – впоследствии сказал Неддермейер в интервью, – и рассчитал минимальное давление, которое нужно для этого приложить. Потом я случайно вспомнил опубликованное кем-то безумное исследование о двух пулях, которые выстреливают навстречу друг другу. Возможно, там даже была фотография двух пуль, которые превращаются в жидкость от соударения. Об этом я и думал, когда этот специалист по баллистике упомянул имплозию»[2034].
Две пули, которые выстреливали навстречу друг другу, напоминали о модели с двумя орудиями из «Лос-Аламосского букваря». В «Букваре» были и другие красноречивые подсказки, ведущие к новой концепции Неддермейера. В этом документе говорится, что при разлетании поверхности активного материала бомбы она «распространяется внутрь материала оболочки, порождая ударную волну, которая сжимает материал оболочки в шестнадцать раз»[2035]. В «Букваре» неоднократно подчеркивается, что расширение активного материала является главным препятствием получения эффективного взрыва. Неддермейеру, возможно, пришло в голову, что, если отражающая оболочка может сопротивляться расширению активного материала и, следовательно, увеличивать эффективность взрыва за счет одной лишь инерции – то есть стремления оставаться на прежнем месте, когда разбухающий активный материал начинает давить на нее изнутри, – то оболочка, которая под действием неких сил сама давит на активный материал, может работать еще лучше. На эту мысль его могло навести и сжатие пузырьков бора в автокаталитической бомбе. Наконец, в «Букваре» предлагалась интересная модель с четырьмя «дольками яблока» из активного материала и отражателя, которые предполагалось соединять взрывом окружающего их кольца. «На этом месте, – говорит Неддермейер, – я и поднял руку»[2036].
Он предложил расположить сферический слой бризантного взрывчатого вещества вокруг сферической сборки из отражателя и полой, но толстостенной сферы активного материала. При одновременной детонации в нескольких точках взрывчатка дает взрыв, направленный внутрь. Ударная волна этого взрыва сжимает со всех сторон отражающую оболочку, а та, в свою очередь, сжимает активный материал. Сжатие изменяет геометрию активного материала, превращая его из полой сферы в сплошной шар. Конфигурация, которая была докритической из-за своей геометрии, сжимается в критическую гораздо быстрее и эффективнее, чем при выстреле любого рукотворного артиллерийского орудия. «Пушка сжимает в одном измерении, – как вспоминает Мэнли, говорил ему Неддермейер. – В двух измерениях получится лучше. А еще лучше в трех»[2037].
Такое трехмерное сжатие и есть имплозия. Неддермейер обозначил возможный новый способ срабатывания атомной бомбы. Эта идея высказывалась и раньше, но дальше разговоров дело не пошло. «На совещании по артиллерийским аспектам, прошедшем в конце апреля, – сообщает техническая история Лос-Аламоса, – Неддермейер впервые представил серьезный теоретический анализ имплозии. Его рассуждения показывали, что сжатие… сферы детонацией окружающего ее слоя взрывчатого вещества осуществимо и что такой способ предпочтительнее использования орудийного ствола, поскольку дает и более высокую скорость, и более короткое расстояние перемещения сборки»[2038].
Первая реакция на это предложение была не очень вдохновляющей. «Неддермейер столкнулся с упорными возражениями Оппенгеймера и, по-моему, Ферми и Бете»[2039], – говорит Мэнли. Как добиться сферической симметрии ударной волны? Как сделать так, чтобы отражатель и активный материал не расплескивались во все стороны, как расплескивается вода, когда ее сжимаешь ладонями? «Никто… на самом деле не относился к [имплозии] достаточно серьезно»[2040], – добавляет Мэнли. Но Оппенгеймеру случалось ошибаться и раньше – в 1939 году он заблуждался даже относительно возможности деления ядер, когда Луис Альварес пересказал ему сообщение об открытии этого явления. Его заблуждение просуществовало минут пятнадцать, пока он не преодолел то упрямство, с которым отвергал любые возможности, которых не предвидел сам. По-видимому, он постепенно учился обходить свою недоверчивую враждебность так же, как Бор обходил безумие в по-настоящему оригинальных идеях. «Это будет исследовано»[2041], – сказал он Неддермейеру в частной беседе после общего обсуждения, которое отвергло его идею. Он назначил Неддермейера руководителем вновь созданной группы экспериментального изучения имплозии в отделе артиллерии, тем самым отомстив этому закоренелому нелюдиму за вызванную им суматоху.
Другой запомнившейся находкой апрельской конференции было исправление ошибки, про которую впоследствии никто не мог понять, как ее можно было не заметить. Эта ошибка, возможно, показывает, насколько физики не были знакомы с артиллерией. Проснувшись однажды утром, Э. Л. Роуз, инженер-исследователь, входивший в созданный Гровсом наблюдательный комитет, осознал, что армейская пушка, на которой физики основывали свои оценки, весила пять тонн только потому, что она должна была быть достаточно надежной, чтобы выдержать несколько выстрелов. Орудие, к дулу которого собирались приварить атомную бомбу, могло быть более хрупким: его должно было хватить на один-единственный выстрел, после которого оно все равно должно было испариться и разлететься в стороны. Поэтому можно было радикально уменьшить его массу и получить бомбу, пригодную для практического применения – в частности для транспортировки самолетом.
Ферми, будучи великолепным экспериментатором, вносил ценный вклад в программу экспериментальных исследований, ясно формулируя задачи, которые следовало изучить. Однако для него военная работа была обязанностью, и искренняя вовлеченность в дело, которую он встречал на Холме, его озадачивала. «После одного из первых заседаний, – вспоминает Оппенгеймер, – он повернулся ко мне и сказал: “Похоже, ваши люди действительно хотят сделать бомбу”. Я помню удивление, звучавшее в его голосе»[2042].
Одним апрельским вечером руководители проекта собрались у Оппенгеймера, в оштукатуренном бревенчатом доме, в котором раньше жил директор школы. Эдвард Кондон, отец которого строил железные дороги на западе США, работал в молодости газетным репортером в опасных районах Окленда; на вечеринке у Оппенгеймера ему представилась возможность высмеять тот наивный оптимизм, который царил в Лос-Аламосе. Он был выдающимся теоретиком; когда-то они с Оппенгеймером вместе снимали жилье в Гёттингене, и Кондон считал, что между ними существует крепкая дружба. В недалеком будущем, когда Кондон резко восстал против насаждаемой Гровсом политики информационной изоляции, ему предстояло убедиться, что его друг и директор считает его поддержку не самым важным из своих дел. Теперь же Кондон взял с полки «Бурю» Шекспира и стал искать в ней описание зачарованного острова Просперо, которое можно было бы иронически применить к изолированной от жизни секретной горе Оппенгеймера, на которой ни у кого не было адреса, переписка проверялась цензурой, на водительских правах не было имен, где целый населенный пункт, в котором рождались и умирали люди, существовал под прикрытием «почтового ящика», – и все это ради обуздания малопонятной природной силы для создания бомбы, которая могла бы положить конец жестокой войне[2043]. В «Буре» имеется множество монологов, которые были бы уместны в этой ситуации, но Кондон наверняка не мог не зачитать вслух один из них, ту реплику Миранды, из которой Олдос Хаксли позаимствовал ироническое название своего романа:
- О чудо! Сколько вижу я красивых
- Созданий! Как прекрасен род людской!
- О дивный новый мир, где обитают
- Такие люди![2044]
В свое время британцы решили не бомбить Веморк, потому что работавший в норвежской разведке в Лондоне физикохимик Лейф Тронстад предупредил, что попадание в резервуары с жидким аммиаком, имевшиеся на гидрохимическом заводе, почти неизбежно приведет к гибели большого числа норвежских рабочих. Но Британия в любом случае уже давно отказалась от точечных бомбардировок[2045].
Еще в начале войны Уинстон Черчилль объявил себя убежденным сторонником массированных воздушных налетов и говорил даже о массовом уничтожении. В июле 1940 года, в тяжелое время после катастрофы в Дюнкерке и в начале битвы за Британию, Черчилль писал об этом министру авиационной промышленности: «Но когда я оглядываюсь в поисках возможностей выиграть войну, я вижу, что существует лишь один надежный способ… и он предполагает абсолютно разрушительные, массированные налеты чрезвычайно тяжелых бомбардировщиков из нашей страны на территорию нацистов. Нам необходимо суметь подавить их этими средствами; никакого другого выхода я не вижу»[2046].
Постепенный переход от точечных бомбардировок промышленных объектов к общим налетам на города был следствием не столько политического решения, сколько технического несовершенства. В начале войны командование бомбардировочной авиации британских ВВС пробовало проводить дальние дневные налеты на точечные цели, но не смогло обеспечить защиту своих самолетов от немецких истребителей и зенитной артиллерии на столь большом расстоянии от дома. Поэтому оно переключилось на ночные налеты, что позволило сократить потери, но привело к резкому снижению точности бомбардировки. Если бомбардировка заводов и других стратегических объектов казалась логичным средством подрыва военной мощи противника, то впоследствии не менее логичным показалось и уничтожение окружавших эти цели кварталов, в которых жили рабочие, – в конце концов, именно рабочие приводили эти заводы в действие. Сэр Артур Харрис, ставший командующим бомбардировочной авиации в начале 1942 года, пишет в своих военных мемуарах, что в этот переходный период лета 1941 года «выбранные цели находились в густонаселенных промышленных районах и тщательно подбирались так, чтобы бомбы, упавшие до или после железнодорожных узлов, на которые был направлен [данный] налет, попадали в эти районы и оказывали негативное влияние на моральное состояние населения. Эта программа представляла собой промежуточный этап между массовым и точечным бомбометанием»[2047]. И здесь, и в другой литературе по воздушной войне выражение «моральное состояние» используется в качестве эвфемизма, обозначающего бомбежки гражданского населения. Другим признаком промежуточного статуса этого этапа было данное экипажам разрешение сбрасывать бомбы перед вылетом за территорию Германии, если цель не была обнаружена.
По словам Черчилля, он распорядился исследовать точность бомбометания по совету Фредерика Линдемана. Летом 1941 года это исследование выяснило, что «хотя командование бомбардировочной авиации считало, что цель была обнаружена, две трети экипажей сбросили бомбы на расстоянии более восьми километров от нее… Если нам не удастся улучшить положение в этой области, продолжение ночных бомбардировок, по-видимому, не имеет большого смысла»[2048]. В ноябре правительство приказало бомбардировочной авиации сократить налеты на Германию.
Сокращение стратегических бомбардировок было признанием провала, как в теории, так и на практике. Более того, это произошло в самый разгар сражений между СССР и германскими армиями на Восточном фронте, в то самое время, когда Иосиф Сталин требовал от союзников открытия второго фронта на Западе. Ни Британия, ни Соединенные Штаты совершенно не были готовы к наземному вторжению в Европу, но обе страны могли предложить ту помощь, которую могли обеспечить воздушные налеты. Помощь Советскому Союзу могла стать политическим оправданием продолжения кампании стратегических бомбардировок, хотя этого было далеко не достаточно, чтобы удовлетворить Сталина. Кроме того, в отсутствие достижений в наземной войне газетные заголовки, сообщающие о почти ежедневных бомбардировках, помогали успокоить общественность в тылу[2049].
Однако политика союзников и пропаганда среди собственного населения их стран не могли быть основной причиной перехода от точечных бомбардировок к массовым, потому что подразделения ВВС США, которые начали прибывать в Британию в 1942 году, еще долго планировали и проводили точечные дневные налеты, хотя они редко бывали эффективными. Более вероятно, что британское командование бомбардировочной авиации изменило свою программу, чтобы оправдать свое дальнейшее существование в качестве службы, задача которой отличается от тактической поддержки армии и флота, и подправило теорию так, чтобы она лучше соответствовала реальным событиям. Его союзником в этом деле стал недавно возведенный в дворянство Линдеман, лорд Черуэлл, подсчитавший в мае 1942 года, что достаточно интенсивные бомбежки городских промышленных районов могут в течение года уничтожить треть жилого фонда Германии. Патрик Блэкетт и Генри Тизард считали оценку Черуэлла слишком оптимистичной и резко возражали против его предложений, но Черуэллу доверял премьер-министр.
В феврале сэр Артур Харрис – которого его подчиненные прозвали Мясником – стал командующим бомбардировочной авиацией и провозгласил новую политику воздушной войны: «Было решено, что теперь ваши операции в первую очередь должны быть направлены на подавление морального состояния вражеского населения, и в частности промышленных рабочих»[2050]. Харрис был свидетелем лондонского блица; как он пишет, этот опыт убедил его в том, что «ни одна страна в мире не сможет выдержать продолжающиеся в течение достаточного времени налеты бомбардировщиков с использованием достаточного количества правильно подобранных бомб». Разумеется, его рассуждения были справедливы, хотя, что такое «правильно подобранные бомбы»[2051], стало ясно лишь по результатам работы Манхэттенского проекта. Организованная Гитлером кампания бомбардировки ради устрашения не устрашила Британию, но вызвала мощный ответный удар того же рода. Харрис, несомненно, ненавидел немцев за то, что они начали и упорно вели две мировых войны. Но он, по-видимому, заботился не столько об уничтожении гражданского населения, сколько о решении задачи превращения бомбардировочной авиации в ощутимо эффективную военную силу. Если ночные налеты и массовые бомбежки были единственными методами, дававшими достаточно хорошие результаты при приемлемых потерях самолетов и их экипажей, то он был готов направить работу своего штаба на совершенствование этих тактик и измерять успешность своей деятельности не в выведенных из строя заводах, а в квадратных километрах стертых с лица земли городов. Другими словами, массовые бомбардировки появились для того, чтобы дать бомбардировщикам цели, по которым они могли попасть.
В марте была проведена бомбардировка зажигательными бомбами балтийского порта Любека, в результате которой значительная часть города сгорела, а количество жертв впервые в ходе этой бомбардировочной кампании достигло четырехзначного числа. 30 мая, стремясь продемонстрировать эффективность бомбардировочной авиации во время общественного обсуждения, Харрис собрал все имевшиеся у него самолеты – сотни легких двухмоторных бомбардировщиков и даже учебных самолетов – и произвел налет на Кёльн, в котором участвовало более тысячи бомбардировщиков. В этом успешном налете, в котором на старинный город на Рейне было сброшено 1400 тонн бомб, две трети из которых были зажигательными, разрушивших около десяти квадратных километров города, Харрис применил тактику так называемых «волн» бомбардировщиков: они летели не маленькими и уязвимыми группами, как раньше, а огромными непрерывными боевыми порядками, подавлявшими противовоздушную оборону. Наконец в августе командование бомбардировочной авиации организовало при поддержке Черуэлла группу наведения: в нее входили опытные экипажи, вылетавшие впереди основных сил и отмечавшие цели цветными сигнальными факелами, чтобы менее опытным пилотам, летевшим за ними в составе основной волны, было легче найти точки бомбометания.
Никакой бомбардировочный флот еще не мог обеспечить точную доставку достаточного количества фугасных бомб для уничтожения целого города. Бомбежка Любека была предназначена для проверки теории о том, что наиболее эффективным способом массовой бомбардировки является поджигание пожаров. Сбрасывая зажигательные бомбы, многочисленные самолеты могли при благоприятной погоде и нужном направлении ветра добиться объединения их разрушительного воздействия, а не распылять его по отдельным целям. Эта теория сработала в Любеке, а затем – в Кёльне, и, поскольку она оказалась результативной, была взята на вооружение. В конце 1942 года британский Генеральный штаб призвал к «последовательному уничтожению и расстройству промышленности и экономики неприятеля, а также подавлению его морального состояния до уровня необратимого ослабления его способности к вооруженному сопротивлению». Черчилль и Рузвельт подтвердили британские планы воздушной войны на истощение в директиве, выпущенной в конце января 1943 года по итогам конференции в Касабланке.
27 мая 1943 года, когда в Лос-Аламосе после апрельских совещаний начиналась работа, командование бомбардировочной авиации приказало провести налет на Гамбург. В его «Совершенно секретном оперативном приказе № 173» новая политика массового уничтожения была сформулирована в явном виде:
ИНФОРМАЦИЯ[1.] Значение гамбурга, второго по величине города Германии с полутора миллионами населения, хорошо известно… Полное разрушение этого города принесло бы неизмеримо важные результаты с точки зрения уменьшения промышленной мощности военной машины неприятеля. Этот результат в сочетании с ударом по моральному состоянию Германии, который должен будет ощущаться по всей стране, должен внести чрезвычайно важный вклад в сокращение и победоносное завершение войны.
2. «Битву за Гамбург» невозможно выиграть за одну ночь. По имеющимся оценкам для полного уничтожения города потребуется сбросить не менее 10 000 тонн бомб… Город должен быть подвергнут последовательным налетам…
3. <…> Мы надеемся, что до и/или после ночных налетов будут произведены массированные дневные налеты силами VIII бомбардировочной группы ВВС США.
ЗАДАЧА4. Уничтожение гамбурга[2052].
Этой операции было присвоено кодовое название «Гоморра»[2053]. Следует отметить утверждение о том, что она должна способствовать более быстрому окончанию войны и победе в ней.
Операция «Гоморра» началась в субботу 24 июля 1943 года; этот день был в Гамбурге жарким и безоблачным. Бомбардировщики группы наведения производили разметку целей при помощи радаров. Первая цель в Гамбурге была выбрана не по соображениям стратегической важности объекта, а по характерному отражению на экране радара: это был треугольный участок земли при слиянии двух рек, Альстера и Северной Эльбы, вблизи старейшей части города и вдалеке от какой бы то ни было военной промышленности. Бомбардировочная авиация научилась корректировать свои целеуказания с поправкой на так называемое «отползание» (creep-back): при приближении к прицельной точке, окруженной зоной особенно интенсивного зенитного огня, бомбардиры стремились сбросить бомбы как можно быстрее, что приводило к постепенному отходу точек попадания все дальше назад от цели. С земли казалось, что поток бомб раскручивается в направлении, с которого заходила волна бомбардировщиков; выжившие назвали это явление «ковровой бомбардировкой». Планировщики целей учли эффект «отползания» в своих расчетах, перенеся целевые точки на несколько километров вперед относительно тех объектов, в которые должны были попасть бомбы. Все зоны «отползания» на расстоянии до шести с лишним километров за гамбургской целевой точкой попали на жилые районы.
Чтобы обеспечить бомбардировщикам еще большее преимущество, Черчилль впервые разрешил использовать секретное антирадарное устройство «Окно» (Window): тюки 27-сантиметровых ленточек из алюминиевой фольги, которые выбрасывали из бомбардировщиков на подходе к цели. Ленточки разлетались по ветру и сбивали с толку радары германской противовоздушной обороны. Эта технология оказалась настолько удачной, что в первом налете из 791 самолета было потеряно всего двенадцать.
В первую ночь Гамбургу был нанесен тяжелый ущерб, но его масштабы не достигали даже уровня Кёльна. 1300 тонн фугасных бомб и почти 1000 тонн бомб зажигательных убили около 1500 человек и оставили без крова многие тысячи жителей. С точки зрения дальнейших событий особенно важно, что первый налет серьезно повредил линии связи и завалил работой пожарные команды.
25 и 26 июля последовали дневные точечные налеты американских Б-17, нацеленные на верфь, производившую подводные лодки, и завод авиационных двигателей. Дым от пожаров, вызванных британской бомбежкой, и дымовая завеса, поставленная германской ПВО, закрывали цели, так что им удалось причинить лишь легкие повреждения.
Ночью 27 июля Харрис приказал нанести по Гамбургу новый бомбовый удар максимальной силы. Планировщики целей установили ту же целевую точку, но с заходом волн бомбардировщиков не с севера, а с северо-востока, чтобы в зоне «отползания» оказались районы, густо застроенные многоквартирными домами, в которых жили рабочие. Поскольку в числе 787 бомбардировщиков этого второго налета должно было быть больше самолетов «Галифакс» и «Стирлинг», а они могли поднять меньше боеприпасов и топлива, чем бомбардировщики дальнего действия «Ланкастер», был изменен и состав бомбового груза: количество фугасных бомб было уменьшено, а количество зажигательных увеличено для 1200 тонн. Кроме того, в налете участвовали более опытные пилоты – старшие офицеры, желавшие посмотреть на работу «Окна». Все эти непредвиденные изменения внесли свой вклад в ту катастрофу, которая случилась этой ночью.
В 6 часов вечера 27 июля температура воздуха в Гамбурге составляла 30° при 30 %-й влажности. На складах угля и кокса в западной части города все еще горели пожары. Поскольку огонь пожаров уничтожал эффект затемнения, большая часть имевшегося в Гамбурге противопожарного оборудования была перемещена в этот район для их тушения. «Было совершенно тихо, – вспоминает немка, жившая в нескольких километрах к северо-востоку, в районе, попавшем в запланированную зону “отползания”. – <…> Был очаровательно красивый летний вечер»[2054].
Группа наведения начала сбрасывать желтые маркеры и бомбы через пятьдесят пять минут после полуночи 28 июля. Пять минут спустя подошла основная волна бомбардировщиков. Цели были отмечены точно, а «отползание» было медленным. Экипажи самолетов, прилетавших позже, начали замечать отличие этого налета от тех, в которых им приходилось участвовать раньше. «Наши налеты по большей части выглядели как гигантские фейерверки над целевой зоной, – отмечает один сержант, – но на этот раз это был “налет налетов”»[2055]. Его отличие описывает капитан авиации:
То, как горел этой ночью Гамбург, поражало тем, что я видел не несколько пожаров, а один. В темноте возвышался купол бурного, ярко-красного огня, горящего как сияющий очаг огромной жаровни. Я не видел ни пламени, ни контуров здания – только похожие на желтые факелы более яркие вспышки на фоне ярко-красного пепла. Над городом висела туманная красная дымка. Я смотрел вниз с интересом и страхом, ощущая одновременно и удовлетворение, и ужас. Никогда прежде я не видел такого пожара, и мне больше не суждено было увидеть ничего подобного[2056].
Этот невиданный ужас возник из сочетания летней жары и низкой влажности, смеси фугасных и зажигательных бомб, которые сперва создавали горючие материалы, а затем поджигали их, и отсутствия в зоне бомбежки противопожарного оборудования. Через час после начала бомбардировки у этого ужаса появилось имя, впервые записанное в главном журнале гамбургского Управления пожарной охраны: Feuersturm, «огненный смерч». Гамбургский рабочий вспоминает, как он возник минут через двадцать после начала бомбардировки, продлившейся час:
Потом поднялась буря, на улице раздался пронзительный вой. Буря превратилась в ураган, так что мы оставили всякую надежду потушить пожар [завода]. Казалось, что мы всего лишь капаем водой на раскаенный камень. Весь двор, весь канал, собственно, все, что мы могли видеть, превратилось в одно огромное огненное море[2057].
Мелкие пожары сливались в пожары более крупные, и те жадно всасывали воздух по краям объединяющегося пекла и раздували новые пожары. От этого возникал ветер, поднимавшийся над городом тепловым столбом, похожим на невидимую трубу над очагом; этот ветер поднял температуру в центре огненного вихря более чем до 1400°. Жар такой силы расплавил окна трамвая; ветер такой силы с корнем выворачивал деревья. Пятнадцатилетняя девочка из Гамбурга вспоминает:
Мать обернула меня мокрыми простынями, поцеловала и сказала: «Беги!» Я в нерешительности замешкалась в дверях. Я видела перед собой только огонь – все было красным, как в печке. Меня обдало сильным жаром. Перед моими ногами упала горящая балка. Я шарахнулась назад, но потом, когда я уже готова была через нее перескочить, ее унесло прочь как будто призрачной рукой. Я выбежала на улицу. Бывшие на мне простыни действовали как паруса, и мне казалось, что меня уносит бурей. Я добралась… до четырехэтажного квартирного дома, перед которым мы договорились встретиться… Кто-то вышел наружу, схватил меня за руку и затащил в дверь[2058].
Пожар наполнял воздух горящими углями и плавил улицы, рассказывает девятнадцатилетняя модистка:
Мы подошли к двери, которая горела, совсем как кольцо, через которое прыгает в цирке лев… На улице шел ливень крупных искр, каждая размером с монету в пять марок. Я пыталась бежать посередине улицы против ветра, но смогла добраться только до углового дома…
Мы благополучно дошли до [парка] Лёшплац, но я не смогла перейти через Айффештрассе, потому что асфальт расплавился. На дороге были люди – некоторые уже мертвые, другие были еще живы, но застряли в асфальте. Они, видимо, выбежали на дорогу, не подумав. Их ноги застряли, а потом они попытались освободиться, уперевшись руками. Они стояли на четвереньках и кричали[2059].
Огненный смерч полностью выжег около десяти квадратных километров города, район приблизительно в два раза меньше Манхэттена. В герметично закрытых убежищах, как в духовках, тела погибших жарились в их собственном растопленном жире; трупы других, превратившиеся в сморщенные почерневшие комки, валялись на улицах. Бывало и хуже, как видно из ужасных воспоминаний женщины, бывшей тогда пятнадцатилетней девочкой:
[На следующий день] четырехэтажные жилые дома были похожи на светящиеся каменные холмы; это свечение доходило до самых подвалов. Казалось, все вокруг плавилось и выталкивало перед собой трупы. Женщины и дети были обуглены до неузнаваемости; те, кто умер от недостатка кислорода, были лишь частично обуглены, и их можно было опознать. Их мозги вываливались из расколотых черепов, а внутренности – из мягких тканей под ребрами. Какой ужасной, должно быть, была смерть этих людей. Самые маленькие дети лежали на мостовой, как зажаренные угри[2060].
В эту ночь бомбардировочная авиация убила не менее 45 000 немцев, по большей части стариков, женщин и детей.
Бомбежка Гамбурга отнюдь не была уникальной. Она была лишь одним из зверств все более зверской войны. Между 1941 и 1943 годами германская армия взяла в плен на Восточном фронте около двух миллионов советских солдат[2061] и заключила их в лагеря военнопленных, в которых у них не было ни еды, ни крова над головой. Не менее миллиона из них умерли от холода и голода. Одновременно с этим всерьез началось «окончательное решение еврейского вопроса» – осуществление гигантской программы нацистов по уничтожению европейских евреев, принятой на Ванзейской конференции 20 января 1942 года, на которой в пригороде Берлина собрались представители координировавших эту программу ведомств. Нацисты считали, что евреи образуют отдельный народ (поскольку национальность определялась нацистами в первую очередь по расовому происхождению), укоренившийся среди немцев с подрывными целями, и, следовательно, с этим народом Третий рейх прежде всего и ведет войну. Убежденность в том, что победой над евреями может быть только полное их уничтожение, была плодом извращенного разума Гитлера; союзники стремились в своей оборонительной войне с Германией и Японией лишь к их полной капитуляции, в обмен на которую должно было прекратиться массовое уничтожение солдат и гражданского населения.
Одним из путей эскалации войны воюющими сторонами было совершенствование смертоносных технологий. Более совершенные бомбардировщики и средства их защиты – например та же система «Окно» – были усовершенствованием оборудования; таким же усовершенствованием были и душевые камеры в лагерях смерти, эффективно наполняемые смертоносным отравляющим газом «Циклон-Б». Система волн бомбардировщиков и поправки на «отползание» были усовершенствованием организационным; таким же усовершенствованием были и железнодорожные расписания, разработанные Адольфом Эйхманом для обеспечения бесперебойной доставки заключенных в лагеря.
Другим направлением эскалации было расширение круга допустимых жертв, которые могли быть уничтожены смертоносными технологиями воюющих сторон. Гражданскому населению не повезло: оно оставалось единственным кандидатом на роль таких жертв. Кроме того, совершенствование оборудования и организации позволяло войне дотянуться до все большего количества гражданских лиц. Поиск приемлемых обоснований не требовал больших философских трудов. Война порождала душевное бесчувствие как у сражавшихся, так и у гражданского населения; душевное бесчувствие пролагало дорогу еще большей эскалации.
Если войну на износ распространить на гражданское население, остающееся в тылу, эта война становится тотальной. Усовершенствованные технологии позволяют сделать тотальным и уничтожение людей. Бомбежка Гамбурга отметила важный шаг в эволюции самой технологии смерти – участвовавшие в массированном налете бомбардировщики впервые намеренно усиливали пожар. Результат все еще слишком сильно зависел от случайностей, от трудноуловимого сочетания погоды, организации и оборудования. Расходы живой силы и материальных ресурсов все еще оставались высокими. Технология еще не была совершенной – как не бывает совершенной ни одна технология, – и это, видимо, означало, что она нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Британцы и американцы приходили в ярость от сообщений о японских зверствах и нацистских пытках, о батаанском марше смерти и бесконечных ужасах лагерей уничтожения. Однако бомбардировка дальних городов, которых нельзя было ни увидеть, ни услышать, ни понюхать, встречала всеобщее одобрение, столь бездумное, что его, возможно, вызывали некие животные рефлексы[2062]. Правда, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания публично не признавали, что намеренно бомбили гражданское население. По словам Черчилля, речь шла об «уничтожении домов» противника. К тому же войну и начали япошки и фрицы. «Мы должны признать тот факт, что современная война, ведущаяся на манер нацистов, – дело грязное, – говорил своим соотечественникам Франклин Рузвельт. – Она нам не нравится, – мы не хотели в нее вступать, – но теперь мы в ней участвуем, и мы будем вести ее всеми средствами, которые у нас есть»[2063].
10 мая 1943 года наблюдательный комитет Лос-Аламоса под руководством У. К. Льюиса из МТИ представил свой доклад[2064]. Он утвердил программу ядерно-физических исследований лаборатории. Он рекомендовал продолжать теоретические изыскания термоядерной бомбы во вторую очередь, в дополнение к работе над бомбой атомной. Он предложил внести значительные изменения в химическую программу: производить окончательную очистку плутония на Холме, так как за работу плутониевой бомбы в конечном счете должен отвечать Лос-Аламос, а этот редкий новый элемент будет снова и снова использоваться в экспериментах и часто подвергаться повторным очисткам в течение нескольких месяцев, которые потребуются на его накопление в количестве, достаточном для изготовления бомбы. Комитет Льюиса также поддержал Роберта Оппенгеймера, рекомендовавшего еще в марте начать артиллерийское и инженерное проектирование в Лос-Аламосе немедленно, не дожидаясь завершения ядерно-физических исследований. Генерал Гровс утвердил доклад комитета; в соответствии с его выводами численность работающих на Холме следовало немедленно удвоить. С этого момента и до конца войны численность персонала Лос-Аламоса удваивалась каждые девять месяцев. Пыль от строительства никогда не оседала; никогда не прекращались нехватка жилья, недостача воды и перебои с электричеством. Гровс не тратил на удобство гражданских сотрудников ни гроша свыше необходимого.
Нижний полюс гарвардского циклотрона был установлен 14 апреля. К первой неделе июня работавшая на циклотроне группа Роберта Уилсона увидела первые признаки пучка. Висконсинский генератор Ван де Граафа с длинным резервуаром вышел в режим работы на 4 миллиона вольт 15 мая, генератор с коротким резервуаром на 2 миллиона вольт заработал 10 июня. В июле завершился первый в Лос-Аламосе физический эксперимент по подсчету числа вторичных нейтронов, испускаемых при делении 239Pu. «В этом эксперименте, – говорится в технической истории Лос-Аламоса, – было измерено число нейтронов, испускаемых почти невидимой крошкой плутония; оно было найдено даже несколько большим, чем для 235U»[2065]. Таким образом, эксперимент установил то, что еще не было подтверждено, несмотря на всю дорогостоящую и спешную работу: что плутоний испускает вторичные нейтроны в количестве, достаточном для цепной реакции.
Этой крошкой плутония был образец полученного в Металлургической лаборатории оксида массой 200 миллиграммов, который в начале месяца прислал в Лос-Аламос Гленн Сиборг. Этой весной Сиборг так напряженно работал в Металлургической лаборатории, что заболел – инфекцией верхних дыхательных путей, осложненной общим истощением и постоянно повышенной температурой, – и в июле вместе с женой приехал в отпуск в Нью-Мексико. «Наверное, я специально решил оставаться поближе к плутонию, – размышляет он. – Интересно, почему?»[2066] Слишком тихая и мирная обстановка на гостевом ранчо утомляла его еще больше, и 21 июня они с женой перебрались в глинобитную гостиницу «Ла-Фонда» в Санта-Фе. Из-за политики информационной изоляции доступ в Лос-Аламос был для него закрыт. Сиборги собирались вернуться в Чикаго в пятницу 30 июля, и Сиборг предложил взять с собой в поезд образец плутония – большую часть существовавших тогда мировых запасов этого элемента. Перед рассветом Роберт Уилсон и еще один физик передали ему плутоний в ресторане в Санта-Фе, в котором Сиборги завтракали. Уилсон приехал туда на грузовике, вооруженный для охраны этого чрезвычайно ценного, хотя и почти невидимого сокровища, как в вестерне, своим собственным винчестером калибра.32, предназначенным для охоты на оленей. «Я просто положил образец в карман, а потом убрал в чемодан»[2067], – вспоминает Сиборг. В Чикаго он поехал без оружия.
Гровс попросил вашингтонский Комитет по военной политике порекомендовать подходящего человека, предпочтительно военного, на роль руководителя разраставшегося отдела артиллерии. Вэнивар Буш знал одного флотского офицера – не возражает ли Гровс против такого варианта? «Разумеется, нет»[2068], – хмыкнул генерал. Буш предложил капитана Уильяма С. Парсонса по прозвищу Дик, окончившего в 1922 году военную академию в Аннаполисе; в то время он был подчиненным Буша и отвечал за полевые испытания неконтактного взрывателя[2069][2070].
Парсонс также участвовал в ранних стадиях разработки радара и служил артиллерийским офицером на эсминце, а затем – офицером-испытателем на полигоне ВМФ в Далгрене, штат Виргиния. Ему было сорок три года; он был спокоен, энергичен, подтянут, почти совершенно лыс и, несмотря на свой предельно аккуратный вид, изобретателен. «Всю свою жизнь, – восхищенно свидетельствует один из его подчиненных по Лос-Аламосу, – он боролся с глупыми правилами и консерватизмом флота»[2071]. Гровсу он понравился; «уже через несколько минут [после знакомства с ним], – говорит генерал, – я был уверен, что он подходит на эту должность»[2072]. Оппенгеймер провел с ним собеседование в Вашингтоне и согласился с мнением Гровса. Парсонс был женат на Марте Клувериус, выпускнице Вассар-колледжа и дочери адмирала. В июне супруги прибыли в Лос-Аламос в своем красном кабриолете, привезя с собой двух светловолосых дочерей и кокер-спаниеля.
Первой заботой Парсонса была плутониевая пушка. Поскольку ее дульная скорость должна была быть не менее 900 метров в секунду, длина ствола должна была составлять 5 метров. Вес пушки не должен был превышать тонну, что в пять раз меньше обычного веса орудия такого размера; это означало, что ее придется изготавливать из прочной высоколегированной стали. Нарезка в стволе была не нужна, зато в пушке должны были быть три независимых запала, чтобы гарантировать ее срабатывание. Парсонс договорился об инженерном проектировании пушки с артиллерийским конструкторским бюро ВМФ.
Норман Ф. Рамзей, высокий молодой физик из Колумбийского университета, сын генерала, работал под началом Парсонса руководителем группы доставки: эта группа должна была разработать способ доставки бомбы к цели и ее сброса. В июне он обратился в Военно-воздушные силы США, чтобы выяснить, какой военный самолет подойдет для перевозки пятиметровой бомбы. «В результате этого обзора выяснилось, что единственным американским самолетом, внутри которого можно было удобно разместить такую бомбу, был бомбардировщик В-29, хотя даже и он требовал значительных модификаций, чтобы бомбу можно было загружать и в передний, и в задний бомбовые отсеки… На все другие самолеты, если не считать британского “Ланкастера”, такую бомбу пришлось бы подвешивать снаружи»[2073]. ВВС не могли допустить, чтобы историческое новое оружие явилось миру на борту британского самолета, но самолет В-29 «Суперкрепость» был только что разработан и еще обладал множеством серьезных дефектов. В июне, когда Рамзей начал свое исследование самолетов, модель для эксплуатационных испытаний еще не поднималась в воздух. В феврале модель для полетных испытаний врезалась в здание мясокомбината в Сиэтле, причем погибли все бывшие на борту испытатели и девятнадцать рабочих мясокомбината[2074].
Однако Рамзею не обязательно было дожидаться доступа к В-29, чтобы начать собирать данные по баллистике длинной бомбы. Он изготовил масштабный макет и договорился о его сброске:
13 августа 1943 года на полигоне ВМФ в Далгрене были проведены первые испытания сброски прототипа атомной бомбы [с флотского торпедоносца TBF] для определения ее устойчивости в полете. Испытания проводились на макете в масштабе 14:23, форма которого соответствовала тогдашнему представлению о вероятной форме пушечной сборки. По сути дела, макет состоял из 36-сантиметровой трубы, приваренной в центре разрезанной стандартной 225-килограммовой бомбы. В Далгрене этот макет был известен под названием «канализационной бомбы». <…> Первые испытания <…> закончились зловещим и зрелищным провалом. Бомба вошла в плоский штопор такого размаха, какой до этого редко приходилось видеть. Тем не менее, как показали дальнейшие испытания, увеличение площади стабилизаторов и смещение центра тяжести вперед придали бомбе устойчивость[2075].
Тем временем Сет Неддермейер, группа экспериментов по имплозии которого досталась Парсонсу по наследству, отправился в лабораторию Горнорудного бюро США в Брюстоне, штат Пенсильвания, экспериментировать со взрывчаткой. Эдвин Макмиллан, которого также интересовала имплозия, поехал вместе с физиком из Калтеха:
В то время там были только мы с Сетом и несколько помощников. Первые опыты по цилиндрической имплозии были проведены в Брюстоне. Мы брали кусок железной трубы, оборачивали его взрывчаткой и поджигали ее в нескольких точках, чтобы получить сходящуюся волну, которая сожмет цилиндр. Так зародилось экспериментальное исследование имплозии, и это было задолго до начала экспериментов по пушечному методу[2076].
Вернувшись в Лос-Аламос, Неддермейер организовал небольшую исследовательскую станцию на Южной горе, соседней с Холмом столовой горе, расположенной напротив него через каньон Лос-Аламос. Он провел свои первые испытания в русле высохшей речки в День независимости 1943 года; в них он использовал железную трубку, вставленную в жестянки с тротилом. Поскольку он хотел изучить результаты взрыва, он зарядил ограниченное количество взрывчатки. «Разумеется, эти испытания не могли быть очень сложными, – говорит Макмиллан. – <…> Однако они показали, что металлическую трубку можно сжать взрывом так, что она превратится в подобие сплошного стержня: значит, метод был перспективным с практической точки зрения»[2077]. Опыты показали также, что давление было далеко не равномерным: трубки извлекали из пыльного русла перекрученными и деформированными.
Когда у Парсонса, который был доскональным и прагматичным инженером, дошли руки ознакомиться с работой Неддермейера, он не скрывал своего презрения. Он сомневался, что имплозию вообще можно будет сделать достаточно надежной для применения в полевых условиях. Неддермейер представил свои первые результаты на одном из еженедельных коллоквиумов, которые Оппенгеймер учредил по предложению Ханса Бете, чтобы все обладатели белых пропусков – то есть люди, имеющие допуск к секретной информации, – были в курсе происходящего на Технической площадке. Ричард Ф. Фейнман, талантливый и откровенный принстонский аспирант-теоретик родом из Нью-Йорка, лаконично выразил общее мнение собравшихся: «Отстой»[2078]. Парсонс попытался перевести разговор в более легкомысленное русло. «Все тут трудятся с такой зверской серьезностью, – сказал он группе, – что нам не помешает немного расслабиться. Я сомневаюсь в серьезности доктора Недермейера. По-моему, он постепенно приближается к достижению цели, которую я назвал бы “пивным экспериментом”. Как только он разберется со своей взрывчаткой, мы этим займемся. Цель эксперимента – установить, сможет ли он взорвать банку с пивом, не расплескав пива»[2079]. Освоить имплозию было даже еще труднее.
Джон фон Нейман, венгерский теоретик, приехавший в Соединенные Штаты в 1930 году и работавший в Институте перспективных исследований, исследовал по заказу НКОИ комплексную гидродинамику ударных волн, образуемых кумулятивными зарядами. Эта технология была использована в противотанковом гранатомете американской пехоты, известном под названием «базуки». Как и Раби, фон Нейман согласился время от времени консультировать Оппенгеймера. В конце лета он приехал в Лос-Аламос и рассмотрел теорию имплозии, которая тоже представляла собой лабиринт сложной гидродинамики. Неддермейер разработал «простую теорию, применимую до некоторого уровня силы ударной волны». Фон Нейману, говорит он, «обычно приписывают честь основания науки сильных сжатий. Но я знал эти принципы и раньше и разработал их наивным способом. Подход фон Неймана был сложнее»[2080].
«Джонни очень интересовали взрывчатые вещества», – вспоминает Эдвард Теллер. Теллер с фон Нейманом возобновили свое юношеское знакомство во время пребывания математика на Холме. «Во время наших с ним бесед были выполнены некоторые грубые расчеты, – продолжает Теллер. – Расчет действительно получается простым, если считать ускоряемый материал несжимаемым, как обычно и предполагается в отношении твердых веществ… В материалах, приводимых в движение бризантными взрывчатыми веществами, возникает давление, которое может превышать 100 000 атмосфер». Фон Нейман об этом знал, говорит Теллер, а сам он – нет. С другой стороны:
Если оболочка смещается к центру на треть расстояния между ними, то в предположении несжимаемости материала получается давление свыше восьми миллионов атмосфер. Это больше, чем давление в центре Земли, и я знал (а Джонни – нет), что при таком давлении железо утрачивает несжимаемость. Более того, у меня были приблизительные значения сжимаемости для интересующих нас случаев. Из всего этого следовало, что при имплозии должно происходить значительное сжатие, и об этом обстоятельстве раньше никто не думал[2081].