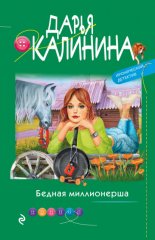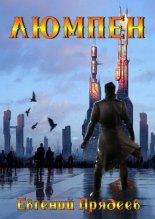Беседы о музыке с Сэйдзи Одзавой Мураками Харуки

Одзава: Верно. Но у меня ни разу не было неприятностей или опасных ситуаций. К тому же, похоже, все знали, что я дирижер с «Равинии». Я садился за руль – ехать полчаса, – вдоволь слушал блюз, вновь садился за руль и возвращался в свое съемное жилище в «Равинии». Вот такой пьяный водитель (смеется). Часть чикагского репертуара мы исполняли с Питером Сёркином, и однажды он сказал, что тоже хочет пойти в клуб. Несколько раз мы ездили вместе. Но Питер тогда был несовершеннолетним и не мог попасть внутрь. В Америке с этим строго. Без удостоверения личности не пройдешь. Так что, пока я слушал музыку в клубе, он под окном ловил каждый звук (смеется).
Мураками: Вот бедняга.
Одзава: И так несколько раз.
Мураками: Настоящий чернокожий чикагский блюз. Мощная вещь.
Одзава: Среди чернокожих выступал Корки Сигал, белый. Все его товарищи черные, а он один белый. Позже мы с Корки сделали совместную запись. Чикагский блюз в то время был очень хорош, такой плотный. Там было много талантливых музыкантов и разных бэндов. Великолепный опыт.
Мураками: Посетители были в основном чернокожие?
Одзава: Да. Кстати, пока не забыл. В Чикаго с концертом выступали «Битлз». У меня случайно оказался билет, и я пошел послушать. Но хотя места были отличные, оказалось, ничего не слышно. Концерт проходил в помещении, и вопли заглушали всю музыку. Так что я просто посмотрел на «Битлз» и пошел домой.
Мураками: Довольно бестолково.
Одзава: Совершенно бестолково. Просто поразительно. Пока выступала группа на разогреве, все было отлично, но как только вышли «Битлз», ничего не стало слышно.
Мураками: А в джаз-клубы вы не ходили?
Одзава: Почти нет. Зато когда я был ассистентом в Нью-Йоркской филармонии, у нас был скрипач, единственный чернокожий на весь оркестр. Музыканты в то время все были белыми, и только он один черный. Узнав, что я люблю джаз, он несколько раз водил меня в джаз-клуб Гарлема. Такой, где одни чернокожие. Секретарша Бернстайна Хелен Коутс, звавшая себя моей американской мамочкой, говорила: «Сэйдзи, там опасно, ни в коем случае нельзя ходить в такие места». Но клуб был отличный. Там стоял довольно особенный запах, помню, я подумал, что без него наверняка не понять всей прелести джаза.
Мураками: Резкий запах соул-фуда с кухни. Действительно, джаз-клубы Мидтауна пахнут иначе.
Одзава: Позже на фестиваль «Равиния» пригласили Сачмо и Эллу Фицджеральд. Это я настоял. Обожаю Сачмо. До этого «Равиния» был фестивалем исключительно белых музыкантов – джазовых исполнителей пригласили впервые. Концерт вышел отличный. Я получил огромное наслаждение, зашел к ним за кулисы. Было очень здорово. Ах, эта манера Сачмо, ее не описать словами. Такая, солидная. Думаю, он был тогда уже очень немолод, однако и голос, и труба были великолепны.
Мураками: Но больше вам запомнился блюз.
Одзава: Верно. До этого я ничего не знал о блюзе, такое было время. К тому же на «Равинии» я получил свой первый достойный гонорар. Стал нормально питаться, ходить в рестораны, жить в нормальном доме. У меня появились деньги, и я познакомился с блюзом – такое стечение обстоятельств наверняка сыграло роль. Раньше я не мог ходить на концерты за свой счет… Интересно, в Чикаго до сих пор играют блюз?
Мураками: Да, играют. Точно не скажу, но, думаю, блюз там по-прежнему популярен. И все же расцвет чикагского блюза пришелся на первую половину шестидесятых, когда он напрямую повлиял на «Роллинг Стоунз».
Одзава: В то время хороших блюзовых клубов было всего три. На несколько кварталов. Бэнды менялись каждые два-три дня, поэтому я старался не пропускать.
Мураками: Я вспомнил, как мы с вами дважды ходили в джаз-клуб в Токио.
Одзава: Было дело.
Мураками: Первый раз мы слушали Дзюнко Ониси, второй – Сидара Уолтона.
Одзава: Да, было здорово! Хорошо, что и в Японии есть такие клубы.
Мураками: Я поклонник Дзюнко Ониси. Как и другие современные молодые джазовые музыканты, она обладает очень высокой, качественной техникой исполнения. Двадцать лет назад такого и близко не было.
Одзава: Наверное, вы правы. Хотя сейчас я вспомнил, как в конце шестидесятых слушал в Нью-Йорке Тосико Акиёси. Она великолепна.
Мураками: У нее невероятное, острое туше. Решительное, аргументированное.
Одзава: Настоящее мужское туше.
Мураками: Она родилась в Манчжурии, как и вы. Думаю, немного старше вас.
Одзава: Интересно, она еще выступает?
Мураками: Да, насколько я знаю, она активно работает. Долго была бэнд-лидером.
Одзава: Бэнд-лидером? Ничего себе. А еще, работая в Бостоне, я часто слушал Синъити Мори. И Кэйко Фудзи.
Мураками: Ого.
Одзава: Оба были очень хороши.
Мураками: Дочь Кэйко Фудзи сейчас много выступает, она певица.
Одзава: Вот как?
Мураками: Хикару Утада.
Одзава: Это та, что поет по-английски? С рельефными чертами лица.
Мураками: По-английски она, может быть, и поет, но черты лица, насколько я помню, не особо рельефные. Хотя вопрос, конечно, субъективный.
Одзава: Хм.
Мураками (проходящей мимо ассистентке): Слушай, у Хикару Утады рельефные черты лица?
Ассистентка Ивабути: Не думаю.
Мураками: Вот.
Одзава: Да? Тогда не знаю. Слышал однажды ее песню, мне показалось – очень талантливо.
Мураками: Студентом я подрабатывал в небольшом магазине пластинок в Синдзюку. Как-то раз к нам зашла Кэйко Фудзи. Миниатюрная, скромно одетая, незаметная. Она представилась и поблагодарила за то, что продаем ее записи. Улыбнулась и, поклонившись, ушла. А ведь она уже была знаменитостью. Помню, меня поразило, что при этом она вот так, сама обходит магазины пластинок. Это был примерно семидесятый год.
Одзава: Да, то самое время. У меня на кассетах были «Минато-мати блюз»[18] Синъити Мори или «Юмэ ва ёру хираку»[19] Кэйко Фудзи, и я часто слушал их за рулем в дороге между Бостоном и Тэнглвудом. Вера с детьми как раз улетела домой, я жил один и очень скучал по Японии. Еще слушал ракуго в свободное время. Синсё, например.
Мураками: Когда долго живешь за границей, иногда очень хочется услышать японский язык.
Одзава: У Наодзуми Ямамото была регулярная телепередача «Орукэстра га яттэ-кита»[20], однажды меня пригласили гостем. Я сказал, что приду, только если будет Синъити Мори, и он действительно пришел. Мы с оркестром ему аккомпанировали. Одну песню. Получилось, видимо, не очень. Потому что один знаменитый писатель даже возмутился – не помню сейчас его фамилию. Мне здорово досталось. (Смеется.)
Мураками: И что же его так возмутило?
Одзава: Кажется, он сказал, что разбираться в классике еще не значит разбираться в энке[21].
Мураками: Ничего себе.
Одзава: Я тогда, конечно, ничего не ответил, но вообще-то мне есть что сказать. Часто энку называют чисто японским жанром. Музыкой, которую понять и исполнить способен только японец, но я с этим не согласен. В основе энки – западная музыка, и ее можно с легкостью расписать на нотном стане.
Мураками: Ничего себе.
Одзава: Так же как кобуси можно выразить в виде вибрато.
Мураками: То есть если четко и правильно записать ноты, то даже какой-нибудь, скажем, камерунский исполнитель, ни разу до этого не слышавший энку, сможет ее спеть.
Одзава: Верно.
Мураками: Довольно своеобразный аргумент. Получается, что как минимум с точки зрения теории музыки энка может считаться универсальной. Ничего себе.
Беседа пятая
Опера – это интересно
Этот диалог состоялся 29 марта 2011 года в Гонолулу, где мы с маэстро случайно оказались в одно время. Через восемнадцать дней после Великого восточно-японского землетрясения. Во время землетрясения я работал на Гавайях. Вернуться на родину не мог, поэтому мне оставалось только следить за развитием событий по «CNN». С экрана одна за другой на нас обрушивались суровые и мучительные новости. В таких обстоятельствах говорить о радости оперы казалось неуместным, но, с другой стороны, шанс поймать вечно занятого маэстро и подробно с ним побеседовать выпадает нечасто. Поэтому наш увлеченный разговор об опере то и дело перескакивал на обсуждение наболевших тем, будь то сценарий развития событий в связи с аварией на атомной станции или дальнейшая судьба Японии.
Невозможно представить человека, изначально более далекого от оперы
Одзава: Впервые я дирижировал в опере, когда стал руководителем Симфонического оркестра Торонто. Первой моей оперой было «Риголетто» в концертном исполнении. Без театральных декораций. Я был доволен, что теперь у меня есть свой оркестр. Или скорее удовлетворен. Теперь стоило мне захотеть, и я мог исполнить хоть Малера, хоть Брукнера, хоть оперу.
Мураками: Дирижировать в опере, наверное, совсем не то, что в обычном оркестровом произведении. Где вы этому научились?
Одзава: Маэстро Караян настойчиво заставлял меня изучать оперу и даже сделал меня ассистентом, когда исполнял «Дон Жуана» в Зальцбурге. Я мог сыграть на фортепиано любую часть «Дон Жуана». Так что для начала маэстро заставил меня заниматься оперой, назначив ассистентом на «Дон Жуана», а через два года дал дирижировать «Так поступают все…». Мой первый оперный спектакль.
Мураками: Где?
Одзава: Там же, в Зальцбурге. Дело было так. В Америке есть певец Джордж Ширли, великолепный чернокожий тенор. Он прекрасно ко мне относился и предложил сделать вместе оперу. Ему хотелось спеть «Риголетто». Поэтому в Торонто мы исполнили «Риголетто». Было интересно. В Японии мы давали «Риголетто» в «Бунка Кайкан» с Японским филармоническим оркестром, но тоже концертное исполнение. Если задуматься, я ни разу не исполнял «Риголетто» в театральном формате. Через два года, весной две тысячи тринадцатого, в Музыкальной академии Сэйдзи Одзавы планируется оперный спектакль в постановке Дейвида Нисса. Мы работаем с ним больше тридцати лет. Оперу в Тэнглвуде тоже целиком ставил он.
Мураками: Жду с нетерпением.
Одзава: В общем, «Так поступают все…» стала моим первым оперным спектаклем. Постановка Жан-Пьера Поннеля. Выдающийся режиссер, но потом случилось это несчастье, когда он спиной упал в оркестровую яму, подорвал здоровье, кажется, повредил позвоночник и вскоре умер. Вообще-то дирижировать должен был Карл Бём, но плохо себя почувствовал – кажется, ему сделали операцию на глаза, – и вместо него дирижировал я.
Мураками: Серьезный уровень.
Одзава: Да. И не менее серьезное волнение. (Смеется.) Все-таки я оперой дирижировал впервые. И маэстро Караян, и маэстро Бём пришли послушать мое выступление. Думаю, они здорово переживали. На репетиции они тоже ходили. Кстати, за год до этого там же, в Зальцбурге, Клаудио Аббадо на той же сцене исполнял «Севильского цирюльника». Это был его зальцбургский дебют. Хотя в Италии до этого ему явно случалось дирижировать операми.
Мураками: Аббадо ведь немного старше вас.
Одзава: Да. Думаю, на год или два. Он был помощником Ленни чуть раньше меня.
Мураками: Как встретила критика «Так поступают все…»?
Одзава: Точно не знаю. Но после этого меня стали приглашать в Венский филармонический оркестр, изредка обращались из Венской государственной оперы, так что, думаю, критика была неплохой.
Мураками: Дирижировать оперой впервые в жизни было интересно?
Одзава: О, невероятно интересно! Это был, кажется, семьдесят второй год. Все, начиная от тенора Луиджи Альвы и заканчивая остальными, были на высоте. Обстановка царила самая дружелюбная. На следующий год я снова исполнял в Зальцбурге «Так поступают все…». Одно произведение там идет два-три года подряд. Затем меня позвали в Зальцбург дирижировать «Идоменеем». Получается, я исполнял две оперы Моцарта. «Так поступают все…» давали в небольшом театре «Кляйнес Фестшпильхаус», где всегда ставят Моцарта, а «Идоменея» – в театре, вырубленном в скале [ «Фейзенрайтшуле»]. Весь мой оперный опыт – это парижская опера «Гарнье» и миланский «Ла Скала». Еще Венская опера. Всего три. В Берлине я с оперой пока не сталкивался.
Мураками: Вы дирижировали оперой, параллельно работая музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра.
Одзава: Да. Делал перерыв в бостонской работе и ехал в Европу. Работа с оперой длится не меньше месяца. Приходилось на это время брать отпуск. Поэтому я практически не мог ставить новый репертуар – он требует слишком долгого времени. Вот в Парижской опере я ставил много нового. «Фальстаф», «Фиделио». Из старого – «Турандот». Позже мы исполняли «Тоску» с Доминго. И «Святого Франциска Ассизского» Мессиана – мировая премьера.
Мураками: Долгое время опера остается для вас очень важным направлением.
Одзава: Знаете, невозможно представить человека, изначально более далекого от оперы, чем я. Серьезно вам говорю (смеется). Потому что профессор Сайто совсем не учил нас опере. В Японии я практически с ней не встречался. Единственное исключение – я еще учился, когда Акэо Ватанабэ с Японским филармоническим оркестром исполнял «Дитя и волшебство» Равеля. Кажется, это был пятьдесят восьмой год.
Мураками: Короткая опера.
Одзава: Да, короткая. Примерно на час. Кажется, концертное исполнение, я не помню там полноценных декораций. Я работал на подмене. [Примечание Мураками. Подменный дирижер для проведения репетиций.] Маэстро Ватанабэ, в то время музыкальный руководитель, был тогда очень занят. Это мой первый опыт оперы.
Мураками: Где ее давали?
Одзава: Кажется, в «Санкэй-холле». Маэстро Акэо в те годы исполнял оперу примерно раз в два года. После того как я уехал за границу, он, кажется, исполнил «Пеллеаса и Мелизанду» Дебюсси. Выбирал довольно редкий репертуар.
Мураками: То есть впервые вы по-настоящему занялись оперой уже у Караяна?
Одзава: Да. Маэстро Караян дал мне отличный совет. Он сказал, что для дирижера симфонический репертуар и опера – как два колеса на одной оси. Если хотя бы одного не хватает, ничего толкового не получится. Симфонический репертуар включает концерты, симфонические поэмы и тому подобное. А опера, по его словам, это совсем другое. Почти не исполнять при жизни опер – значит умереть, почти не зная Вагнера. «Поэтому, – говорил он с напором, – ты, Сэйдзи, обязан изучать оперу. Невозможно понять Пуччини или Верди без их опер. Даже половина энергии Моцарта – это оперные произведения». После его слов я задумался о том, чтобы исполнить хотя бы одну оперу.
Мураками: Так вы решились взяться за «Риголетто» в Торонто.
Одзава: Да. И доложил о своих планах маэстро Караяну. Поэтому когда с должности музыкального руководителя Симфонического оркестра Сан-Франциско я ушел в Бостон, маэстро сказал мне: «Не переходи сразу, возьми отпуск и приезжай ко мне. Я научу тебя дирижировать оперой».
Мураками: Довольно любезно с его стороны.
Одзава: Да. Думаю, он считал меня своим прямым учеником. В то лето, оставив должность музыкального руководителя фестиваля «Равиния», я должен был сразу начать работу в Тэнглвуде, но уговорил подождать меня год, освободил летний график и отправился на обучение к маэстро Караяну. Это и был тот самый «Дон Жуан» в Зальцбурге. Караян тогда не только дирижировал, но и сам занимался постановкой. Всем, вплоть до освещения.
Мураками: Ничего себе.
Одзава: Разве что костюмами не занимался, а в целом он был очень занят. Поэтому довольно часто просил меня дирижировать на репетициях.
Мими Миреллы Френи
Одзава: Главную партию исполнял Николай Гяуров, болгарский бас. Церлину пела Мирелла Френи. Я почти каждый день играл на фортепиано и присутствовал на репетициях. Постепенно эти двое сблизились, а потом и поженились. Для меня Гяуров и Френи – как родные. (Смеется.) Позже я пригласил их в Тэнглвуд, для «Реквиема» Верди. Гяуров также пел у меня партии в «Борисе Годунове» Мусоргского и в «Евгении Онегине» Чайковского. Естественно, партию Татьяны (в «Онегине») исполняла Мирелла Френи. По многолетней традиции после концерта мы всегда ужинали втроем. Гяуров умер лет семь назад.
Мураками: Получается, Френи может петь оперу по-русски.
Одзава: Да. Она часто исполняла «Пиковую даму». У Гяурова было много русского репертуара, и, чтобы ездить с мужем, ей пришлось разучивать оперы на русском. Они были неразлучны и в жизни, и на сцене.
Мураками: Поэтому Френи специализировалась на русскоязычной опере.
Одзава: Благодаря знакомству с Френи я дирижировал довольно много опер. С ней вместе мы исполнили пять или шесть опер. Больше всего ей хотелось спеть в «Богеме».
Мураками: Мими. Подходящая партия для Френи.
Одзава: «Сэйдзи, давай исполним «Богему», – твердила она вновь и вновь, но почему-то так и не получилось. Не знаю, стоит ли об этом рассказывать, но примерно в то время Карлос Клайбер приехал в Японию с театром «Ла Скала», привезли «Богему». Слушая его, я подумал, что никогда не смогу так же. Это было слишком хорошо. Я понял, что лучше у меня все равно не получится.
Мураками: Японское турне восемьдесят первого года. Тенор [Петер] Дворски.
Одзава: И в роли Мими – Мирелла Френи. Когда я наконец начал исполнять «Богему», Мирелла уже почти не выступала. Сейчас она вернулась на родину в Модену и занялась преподаванием. Мы просто не совпали во времени.
Мураками: Как жаль.
Одзава: Ее Мими была столь великолепна, что никого другого невозможно было даже представить на ее месте. Иногда, глядя со стороны, актер вроде бы и не играет. Но если его спросить, окажется, что игра в действительности стоит ему громадных усилий. Это только со стороны кажется, будто он ничего особенного не делает. Что такова его натура. Мими Миреллы была именно такой.
Мураками: Мими всегда вызывает у зрителей невероятную симпатию.
Одзава: Совершенно верно.
Мураками: У Френи это получалось естественным образом.
Одзава: Каждый раз я думал, что сегодня уж точно не расплачусь, но, слушая ее, в итоге не мог сдержать слез. Когда буду во Флоренции в следующий раз, хочу доехать до Модены и увидеться с ней.
Пьет горячий черный чай.
Одзава: Это же сахар?
Мураками: Да, это сахар.
О Карлосе Клайбере
Мураками: Значит, «Богема» Карлоса Клайбера была великолепна?
Одзава: Знаете, дирижер полностью растворился в этом спектакле. Что уж говорить о технике дирижирования. Я спросил у него потом, как такое возможно. Он ответил: «Ну что ты, Сэйдзи. Я могу дирижировать «Богему» даже во сне».
Мураками (смеется): Ну ничего себе.
Одзава: В тот момент рядом с нами стояла Вера, и я подумал, что таким образом он пытается произвести на нее впечатление. (Смеется.) И все-таки он действительно исполняет «Богему» с молодости, знает вдоль и поперек.
Мураками: Да, помнит каждую ноту. У Клайбера ведь весьма ограниченный репертуар.
Одзава: Да. У него мало опер, да и оркестровых произведений тоже.
Мураками: Недавно я прочел книгу, в ней были воспоминания Риккардо Мути. Когда Мути дирижировал вагнеровское «Кольцо», Клайбер зашел к нему за кулисы, они разговорились, и Мути неожиданно понял, что Клайбер наизусть помнит «Кольцо». Он был поражен. Несмотря на то что Клайбер ни разу не исполнял «Кольцо», он подробнейшим образом изучил ноты.
Одзава: Клайбер всегда много готовился и прекрасно знал исполняемое произведение. Но любил поскандалить. Например, бесконечно долго препирался по поводу записи Четвертой симфонии Бетховена в Берлине. Мы были друзьями, и, наблюдая ситуацию вблизи, я подумал, что он ищет предлог отказаться.
Мураками: Вам случалось отменять работу?
Одзава: Случалось по болезни, как в этот раз. Но, как правило, я терплю до последнего, даже если несколько повышена температура.
Мураками: А бывало, что вы разругались, все бросили и ушли?
Одзава: Лишь однажды. В Берлине, в филармонии, примерно на втором году моей работы приглашенным дирижером. Есть такой аргентинский композитор [Альберто] Хинастера, знаете его?
Мураками: Не знаю.
Одзава: В общем, есть такой композитор, и я дирижировал его произведение – «Эстансия». Исполняется большим составом. Маэстро Караян выбрал его по какой-то причине, но сам не исполнял, а поручил мне. Видимо, ему зачем-то нужно было аргентинское произведение. Деваться некуда, я внимательно изучил партитуру и приступил к репетициям. Вторым отделением программы была, кажется, одна из симфоний Брамса – не помню точно какая. В «Эстансии» очень сложная партия ударных. Всего ударных было около семи человек. Из-за сложности я репетировал с ними отдельно. Остальной оркестр в это время ждал. Но у нас никак не получалось – слишком сложный ритм. И тут один ударник, совсем мальчишка, засмеялся. Я разозлился: «Это что за смех?» Но мальчишка так и сидел, не извинившись. Кровь ударила мне в голову, и я заорал: «И это знаменитая Берлинская филармония? Интересно, что вы будете делать послезавтра, на концерте?» Тогда они стали играть еще хуже. Меня это взбесило, я отложил ноты и, коротко бросив: «Перерыв», – вышел из зала.
Мураками: Хм.
Одзава: Затем позвонил своему нью-йоркскому менеджеру [Роналду] Вилфорду со словами: «Все, я уезжаю. Совершенно не могу здесь работать. Извинись за меня перед маэстро Караяном». Уведомил оркестр, что возвращаюсь в Америку, и быстро вернулся в «Кемпинский». В то время Берлин был разделен на Восточный и Западный, и из Западного Берлина не было прямых рейсов в Америку. Надо было делать пересадку. Я попросил консьержа заказать мне билет и начал собирать вещи.
Мураками: Сильно же вы разозлились.
Одзава: Я уже выписался из отеля, и мне оставалось только уехать, когда капельмейстер Берлинской филармонии – ему безмерно доверял маэстро Караян – контрабасист по фамилии Зеппериц и еще несколько музыкантов пришли с извинениями: «Мы искренние просим прощения. Все это время после вашего ухода ударные разучивают фрагмент, который не получался. Не могли бы вы завтра хотя бы взглянуть?» Разве мог я отказать после таких слов?
Мураками: Понимаю.
Одзава: Я снова позвонил Вилфорду и сказал, что останусь еще на день, через консьержа сдал билет… Вот такая история. Это довольно известный случай.
Мураками: В итоге вы исполнили «Эстансию».
Одзава: Исполнил. Вернулся и дирижировал.
Мураками: Клайбер ни за что бы не вернулся.
Одзава: Нет, не вернулся бы. (Смеется.) В моем случае сыграло роль отсутствие прямого рейса в Нью-Йорк.
Мураками: Смогли убедить, пока искали стыковочный рейс. (Смеется.)
Одзава: С момента основания Сайто Кинэн Цеппериц больше двадцати лет руководил в оркестре контрабасами. Недавно он умер.
[Примечание Мураками. Изначально «Эстансия», оп. 8, была написана Альберто Хинастерой как музыка к балету в 1941 году. У Хинастеры это вторая музыка к балету после «Панамби», она по праву считается его визитной карточкой. Полное национального колорита произведение изображает жизнь гаучо и жителей пампы. Впоследствии переработано в сюиту (оп. 8а), которая исполняется в настоящее время.]
Мураками: Но вернемся к нашему разговору. Во время исполнения Клайбером «Богемы» в Японии партию Рудольфа исполнял Дворски, партию Мими – Френи.
Одзава: Верно.
Мураками: По-моему, Карлос Клайбер способен извлечь абсолютно новые рисунки даже из привычной Второй симфонии Брамса или Седьмой симфонии Бетховена. Открыть что-то новое. Чтобы зритель подумал: «Ничего себе, вот что, оказывается, скрывалось внутри этого произведения». Выдающихся дирижеров, искусных дирижеров много, но способных на такое – почти нет.
Одзава: Хм, интересно.
Мураками: Видимо, это требует очень глубокого погружения в партитуру.
Одзава: Да, он очень тщательно читал партитуру. Ему не повезло иметь знаменитого отца.
Мураками: Эриха Клайбера.
Одзава: Думаю, он поэтому был таким нервным. Просто кошмар. Но, знаете, Карлос, судя по всему, относился ко мне очень хорошо, по-доброму. Не знаю, с чем это связано. Вера тоже ему нравилась, они дружили. Несколько раз он выбирался на мои концерты, часто звал вместе поужинать. Когда меня назначили музыкальным руководителем Венского оперного театра, Карлос первым позвонил поздравить. Мы тогда долго проговорили.
Мураками: Он ведь был довольно сложный человек.
Одзава: Очень сложный. Славился своей привычкой чуть что – отменять концерт. Поэтому, когда он позвонил меня поздравить, я тут же попросил его иногда дирижировать в Вене. Потому что обычно он не приезжал. А он ответил: «Эй, я не затем тебе позвонил». (Смеется.)
Мураками: В смысле, не надо смешивать одно с другим.
Одзава: В Сайто Кинэн мы тоже пытались пригласить Клайбера. Как дирижера. Клайбер интересовался Сайто Кинэн, даже приходил на концерт в Германии. Но не ответил ни да, ни нет. Маэстро Караяна в конце мы тоже приглашали в Сайто Кинэн. Но он так и не смог приехать. Должен был дирижировать с Бостонским симфоническим оркестром. Он делал запись с Чикагским симфоническим в Зальцбурге по просьбе Шолти. Сказал, что не сможет приехать в Бостон, но если Бостонский симфонический приедет в Европу, то готов дирижировать. Но не успел, умер.
Мураками: Жаль.
Одзава: Хотя маэстро Караян не дал четкого ответа по поводу Сайто Кинэн, он пригласил Сайто Кинэн в Зальцбург. Я предложил дирижировать одно произведение сам, а другое оставить для него, но он снова не сказал ничего определенного. В следующем году он умер. Видимо, он тогда уже был физически слаб.
Мураками: Как хотелось бы послушать Сайто Кинэн под управлением Клайбера или Караяна.
Одзава: Маэстро Караян проявлял к Сайто Кинэн довольно большой интерес. Потому и пригласил в Зальцбург. Пригласить туда оркестр не так просто.
Оперы и режиссеры
Мураками: Однажды вы сказали, что планируете исполнить оперу в постановке Кена Расселла.
Одзава: Верно. В Вене мы должны были исполнять «Евгения Онегина» в постановке Кена Расселла, я за пультом. Вокал Миреллы Френи. Это было до того, как меня назначили музыкальным руководителем в Вене. Музыкальным руководителем был тогда Лорин Маазель. Мы с Кеном несколько раз встречались с ним, в итоге крупно поспорили с театром, и он отказался. Хотя я к этому не имею ни малейшего отношения.
Мураками: Если бы все получилось, думаю, могла быть очень оригинальная постановка.
Одзава: Согласен. Его предыдущая постановка «Мадам Баттерфляй» вызвала довольно большой резонанс. На заднике крупным планом – фотография атомной бомбы, на сцене гигантская банка кока-колы как символ Америки… Во время нашей с ним встречи он показался мне весьма радикально настроенным.
Мураками: Его фильм «Малер» тоже довольно эксцентричный.
Одзава: Да, он мне его тогда показал. Мы встретились в самом сердце Лондона, что-то вроде мужского клуба. Очень темное, странное место. Там мы беседовали. Он сказал, что в первоисточнике «Евгения Онегина» главный герой – Онегин – более отталкивающий. В опере Чайковского в нем видна нерешительность, и от этого он не выглядит таким сердцеедом. Тогда как в оригинале он настоящий распутник. Расселл сказал, что хочет подчеркнуть в постановке темную сторону его личности.
Мураками: Да он просто нарывался на скандал (смеется). Но, так или иначе, план провалился.
Одзава: Провалился.
Мураками: Похоже, выбор режиссера – дело весьма непростое.
Одзава: Жан-Пьер Поннель, с которым впервые мы совместно работали над «Так поступают все…», прекрасный режиссер. Я и сейчас считаю его гением. Он прекрасно понимал музыку. Когда исполняешь оперу, сначала репетируешь музыку. Без декораций, под аккомпанемент одного фортепиано. Поннель сказал, что с жестами и движениями певцов музыка зазвучит гораздо естественнее. Для меня это был первый опыт и совершеннейшее открытие. Я спросил его, как он это понял. Он ответил, что просто внимательно слушал музыку, пока не проникся ею изнутри. Он хорошо понимал музыку. Как мне кажется.
Мураками: То есть он не из тех, кто готовит декорации еще до того, как услышит музыку.
Одзава: Совершенно точно. Мы отлично ладили. Поэтому, встретившись в Париже незадолго до его смерти, говорили о том, чтобы в следующий раз вместе поставить «Сказки Гофмана». Он как раз работал над новой постановкой «Сказок Гофмана» в парижском «Опера-Комик» и хотел перенести ее на более крупную сцену. Я был только за. Но, к огромному сожалению, вскоре его не стало. Считаю его действительно прекрасным постановщиком.
Мураками: Недавно по «NHK» я смотрел оперу «Манон Леско», исполненную вами в Вене. С современными декорациями.
Одзава: Режиссер Роберт Карсен. И все же лучшей его постановкой была «Электра» Рихарда Штрауса. Очень модерновая, но красивая. И «Енуфа» Яначека – тоже отличная. Еще мы с ним исполняли «Тангейзера». Там ведь речь о состязании певцов. Так вот, он заменил его на состязание живописцев.
Мураками: Ничего себе, такое возможно?
Одзава: Состязание живописцев. Я дирижировал. Исполняли в японском «Опера-но-Мори», а потом в Париже. В Японии критика тоже была неплохой, но в Париже постановку встретили просто прекрасно. Французы, по-видимому, любят живопись.
Мураками: Наверное, чтобы окупить новую оперную постановку, должно выйти много спектаклей.
Одзава: В идеале театр хотел бы исполнять одно произведение десять-двадцать лет. Чтобы окупить затраты. Например, в Вене до сих пор идет «Богема» в постановке Дзеффирелли. Уже лет тридцать. Новая постановка должна идти минимум три года. Потому что три года по десять с лишним выступлений в год – это примерно сорок спектаклей. Только так ее можно окупить. После этого декорации сдают в прокат второстепенным театрам, чтобы получить прибыль.
Мураками: Вот на чем, оказывается, зарабатывает оперный театр.
Одзава: Да.
Мураками: Декорации «Фиделио» Бетховена, которого вы исполняли в Японии несколько лет назад, тоже брали напрокат?
Одзава: Конечно. Везли на корабле. Но то, кажется, были гастроли Венской государственной оперы, поэтому в прокат не брали. В следующий раз привезут «Пиковую даму» Чайковского, и все декорации тоже полностью приедут из Вены.
Мураками: Декорации и сама постановка – собственность оперного театра?
Одзава: Да. Но в Японии, даже если хочешь оставить декорации, их негде хранить. У Венской оперы свой большой склад в пригороде Вены. Из госбюджета. Они все хранят там, возят туда-обратно на грузовиках. Венский оперный театр вмещает оснащение всего на две оперы, так что почти ежедневно между театром и складом курсирует грузовик.
Освистанный в Милане
Мураками: Оперу можно считать квинтэссенцией современной европейской культуры. Вначале ей покровительствовали члены королевской семьи и аристократия, затем активно поддерживала буржуазия, сегодня ее спонсируют корпорации, но всегда она оставалась блистательной частью культуры. Когда вы, японец, пытались проникнуть в эту святая святых, вызвало ли это сопротивление?
Одзава: Конечно, вызвало. Когда я впервые выступал в «Ла Скала», меня довольно сильно освистали. Мы давали «Тоску» с Паваротти. Я дружил с Паваротти и приехал в Милан по его приглашению. Он с энтузиазмом предложил поработать вместе, мне нравился Паваротти, и я поддался на его уговоры. (Смеется.) Маэстро Караян категорически возражал. Говорил, что это самоубийство. Пугал: «Они тебя убьют».
Мураками: Кто убьет?
Одзава: Зрители. Все знают, как непросто угодить миланской публике. Как он и предполагал, сначала меня как следует освистали. Но по прошествии трех дней, а всего концертов было семь, я вдруг заметил, что в зале тихо, в итоге все закончилось благополучно.
Мураками: Для европейцев освистывать – или зашикивать – обычное дело.
Одзава: Обычное, совершенно обычное. Особенно в Италии. В Японии такого нет.
Мураками: Нет?
Одзава: Есть немного, но не так массово, как в Италии.
Мураками: Когда я жил в Италии, часто читал в газетах что-то вроде: «Вчера в Милане сильно освистали Риччарелли». Помню, меня удивило, что в Италии освистывание в оперном театре, по всей видимости, важное событие.
Одзава хохочет.
Мураками: Похоже, освистывать – своего рода традиция. Конечно, как писатель, я часто сталкиваюсь с плохими отзывами на свои книги, но, если не хочу, могу их и не читать. Не раздражаться. Не переживать. Но музыкант стоит перед залом, ему некуда деться, когда его освистывают. Это ведь наверняка тяжело. Я всегда думаю, как это должно быть трудно.
Одзава: Когда меня первый раз в жизни освистали на «Тоске» в «Ла Скала», моя мать как раз была в Милане. Вера не могла поехать, так как дети были еще маленькими, и мама приехала вместо нее, чтобы готовить мне японскую пищу. Так вот, она пришла на спектакль, сидела в зрительном зале и была абсолютно уверена, что крики в зале – это восхищение мной. (Смеется.) Глядя, как громко и активно кричат зрители, она подумала, что так они мной восторгаются. Дома она сказала: «Это прекрасно, что сегодня так много кричали «браво»!»
Мураками смеется.
Одзава: Я объяснил, что это не «браво», это называется зашикивание. Но она никогда о таком не слышала, поэтому ничего толком не поняла.
Мураками: На бейсбольном стадионе Фенуэй каждый раз, когда выходит [Кевин] Юкилис из «Ред Сокс», весь стадион кричит: «Ю-у-у». Сначала я думал, что они кричат «бу-у-у». Удивлялся, почему это Юкилиса каждый раз зашикивают…
Одзава: Действительно, звучит похоже… Когда публика в Милане неистовствовала, Паваротти меня приободрил: «Сэйдзи, освистывание здесь – все равно что знак качества». Позже оркестранты говорили мне, что не было еще ни одного дирижера, которого там не освистали. Включая Тосканини. Но от этого было не легче. (Смеется.)
Мураками: Похоже, все были довольно участливы к вам.
Одзава: Менеджер тоже просил не обращать внимания: «Маэстро, за вами оркестр. Он на вашей стороне. Это важно. Если дирижера освистали и оркестр его не поддерживает – ему конец. Но в вашем случае это не так. Волноваться не о чем. Просто наберитесь терпения, и все обязательно наладится». Оркестранты и правда были моими союзниками. Я даже видел, как на «бу-у-у» из зала они посылали ответные «бу-у-у».
Мураками: И все наладилось.
Одзава: Действительно, через несколько дней освистывать прекратили. Крики постепенно стихали и однажды сошли на нет. С того дня и до самого конца меня больше никто не освистывал. Но если бы тогда это продолжилось, думаю, я бы не выдержал. Хотя точно сказать не могу, ведь до этого не дошло.
Мураками: Потом вы еще несколько раз дирижировали оперы в «Ла Скала».
Одзава: Да, довольно много. «Оберон» Вебера, «Осуждение Фауста» Берлиоза, «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского. Что-то еще.