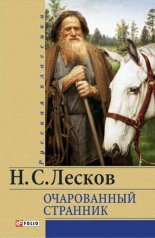Гарвардская площадь Асиман Андре
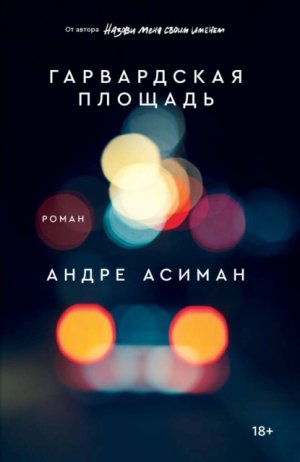
– Вы, мужики, свиньи, – сказала она. – Для тебя, Калаж, нет ничего святого. И ты хочешь, чтобы я считала себя твоей сестренкой?
Не обращая на нее внимания, он спросил, как прошел мой вечер. Я рассказал про девушку из сорок второй квартиры, как мы стояли голышом на террасе и смотрели на весь Кембридж, скрытый во тьме. Он тут же прозвал ее la quarante-deux, Сорок Вторая.
– Ее зовут Линда, – поведал я.
Ему больше нравилось la quarante-deux.
– Нас, наверное, соседи слышали, особенно та, что живет за стенкой.
– Тем лучше.
Спросил, повторили ли мы на террасе. Я не знал, как ответить, чтобы не выложить всю подноготную.
– Скажем так: мы там начали, – сказал я.
– И ты тоже свинья, – послышался комментарий Зейнаб.
– Кто тебя просил подслушивать? Это мужской разговор.
– Я бы вас, мужиков, такому могла научить… – отозвалась она из кухни.
Калаж любил вдаваться в подробности, поэтому про его ночь я узнал все. Она жила в Уотертауне, но по вечерам любила приезжать в Кембридж. Широкая ухмылка, в смысле: мы-то знаем зачем. Работала в отделе искусства университетской библиотеки, дома красивые картины, живет одна, даже без животных. В постели уходит в отрыв, безбашенный секс. Однако, если подумать, механический секс. Страсть с крепко зажмуренными глазами. Именно поэтому больше он ее видеть не хочет. Одной ночи довольно. Да что с ней не так? – осведомился я. Не в моем духе, ответил он. С ней всяко хватило бы ночей четырех максимум, потом она начала бы просить сперва того, потом сего, потом стала бы пенять, чего это он не делает вот этого, дулась бы еще сильнее: а почему не это?.. Знал он эту песню от начала до конца. Называется «семейственность». Такие женщины вечно в депрессии, потом и вас вгоняют в депрессию и, доведя до настоящей глубокой депрессии, вас же в этом и обвиняют, теряют к вам интерес, ищут нового кандидата на депрессию. Как всегда, сильнее всего он боялся, что, слишком сильно сблизившись с таким человеком, он в итоге в самый глухой ночной час сковырнет и погубит свое ремесленно-домодельное «я» и заместит его эрзац-двойником массового производства. Его это страшно пугало, потому что другой его страх состоял в том, что он может полюбить это состояние эрзаца или, хуже того, позабыть, что когда-то был другим. Даже его месье Зеб превратится в эрзац – и куда ему тогда податься?
Впрочем, была и другая причина, почему он считал, что не стоит с ней крутить дальше.
– Слишком быстро у меня все выгорает, – сказал он мне, и действительно: то, к чему он прикасался, долго не жило.
После секса она захотела сделать с него набросок. Ни в коем случае, отказал он. А почему? – спросил я. «Во, погляди». И как Харпо Маркс достает из-под плаща дымящуюся чашку кофе, он вытащил листок плотной голубой бумаги, сложенный в четыре раза. Развернул, хлопнул на стол и, чтобы придержать, поставил влажное блюдце на один край.
– Это я? – спросил он – в голосе так и булькает ярость. – Вот это я?
Она набросала пастелью его лицо и голые плечи.
– Да, ты, – ответил я. Сделано было весьма мастеровито. – Замечательная вещица, экспрессивная.
– Дерьмо это. Родители чертову кучу денег вбухали в ее образование, а она в свои тридцать только и способна, что никнуть первого встречного араба из занюханного кафе, а потом попросить его посидеть неподвижно, хотя он умирает как спать хочет – и все ради этого? Вот этого?
Он выхватил листок из-под блюдца, попросил Зейнаб подойти сию же минуту и показал ей. Вот этого?
Зейнаб вышла из кухни и вытирая передником руки на ходу, кинулась к нашему столику.
– Чего?
– Вот этого, – повторил он.
– Поглядим. – Она поднесла рисунок к глазам, издала довольный горловой щелчок, а потом и глазом не моргнув поцеловала картинку.
– Tu es beau, – произнесла она нараспев, – tu es vraiment beau, ты просто настоящий красавец.
– Ну и оставь себе. Ты и без того совсем чокнулась.
– Оставлю, уж поверь. Сделай одно одолжение.
– Какое?
– Поставь на нем сегодняшнюю дату. У меня руки мокрые.
Он вытащил из одного из многочисленных карманов своей куртки карандаш, сверху туго обмотанный резиновым колечком – получился такой шарик поверх резинки.
– Зачем тебе резиновое колечко на карандаше? – поинтересовалась она.
– Затем, что, если мне понадобится резиновое колечко, я знаю, где его искать. Что еще тебя интересует?
Он держал карандаш так, как держал бы десятилетний мальчик: пальцы почти касались грифеля. Тупой кончик говорил о том, что затачивали карандаш в последний раз не точилкой, а лезвием. Я опознал неровные зарубки рядом с грифелем, там, где снимали стружку. Эта картина тут же вернула меня в детство, когда я в классе не мог найти точилку и не хотел, чтобы учитель заметил, что я ее потерял. Достаешь перочинный ножик – у нас у всех были перочинные ножики – и в полном молчании под партой обтачиваешь кончик карандаша, пока, точно молодой зуб, пробивающийся из пустоты под десной, не обнажится новый грифель. Возня с ножом придавала этакой бесшабашности: ты становился матросом, который кортиком обтачивает кусок просоленной древесины, потому что именно так он коротает время, когда больше заняться нечем, потому что настоящие мужчины никогда не сидят сложа руки.
– Пиши аккуратно, – предупредила она.
И тут он, будто добросовестный и прилежный ученик, подался вперед, опустил лицо так низко, что можно подумать: зрение у него плоховато, и вывел дату.
Вуаля.
– А теперь можете трепаться дальше, – разрешила Зейнаб.
– Безусловно, – подтвердил он и повернулся ко мне. – Ну, рассказывай про свою la quarante-deux.
Я еще раз поведал все от начала до конца.
Калаж сказал, что наверх она со мной в эту ночь пошла потому, что одно я сделал правильно: задержался, просто задержался, потому что, пока я стоял перед ней, а она сидела и молча курила на ступеньках крыльца, я не двигался, стоял совсем тихо, отчетливо ей показал, что мечтаю о ней и тоскую, что думать в этот ночной час не могу ни о чем, кроме ее плеч, что со мной ей будет весело и интересно и я все сделаю сам, даже раздобуду два шезлонга.
Впрочем, Калаж, как всегда, тут же себя поправил. Наверняка она для себя все решила в тот самый момент, когда увидела, как я иду в ее сторону, а может, еще на крыше много недель назад.
– Теперь расскажи про голышом на террасе.
– Снова?
– Снова.
– В смысле, про то, как она вдруг села голая мне на колени, и я ощутил ее лобковые волосы на своем зебе и сам не поверил, что смогу еще раз так скоро?
– Оке, хватит!
Таким теплым оказался этот утренний миг, что после него я много дней и недель прицельно являлся в кафе «Алжир» совсем незадолго до открытия. Внутри пахло хлоркой и моющим средством, стулья все еще стояли на столах, пол подсыхал, а Зейнаб домывала кухню, сперва убедившись, что кофе варится и звучит запись арабской песни. В хорошем настроении она ставила Жоржа Брассанса или, как я выяснил впоследствии, свою любимицу Барбару, и подпевала «Il n’y a pas d’amour heureux[14]», и, подражая певичкам из кабаре, притискивалась к мужчине, который сидел ближе всех к кухне, и пела ему, ему одному, любимые свои строки из песни Арагона.
На задней стене кафе «Алжир» висела, как всегда, эта фотография Типаза – на случай, если кто из нас, ранних пташек, забудет, чего мы сюда явились. Здесь мы сильнее, чем где бы то ни было, чувствовали себя дома, этот дом стал нам домом сильнее, чем сам дом, потому что ни у кого, по сути, не осталось дома, в который можно вернуться.
Калаж всегда спешил. Вскакивал, не допив кофе, принимался, отхлебнув в последний раз, торопливо собирать со стола свои вещички, зажигал сигарету, которую свернул, пока ел круассан, и выскакивал через парадную дверь – а дальше через небольшой пустырь добирался туда, где обычно стояло его такси.
Стоило ему уйти, я раскрывал очередную книгу и погружался в семнадцатое столетие. Сидел, пока не назревала потребность размять ноги и переместиться в другое место. Если в кафе набивалось слишком много посетителей, уходил – мне мешал шум. Шел в библиотеку, где и читал почти все утро.
Мне по душе был этот ритуал. Мне вообще по душе ритуалы. Ритуал – это дом.
Иногда, выйдя из «Алжира», я старался больше не попадать на Площадь, а поскольку жара так и не спала, шел к себе в квартиру, переодевался и забирался на свое обычное место на террасе: плавки, темные очки, лосьон от загара, книги, все, что нужно, даже маленький радиоприемник. Там я читал, пока не выдыхался полностью, пока сюжеты не начинали сливаться с окружающей обстановкой. Список злодеяний иезуитов навеки вписан для меня не только в дешевое карманное издание «Писем к провинциалу» Паскаля, но и в запах «Коппертона», оттенок моих темных очков, воркование голубей, которые порой залетали на террасу, собирались там, прежде чем отправиться куда-то еще сквозь летний зной. И я неизменно думал про Линду.
Как просто все с ней произошло. Возможно, именно это меня все время и бередило: не только ее красота, но простота всего этого. Часть моей души все пыталась постичь, из чего все выросло и почему. Из того, что она рассмеялась, когда я предложил принести два шезлонга? Из того, что я определенным образом смешал коктейли, что оставил дверь открытой настежь? Или всего лишь из того, что я что-то сказал, хотя мог бы не сказать ничего?
Нет, все потому, что я задержался, считал Калаж.
Мне не терпелось у него спросить, что именно он понимает под «задержаться». В чем суть этого действия? Отказ идти на попятную после того, как тебя обдали молчанием? Упорство, чтобы переждать, пока другой заговорит, пока ситуация обратится в нужную сторону? Или в обнажении собственного желания, просто в силу неспособности представить себе, что другой его не разделяет? Или задержаться – значит всего-то продемонстрировать полную уверенность в собственном теле, в собственной неотразимости?
Нет, задержаться – значит с умом растянуть время, так, иногда за пределы точки разрыва. Не у всех на такое хватает куража. Сидишь и выжидаешь. Выжидаешь и выжидаешь. Вот только учти, что никакая это не пассивность. Что для одного человека – гениальная стратегия, для другого – способ говорить медовые речи и обводить судьбу вокруг пальца, демонстрировать, что ты способен никуда не торопиться, позволить женщине поступать с тобой по-своему – но только некоторое время. Муму слышал весь этот разговор, и философские рассуждения Калажа вывели его из себя. Иногда еще и удача требуется, заявил он. Тебе свезло. Всем, бывает, везет. Иногда.
– Ну, учитывая, сколько ты принимаешь витаминов… – начал Калаж.
– И что тебе мои витамины? Помогают витамины, еще как.
Однажды вечером – я сидел в кафе «Алжир», погрузившись в книгу, – вошел Калаж, вид у него был затуманенный. Он тут же заметил меня, подошел, бросил сумку рядом с пустым стулом возле моего стола и сказал, что у него серьезный разговор.
Я-то собирался поговорить с ним про quarante-deux. Но он меня оборвал.
– Не хочу я говорить про женщин: ни про вчерашнюю, ни про сегодняшнюю, ни про твою, ни про свою.
– Тогда о чем?
– Если подумать, я, наверное, вообще не хочу говорить.
– Понятно, – сказал я, пытаясь не показать, что этот его переход от обычного школярского веселья к откровенной враждебности оказался мне против шерсти. – Тогда оставлю тебя наедине с собой.
Я взял книгу и стал читать дальше, твердо вознамерившись его игнорировать.
– Дурака не валяй, – произнес он наконец. – Ты что, правда решил надуться? Все женщины, каких я знаю, рано или поздно надуваются – а теперь еще и ты? – Я не ответил. – Ну вот. Губу выпятил. Ладно тебе, поговори со мной. Просто у меня настроение хуже некуда.
– А почему оно у тебя хуже некуда?
Он что, заболел? Получил штраф, попал в аварию, его ограбили?
Неожиданный жест – единократный взмах в воздухе расправленной ладонью – означал: не спрашивай.
– L’enfer, – пояснил он. – Ад, вот что это такое.
Дальше он заявил, что через несколько дней у него интервью в Иммиграционной службе. Жена поначалу пообещала, что пойдет с ним, но сегодня ее адвокат заявил Калажу, что она передумала. Схожу я с ним вместо нее? Да, сказал я. Хорошо. Беда в том, что ему нужно отрепетировать, что он будет говорить. Смогу я его натаскать перед интервью, если он даст мне список вопросов и ответов – его адвокат сказал, что задают примерно такие?
– Еще раз?
– Да, еще раз, – подтвердил он, как бы напоминая мне, что дело серьезное, сейчас не до шуток. Снова, как уже бывало, вытащил из одного из многочисленных карманов записную книжку и вырвал оттуда четыре-пять страничек, где записал вопросы, которые ему могут задать. – Ответы нужно выучить наизусть. Как их запоминать самостоятельно, я не знаю, а ты же учитель, вот я и подумал, что с тобой лучше, чем с кем-либо еще, верно?
– Когда встретимся?
– Через несколько дней.
– Где?
– Здесь.
Я заметил, что буду рад, если он придет ко мне домой: там проще сосредоточиться, в кафе «Алжир» вечно шум. А еще дверь я никогда не запираю, добавил я, он может приходить, когда захочется. «Мне шум нравится», – возразил он. Мне сделалось его жалко. Какие демонические чудища ползают по нему в те моменты, когда он остается один, подумал я. Он предпочитал дурную компанию отсутствию всякой компании, препирательства молчанию, перекрученную жизнь, которая обвивала его колючей проволокой, когда он схватывался с очередным оппонентом, долгому певучему гудку сердечного монитора после того, как пациент умер.
Я взял протянутые мне листочки и просмотрел прямо при нем. Ладно, с этим я справлюсь. Похоже на заучивание таблицы умножения: нужно задавать вопросы вразброс, четырежды восемь, шестью девять, семью шесть и так далее. Чтобы немножко его расшевелить, я решил: побомбардирую-ка я его дурацкими вопросами. Когда ты в последний раз трахался, сколько раз, кто первый кончил… Взрыв смеха.
А чего это жена отказывается идти с ним в Иммиграционную службу?
– Потому что она такая, – прозвучал ответ. – Из эгоизма. Из-за своих десен.
Я глянул на него озадаченно.
Он выпятил нижнюю губу, обнажая десны.
– Потому что ненавижу я свою жену! Потому что она хочет со мной развестись. О господи, ты иногда так тупишь – сил нет.
Адвокат только что ему сообщил, что в свете их вероятного развода Иммиграционная служба пока так и не решила, будут ли они вообще проводить интервью, однако подготовиться все равно нужно.
Он начал скручивать сигарету. Был у него такой способ не смотреть мне в лицо. Потом, подняв глаза:
– Мне нужно найти нового адвоката, – сказал он. Есть у меня знакомый адвокат? Нет, нету. – Столько знакомств в Гарварде, и не знаешь ни одного адвоката? Это заведение штампует лучших адвокатов на свете, а ты хочешь, чтобы я поверил, что ты ни единым ни обзавелся?
– Ни единым, – подтвердил я.
– Неправильный ты какой-то еврей. А я уж всяко неправильный араб.
Я рассмеялся. Он рассмеялся.
– Ладно, – сказал я, собирая его листочки, – давай-ка еще раз пройдемся по некоторым вопросам.
Он заказал кофе, откинулся назад, закурил.
– Ты когда-нибудь занимался с женой анальным сексом? – начал я.
Одно это в силу природного добродушия заставило его улыбнуться.
– Такое могут спросить, – заметил я.
– Ты уверен?
– Мне откуда знать?
Потом я спросил снова:
– Так ты занимался анальным сексом с женой?
– Вроде бы нет.
– Да или нет? – осведомился я строго, подражая официальному тону государственного чиновника.
– Да.
Весь тот вечер мы раз за разом репетировали вопросы и ответы. В тот день я узнал о его жизни больше, чем из всех фраз, которые он произносил нарочито громко, чтобы все слышали. Началась его жизнь с дезертирства. Почему? Потому что двое матросов напали на него на военном корабле. Ему только исполнилось семнадцать, на подбородке ни волоска, он по робости не стал отбиваться и никому ничего не сказал. С того момента один только вид крови, чужой или его собственной, наполнял его смесью ужаса и стыда, а потом – яростью. В Марселе он познакомился с очень добрым доктором, тоже тунисцем, тот помог ему найти работу в булочной, потом в ресторане. Один повар случайно порезал себе палец, Калаж на него наорал – куда он смотрит, – и Калажа за это уволили. Даже сейчас, во время бритья, он морщится от вида крови. Где он бреется? Перед зеркалом, где же еще? А жена его бреет ноги? Он без понятия, что она там делает со своими ногами. А подмышки? Бугорок? Что она держит в аптечке? Без понятия. «Нужно знать», – заметил я. Он попытался вспомнить. Аспирин. Что еще? Занимается бегом, пользуется для снятия мышечной боли мазью, которая воняет камфарой, и кожу от нее так жжет, если до жены дотронуться, что зеб сразу скисает. В Марселе, поехал он дальше, он пошел учиться, чтобы получить степень бакалавра, но нужно было работать, и в итоге он бросил. Диплома так и не получил. Потом перебрался в Париж, там тоже работал в булочной, вечные булочные, потом в ресторане, потом еще в одном, и еще, и наконец ему надоело вкалывать на других. Познакомился в Париже с тунисскими евреями, им нужен был человек, чтобы готовил тунисскую еду… но кошерную. А откуда он знает, какая еда кошерная? Да уж знает. Да, но откуда? Знает, и все – оке? Тут он вдруг расхохотался. Это он чего смеется? «Да потому что ты спросил, занимались ли мы с женой анальным сексом».
Я уверен, что не знаю ни одного адвоката?
Я покаянно кивнул.
– И что ты за еврей!
Досадовал он совершенно обоснованно. Я провел в Гарварде четыре года и не завел никаких знакомств в профессиональном мире. У меня не было даже собственного врача, если не считать того, с которым я регулярно встречался в гарвардском медпункте, когда вдруг решал, что умираю от гонореи, и нуждался в заверениях, что ничего подобного. Зубного своего и то не было. А психиатра и подавно.
– Психиатра-то я тебе найду хоть с закрытыми глазами.
Все женщины, с которыми он познакомился в Кембридже, ходили к психиатру как минимум раз в неделю.
– Толку с тебя ноль, – заявил он. А потом, сменив тему, осведомился: – И как там твоя работа?
– Работа? – Я посмотрел на него, улыбнулся и произнес: – Лучше не спрашивай. Скажем так: год спустя меня здесь, скорее всего, уже не будет.
Я поймал себя на том, что уже начал скучать по кафе «Алжир».
– Значит, для тебя тоже l’enfer.
– L’enfer.
В этот миг я впервые понял, каким ужасом, видимо, был для моих родителей последний год жизни в Египте. Ждали высылки, надеялись, что пронесет. Ждали, что конфискуют все их имущество, ждали, что в дверь позвонят со страшными новостями, ждали, что их арестуют по ложному доносу, – ждали, ждали.
Через несколько дней вечером я пришел в «Алжир» позже обычного после лекции и ужина. Я немного выпил, голова не работала. Хотелось общества. Он был на месте, выглядел угрюмее обычного, сидел один, курил, даже не читал вчерашнюю газету. Бросив взгляд на счет у него под блюдцем, я выяснил, что он уже выпил четыре cinquante-quatres. Настроение у него было вздрюченное, сварливое, задиристое – собирающаяся гроза, которая рыскает взглядом в поисках громоотвода, – в противном случае придется обрушить свой гнев на десять-пятнадцать земных обитателей, занятых своими делами в кафе «Алжир». Сегодня, объяснил он, будет опять возить в ночную смену.
Мне бы совсем не понравилось все время ездить по одной дороге, подумал я.
Он надулся окончательно.
Мы молча выпили каждый по чашке кофе. Я сообразил: он старается, чтобы все заметили его угрюмость. Первой оказалась Зейнаб. Даже Муму, направляясь к выходу, опустил руку ему на плечо и осведомился: «a ne va pas?» Ответ был краток: «Non, a ne va pas»[15]. Зейнаб принесла ему супа. За счет заведения, пояснила она. По тунисскому рецепту, который он наверняка узнал. Есть ему не хотелось.
– Я принесла – а ты отказываешься?
Он зачерпнул ложку, медленно проглотил, сказал – очень вкусно. Правда хороший суп. Но ему есть не хочется.
Когда она ушла обратно на кухню, он посмотрел на меня и с кислой улыбкой добавил:
– Какой еще тунисский рецепт? Обычный куриный бульон.
Через секунду он надел куртку.
– Пошли, подброшу тебя домой.
Ладно, давай.
Мы вышли в полном молчании. Добрались до Эш-стрит – вот он, его блистающий светло-желтый «Титан» среди других машин. Можно подумать, он знакомил меня с любовью всей своей жизни.
– В это чудище я вложил все, что у меня было. Сбережения всей жизни с того дня, когда пробрался в Марсель, и до того момента, когда прибыл в Париж, плюс то, что скопил, когда пахал в Париже и Милане. Во, постучи по капоту, – добавил он, явно гордясь своим автомобилем. – Не гладь, стучи костяшками пальцев, настоящая сталь – слышишь? Динь-динь-динь. Прямо колокола собора. А теперь постучи по этой машине. – Он подошел к той, что стояла в ряду следующей. Заметив, что я не спешу ему подыгрывать, он схватил мою руку и заставил стукнуть костяшками по капоту зеленой «тойоты». – Слышишь, какой шлепок – эрзац, мертвечина? Слышишь блеклое шуршание мятой алюминиевой фольги? Слышишь? – Да, слышу, подтвердил я. – Так вот, и я такой же, как моя машина. Ненавижу всех этих сопляков и соплячек, у которых воображение мяклое, точно использованный кондом.
Мы сели в машину. Я – в первый раз. Чистота внутри была безупречная, мне понравился запах старой кожи и стали. Когда две минуты спустя мы остановились у моего дома, мне стало очень его жалко, но я все равно не знал, что сказать и как помочь. Застенчивость мешала предложить ему раскрыться, рассказать, что за мрачная туча застит ему белый свет. Вместо этого я предложил вещь настолько банальную, что даже удивительно, как это она не вывела его из себя сильнее прежнего. Предложил поехать домой и как следует отоспаться – как будто сон способен спасти жертву кораблекрушения с ее острова. Нет, ответил он, ему нужно работать. А кроме того, он даже предвкушает ночное вождение. Нравится ему рассекать по Бостону ночью. Ему нравится джаз, старинный джаз, Джин Аммонс, особенно в исполнении en sourdine, с сильно приглушенным звуком, потому что тенор-саксофон неизменно блокирует все дурные чувства и уносит его в мир романтики, в сладострастие летних ночей, где женщины танцуют с тобой щека к щеке под протяжные лирические ноты саксофона, от которых хочется любви, даже если ты уже отчаялся в том, что она для тебя существует. Ему нравилось слушать музыку на Мемориал-драйв и на Сторроу-драйв, вот он и ездил по этим широким влажным магистралям, глядя, как перемигиваются огоньки на Бикон-Хилл, и в Бэк-Бэй, и по всей Эспланаде.
– Ночью за рулем я чувствую себя американцем, как в этих фильмах нуар, где они только и делают, что курят и ездят, вооружившись «стетсонами» и надвинув шляпу на самые глаза.
Однажды, когда пассажир попросил поставить другую музыку, Калаж сделал вид, что не слышит. Пассажир попросил снова, Калаж ударил по тормозам прямо посреди Роксбери и приказал чисто белому джентльмену выматываться из его машины.
В другой раз чернокожий попросил его выключить запись Умм Кульсум, которую он слушал en sourdine, Калаж снова ударил по тормозам, а когда чернокожий наотрез отказался выходить и даже пригрозил потасовкой, Калаж просто повернулся и рявкнул:
– Мои предки твоих продавали в рабство – катись отсюда, пока я не сделал того же самого.
Калаж, который в жизни ни слова не сказал против евреев, однажды объявил пассажиру-еврею – тот, услышав арабскую музыку, отказался давать ему чаевые, потому что он араб, – какая жалость, что его бабусю и младенца-папочку не отправили прямиком в газовую камеру, потому что лично он с удовольствием растопил бы в ней печь, будь у него такая возможность.
Он знал, где у кого больное место.
Видимо, он знал в точности, где оно у меня. И ни разу до него не дотронулся.
После этого мы с Калажем почти каждый вечер встречались за кофе, иногда по чистой случайности, иногда просто оказавшись в кафе «Алжир» в одно и то же время, иногда потому что ни он, ни я понятия не имели, чем заняться, когда очередной вечер бабьего лета все длился и длился после того, как мы успели наработаться до изнеможения. Я весь день читал, делал вид, что я в другом месте, и всеми доступными мне способами старался не нервничать по поводу того, что до начала учебного года уже рукой подать. Не хотелось мне думать про учебный год со всеми его дополнительными обязанностями и обязательствами: проведение семинаров, индивидуальных занятий, участие в работе таких и этаких комитетов, работа в Лоуэлл-Хаусе, стречи со студентами, интервью, факультетские вечеринки и сборища – не говоря уж о второй попытке сдать квалификационные экзамены в середине января, а если она окажется удачной, сразу за ней последуют экзамены устные. Ллойд-Гревиль советовал всем студентам перечитать на первом курсе все книги из Библиотеки английской литературы. Это он всерьез, спросил я одного студента-четверокурсника. Этот вообще не шутит, ответил студент. И мне было не до шуток. Я знал, что позволяю Калажу отвлекать себя от работы; знал, что скоро заплачу за это дорогой ценой; видимо, даже готов был заплатить эту цену. И все же мысль об утрате Гарварда будила меня по ночам и нагоняла могучую волну паники. Потом уже было не заснуть. Однажды ночью я проснулся, и меня захлестнул такой невыносимый ужас, что хотелось только одного: написать письмо одной женщине, которую я любил много лет назад, а потом пути наши разошлись совершенно. Еще в одну ночь я засел писать вещь, которая, по моему твердому убеждению, должна была принести мне солидный доход: порнографическую повесть про двух разудалых монашек из обители. Но обычно дело ограничивалось тем, что я подогревал себе молока и пытался представить, что подогрел мне его близкий человек, прежде чем отправиться обратно в постель. В итоге я засыпал на кушетке. Иногда смотрел на восход из окна спальни, которое выходило на сплошные крыши, мне вспоминался пляж – и в сердце проникал покой. Если не смотреть наружу, за окно, иллюзия приморского городка не выцветала, и это было хорошо весьма.
Ллойд-Гревиль попросил Мэри-Лу мне позвонить и назначить встречу. Хотел поговорить со мной о Чосере. «О каком рассказе?» – уточнил я у нее. «Обо всем Чосере», – ответила она таким тоном, будто я начисто позабыл, какого рода заведением является Гарвард. Встречу назначили на середину сентября, когда Ллойд-Гревиль вернется из России. Он там преподавал русским русскую литературу. Он – я мог бы и заранее догадаться – прекрасно знал и русский тоже.
Я знал, что долгие часы в кафе «Алжир» сбивают мне график чтения, зато кафе «Алжир» помогало отвязаться от множества призраков, которые теперь преследовали меня и наяву. А еще мне пришло в голову, что, хотя у меня и было в Кембридже сколько-то друзей, я в жизни своей еще ни с кем не общался так близко и задушевно, как с Калажем. Терять это мне не хотелось. У нас образовался свой собственный мирок, этакий карточный домик с карточно-домиковыми кафе и карточно-домиковыми ритуалами, скрепленными нашей карточно-домиковой Францией. Про кафе «Алжир» мы говорили Chez Nous[16], потому что оно явно предназначалось для нам подобных: смесь Северной Африки с подложной Францией плюс место мечтаний для неприкаянных, а еще смесь чего-то с чем-то откуда-то для тех, кто не вполне обосновался здесь и не вполне оказался в другом месте. Мы всегда заказывали cinquante-quatre в кафе «Алжир», а потом – бокал вина и чили в «Анечке», которую ему нравилось называть la soupe populaire, столовкой для бедных. Вино он прозвал un dollar vingt-deux[17]; подружку, которая вскоре стала его подружкой, – mon plonasme; а Линду, мою соседку, имя которой он запоминать отказывался, la quarante-deux. Еще одна недавняя пассия имени так и не удостоилась: она осталась мисс Частые Посещения Туалета. «Цезарион» – тут мы сходились – был le petit trou, дырочкой, а «Харвест», который произносился «Арвест» с ударением на последний слог, превратился в Chez Maxim’s[18], а порой именовался дырищей – le grand trou. «Касабланку» по неведомой причине так и не перекрестили, она осталась «Касабланкой». По ходу ежедневных прогулок мы, как правило, перемещались из Maxim’s в la soupe populaire, порой по второму разу останавливаясь в Chez Nous. Именно в Chez Nous мы читали, играли в нарды, заводили друзей, а иногда садились в кружок и слушали Сабатини. Случалось, гитарист приводил своего лучшего ученика, который заранее знал, что нужно исполнить Andante spianato, потому что об этом всегда умолял Калаж. Воскресными вечерами, когда уже начался учебный год, мы всегда умудрялись поспеть на авторский фильм в церкви Гарварда-Эпворта, по доллару с носа. Он это называл «сходить к мессе».
Он переиначивал названия всего, что его окружало, чтобы щелкать мир по носу и демонстрировать, что вещи можно видеть и именовать по-другому, что все вещи должны пройти через огонь крещения, дабы очиститься от ханжества и благочестия, прежде чем он даст им войти в свой мир. Тем самым он пересоздавал мир по собственному подобию или по подобию того, каким он хотел этот мир видеть: тем самым он брал в оборот холодный негостеприимный поверхностный эрзац-город и опускал его вниз на несколько ступеней, чтобы в своих глазах сделать добрее, отзывчивее, укромнее, солнечнее – дабы открылся в нем для него тайный проход, дабы он покорился ему с улыбкой: вот если бы, подобно Али-Бабе, он смог отыскать для этого города верное прозвище на этом самом французском языке его собственного изобретения. Он обезличивал мир, применяя к нему импровизированные прозвания, оставляя отпечатки своих пальцев на всем, до чего дотрагивался, в надежде, что мир рано или поздно захочет отыскать руку, оставившую столь глубокие зарубки на его дверях, и втянет его внутрь со словами: «Ты стучал довольно. Входи, твое место здесь».
В этот свой тесный сомнительный мирок он умудрился втиснуть всех обитателей кафе «Алжир», но для одного человека оставил самую лучшую и просторную комнату. Человеком этим был я. Ему нужен был соратник, который одновременно являлся бы и братом по крови.
Не видел он одного: чем шире он открывал другие меры, чем дерзновеннее бросал Кембриджу вызов, чем дальше отталкивал его от меня, чтобы показать: жить и действовать можно и по-другому, тем отчаяннее я цеплялся за мелкие поблажки и невнятные обещания, которые Кембридж мне давал.
3
Однажды вскоре после полудня я вошел в кафе «Алжир» со своими книгами, совсем не ожидая встретить там Калажа так рано, и увидел его за столиком с двумя женщинами.
– Как я рад тебя видеть! – заорал он и тут же заключил меня в объятия. До того мы никогда не обнимались. – Сто лет тебя дожидаюсь. – В приветствии его было нечто преувеличенно-бодрое и велеречивое. Он явно что-то затеял. – Это мой друг из Гарварда, о котором я вам рассказывал.
У меня внезапно возникло подозрение, что он решил воспользоваться моим положением гарвардца, чтобы поднять свой собственный престиж и продемонстрировать, что водит знакомства и за пределами собственного кружка магрибских таксистов и официантов. Знал бы он, насколько непрочной казалась мне на тот момент моя связь с Гарвардом, особенно если учесть, что угроза январской катастрофы застилала все мои утра гниловатым послевкусием непереваренного ужина, проглоченного накануне вечером с дешевым вином.
На самом деле ему нужно было совсем другое. Я стал для него предлогом завести разговор. Никаких возражений. А может, я и не был предлогом завести разговор. Он вроде как просил меня о помощи. А помощь при сложившихся обстоятельствах я мог оказать лишь одну: освободить его от одной из женщин. Весь вопрос заключался в том, от которой.
Пока девушки говорили друг с дружкой, он подал мне именно тот знак, которого я и ждал: «Оторви их друг от друга!» А потом добавил нечто другое: «Ты которую хочешь?» Поскольку я так и так делал ему одолжение, мне было все равно – обе мне были безразличны. А кроме того, пойти на такую уловку: якобы приударить за одной из девушек, чтобы помочь ему заарканить вторую, – мне представлялось несколько пошловатым. Мое откровенное нежелание содействовать его плану его явно озадачило. Глаза взметнулись с явственным непониманием. «Не станешь делать ничего?» Как это оскорбительно для них. И, если честно, для него тоже. Пришлось делать выбор. Этого даже они ждали.
Я выбрал ту, что сидела поближе.
Она была персиянкой, прочла всего Данте по-итальянски, потом по-испански, потом на фарси. Вторая оказалась кудрявой блондинкой по имени Шейла – и была она, как я могбы и сам догадаться, врачом лечебной физкультуры.
Оказалось, Шейла его не интересует. Что парадоксально, интересовала его мисс Частые Посещения Туалета. После той их первой ночи она исчезла, и теперь она создавала ему трудности, а не наоборот. Я мог бы это предвидеть. Он, впрочем, не слишком переживал. Кембридж меньше Парижа. Рано или поздно они столкнутся нос к носу. А телефон ее он не записал? Потерял. Знает, где она живет? Нет. Темно было, он был пьян, не приметил. Что же до Plonasme из la soupe populaire – которая действительно объявилась на третий день и оказалась, как он и полагал, француженкой из еврейско-марокканской семьи, – он в итоге переспал с ней в своей комнате, когда квартирная хозяйка, переименованная в миссис Арлингтон с Арлингтон-стрит, уже спала. А потом он скоропалительно – за три-то дня! – по уши влюбился в Остина, мальчишку, при котором она состояла круглосуточной нянькой. Он ломал себе день, чтобы отвезти ее к школе, чтобы она забрала Остина в два часа дня, потом они ехали втроем в Фанейл-Холл, ставили машину и покупали три мороженых. Все это держалось в тайне: нельзя было допустить, чтобы мальчик сообщил родителям, что дружок его няньки – таксист, который забирает их каждый день и катает вокруг Фанейл-Холла, пока не найдет, где запарковаться. Забирать мальчика – порой сам по себе – он продолжал еще долго, даже когда давно выяснил, что, помимо него, нянька спит еще и с отцом мальчика, за спиной у матери.
– Плевать мне, что она спит с кем-то еще. Я тоже сплю с другими. Но хоть какую-то совесть нужно иметь: обманывать человека, который боготворит сына того самого человека, с которым она его обманывает, – это ни в какие ворота! C’est de la perversit![19] Недопустимо. Тра-та-та-та-та-та.
– Мне кажется, ему хотелось остаться с Шейлой, – заметила персиянка, когда в тот день мы тоже остались вдвоем. Говорили мы по-французски – второй раз за лето Калаж открыл передо мною двери, которые, как мне казались, для меня заперты. Мне нравилось говорить с женщиной по-французски. Я будто вернулся домой. Женщине очень многое можно сказать по-французски. Не те вещи, которые невозможно перевести на английский, а те вещи, которые по-английски никому и в голову не придут и которых, соответственно, в англоговорящей голове просто не существует. И душу мне согрели не просто сами эти вещи и не описывающие их слова, а их эмоциональная окраска, подложка, тон голоса, моего голоса, столь многих голосов, которые в детстве говорили со мной по-французски и чьи крылья распростерлись сейчас над каждой моей фразой: они слушали и вторгались в мою речь далеко не нежеланным способом. Там, в кафе «Алжир», Калаж увидел двух женщин: трюк с сигаретой – неприкаянный экспат мечтает о возвращении, экзотический белый город на Средиземном море, к югу от Пантеллерии. С Шейлой она до того не была знакома: она сидела за одним столиком, Шейла за другим, а между ними сидел Калаж. Он в результате сумел rapprocher[20] обеих.
Не зная, что бы еще предпринять, я отвел ее в «Цезарион» на «счастливый час». Дешевому вину она предпочла травяной чай. К крылышкам не притронулась, назвав их конвейерной жрачкой для бедняков.
– Богатая барышня из Ирана? – предположил я.
Она рассмеялась.
– Очень богатая барышня из Ирана.
Ненадолго повисло молчание.
– А у тебя в Кембридже много друзей? – спросила она, явно решив сменить тему разговора.
– Нет, в основном аспиранты, – ответил я.
Она и сама аспирантка, сказала она, хотя легко могла сойти за молодую преподавательницу. Из Ирана она приехала в июле, задолго до начала занятий.
– Впервые в Америке? – поинтересовался я в надежде помочь ей сделать первые шаги по кембриджской территории.
– Нет, бывала тут много-много раз, – ответила она, будто едва ли не помимо воли подчеркивая то, что в первый момент могло показаться брошенным вскользь, самоироничным, – «очень богатая барышня из Ирана».
Фамилия ее была Ансари.
Я процитировал несколько строк персидского поэта, носившего ту же фамилию.
– Угу, все мне цитируют одно и то же, – заявила она, как будто приглашая придумать что получше.
Она, подобно крупье, умудрилась быстрым движением своих грабелек по столу с рулеткой сгрести с него все мои фишки. Я уставился на нее в недоумении. Ее открытый бестрепетный взгляд как бы отвечал: «Фишки кончились, верно?»
– Давай уж поужинаем вместе, – предложила она, когда мы застряли рядом с «Цезарионом». – Вряд ли мы сегодня еще увидим Шейлу или Калажа.
Я предложил перекусить в «Анечке». «Перекусить» на моем языке означало «поесть дешево». Ничего другого оно в обществе Калажа означать и не могло. Для нее же «перекусить» означало едва ли не неприличную спешку.
– А куда ты торопишься? – поинтересовалась она.
Я объяснил: Сервантес – четыре часа. Скаррон – час; Сорель – еще час; Банделло – бог его ведает. Рассказал про экзамены.
– И когда ты собираешься их сдавать? – осведомилась она.
– В середине января.
– Так всего несколько месяцев осталось. – В смысле: «Пора бы и за ум взяться».
«Нашла чем удивить», – хотелось мне ответить.
Меня всегда восхищали женщины, которым хватает остроумия говорить на прямоту. Я ей так и сказал. Ответ оказался не менее остроумный:
– Cher ami[21], я живу hic et nunc, здесь и сейчас, – произнесла она.
Хотелось ответить, что я, напротив, обитаю в iam non и nondum, в «уже нет» и «еще нет», но потом я решил, что оставлю это на потом. Неподходящий момент для Блаженного Августина. Я спросил, есть ли у нее другие предложения насчет места, где поесть. У нее не было. Придется, видимо, и правда просто перекусить, поддела она меня. Единственная из ее фраз по поводу нашего краткого совместного ужина, которая мне запомнилась, была такая: «Должна предупредить тебя касательно одной вещи», – сказала она, подцепляя ногтями большого и указательного пальца совсем тонкие ломтики сыра хаварти со своего бутерброда и откладывая их в сторону. Не любит она сыра в бутерброде, если он лишний, добавила она, пытаясь отделить сыр от салата и одновременно запихать обратно один-два ломтика виргинской ветчины, которые случайно вытянула наружу при попытках избавиться от сыра. Не привыкла она к бутербродам. «И хочу это сделать прямо сейчас». Я сразу понял, что речь идет о каком-то неудобном признании, причем скорее для меня, чем для нее. «Говори», – попросил я. Она вроде как еще немного подумала. «Je suis plus grande que toi, я тебя старше». Я, как мог, попытался ее успокоить. При этом ее безоглядная искренность застала меня врасплох. Мне-то казалось, что я достаточно ловко управляю ситуацией, – но эти ее слова оказались слишком поспешными, слишком в лоб, слишком hic et nunc. А еще сильнее смутил меня тон, которым она, судя по всему, взяла назад предложение – а я-то даже и не знал, что оно уже сделано. Или она уже несколько раз сказала «да», только исподтишка, хотя я ни о чем не спрашивал? Или события развивались совсем стремительно, а я ничего не заметил? А потом я понял, в чем дело. Просто Калаж привел обеих женщин в соответствующее расположение духа. Он сделал всю черновую работу. Как именно, для меня оставалось непостижимым. Но в связи с таким ее расположением духа я ей подходил, как и любой мужчина. Я все гадал, что же он надул за шарик, чтобы склонить ее в такую сторону. Возможно, нужен ей был как раз он, а я оказался лишь заменой. А может, она решила для себя, что я такой же, как он, и на уме у меня лишь одно и ничего более.
Расстались мы через двадцать минут после того, как съели на двоих кусок пеканового торта на скамейке рядом с Холиоке-стрит. Я уже понял, что экономить она не привыкла. Но хотя бы у нас случилось это «здесь и сейчас», заметил я. Она шутку оценила. Я сразу понял, что Калаж прозвал бы ее Hic et nunc.
Я подумал: еще часик будет светло, можно почитать на террасе на крыше. Вот только я все время думал про Линду. Наверняка она уже вернулась из библиотеки. Постучал в ее дверь. Тишина. Попробовал повернуть ручк – вдруг не заперто. Я бы вошел, и, вне зависимости от того, чем она там занимается, мы бы за секунду разделись догола. Ручка не поворачивалась. Я позвонил еще раз. Нет ответа.
В тот вечер я умудрился дочитать Сервантеса до последней страницы.
Около одиннадцати вечера внизу зазвонил домофон. Пришел Калаж.
– Ты один? – Разумеется, я один. Он взлетел по всем четырем лестничным пролетам. – А я думал, с персиянкой.
– Я читаю.
– Ты что, действительно ей отказал? Совсем больной, что ли?
– Я читаю.
– Ради вот этого, ради докторской про бумажки? – Он не понимал. – Ладно, дружище, тогда сиди со своими бумажками. – А потом, по размышлении: – А понравилась тебе персиянка?
– Так, ничего.
– Мне нужно «да» или «нет», а не «вроде того».
– Да, неплохая.
– Почему же она не здесь?
– Потому что не здесь, – ответил я.
– Как-то ты неправильно поступил, – он призадумался. – Если подумать, даже жестоко.
– Если подумать, я собирался, дочитав, постучаться к quarante-deux. В качестве запасного варианта, – добавил я, пытаясь вызвать дух мужской солидарности, который – я это знал – он оценит.
– Ну и ну, ты запасной вариант, она запасной вариант, вся твоя жизнь – один сплошной запасной вариант. Не то чтобы я знаю больше твоего, но единственное, что в твоей жизни есть настоящего, это бумажки, а ведь кто знает, может, эти твои бумажки – еще более хитрый запасной вариант, чем все остальное. Не понимаю и, если уж совсем честно, и понимать не хочу. Bonne soire.
Тра-та-та.
С этими словами он вышел.
Я не мог сообразить, чего он так на меня разозлился. Возможно, сам то не до конца сознавая, он приблизился к пониманию, что в моем мире и ему уже присвоен потенциальный статус запасного варианта. Запасное дружество в запасном городе, где все проживают запасные жизни.
Через несколько дней выяснилось: он позвонил в домофон и примчался наверх, чтобы пригласить нас с персиянкой прокатиться с ним и с Шейлой в дальний конец города, в Норт-Энд, чтобы выпить кофе с пирожными в маленьком итальянском кафе.
– Поехали бы вчетвером и отлично провели бы время: ты, я, женщины, поездка и саксофон Джина Аммонса.