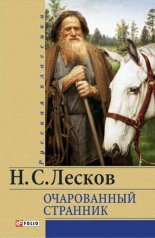Гарвардская площадь Асиман Андре
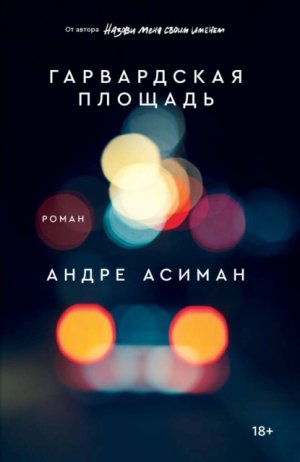
В голосе его я услышал всхлип.
– Так я-то что? – спросил он, будто бы возвращаясь к терзавшему его вопросу, который возник вовсе не нынче вечером, а, похоже, набухал с самого детства, целую вечность, а ответ на него всегда оставался одинаковым: ответа нет. – Et moi? – повторил он, отчаянно себя жалея; я же стоял рядом, не в силах ничего сказать, ничего для него сделать.
И тут впервые за вечер я вдруг понял, что у этой его короткой мантры есть еще один смысл, который попросту ускользал от меня, пока я стоял во тьме и слушал его слова. Смысл был не «Я-то что?» в вопросе звучало обиженное, обреченное «Что со мной теперь будет?».
Он не просил у меня ответа, не взывал к моей помощи, даже не молил бога справедливости и милосердия простить ему все прегрешения в Северной Америке; он попросту шарил руками во тьме, твердя заклинание, которое должно вывести его из пещеры единственным ведомым ему способом: через слезы. Слезы приносили утешение и приятие, прощение и мужество.
В тот вечер я видел его слезы, а его отчаяние и эфемерный эликсир, надежда, казались почти ощутимыми. Когда через несколько секунд он зарыдал в голос, как рыдал в тот день, когда узнал, что в Тунисе заболел его отец, я понял: передо мной самый одинокий человек из всех, кого я когда-либо знал, и весь этот гнев, горе, страх и даже стыд от того, что его застали в слезах, – ничто по сравнению с вихрем одиночества и отчаяния, который овевает его каждую минуту каждого дня.
Часть моей души не хотела, чтобы он подумал, что я в состоянии смотреть на его слезы, поэтому я решил вернуться в гостиную и заняться гостями.
– Не уходи. Посиди еще. Пожалуйста.
Такое говорят больничной сестре, когда страшно оставаться одному, а свет в палате погасили и приглушили освещение в коридоре. Вот только все стулья переместились в гостиную, сесть можно было разве что на кровать, вот я и примостился на краешке, с ним рядом. Он молчал, но и плакать перестал, только дышал и курил.
Когда через пару минут, решив, что он взял себя в руки, я снова попытался уйти, он повторил:
– Не уходи.
Хотелось протянуть к нему руку, дотронуться, утешить, может, даже продемонстрировать сострадание и солидарность, но мы если и прикасались друг к другу раньше, то лишь мимоходом, начинать сейчас было неловко. Вместо этого я стал нашаривать его ладонь, нашел ее тыльную сторону и взял в свою, сперва мягко, потом крепче. Мне это далось нелегко, полагаю, что и ему тоже, потому что он не откликнулся ответным пожатием. Для двух мужчин, провозгласивших себя истинными средиземноморцами, мы вели себя чрезвычайно бесстрастно и скованно. Возможно, обоих нас что-то сдерживало, возможно, он думал в точности то же, что и я; именно поэтому в неожиданном порыве, вместо того чтобы снова встать на ноги, я лег с ним рядом, к нему лицом, и протянул руку ему поперек груди. Только тогда он взял меня за руку, а потом, повернувшись ко мне, перекинул через меня ногу, обнял меня, притиснул к себе – оба мы хранили полное молчание, звучали лишь его сдавленные всхлипы. Больше мы не произнесли ни слова.
Через некоторое время я поднялся и сказал ему:
– Возьми себя в руки, и идем к гостям.
Дверь за собой я затворять не стал.
Вернувшись в гостиную, я все заметил сразу, хотя в первый момент не придал значения, а может, просто попытался проглядеть. Леони сидела на диване, а Граф сидел на полу, шеей прижавшись к ее коленям и положив затылок ей на ляжку. Фрэнк поставил еще одну запись Каллас. Остальные дружно нарезали два десерта, которые принесла Зейнаб.
Перехватив мой взгляд, Граф поднялся и сказал, что сходит за угол купить сигарет. Клод немедленно предложил ему одну из своих. Оказалось, что Граф курит только «Данхилл».
– Мог бы я и догадаться, – заметил Клод, – ты всегда выбираешь все самое лучшее, Пьеро.
– Одна нога здесь – другая там, – пообещал Граф, пытаясь как-то оправдать свою краткую отлучку. Леони подняла глаза и сказала, что проводит его вниз, а заметив, что в комнату вошел Калаж, попросила у него ключи от машины – забрать оттуда свитер.
Ключи он ей дал.
– Вы бы научились делать самокрутки, – посоветовал Калаж Графу.
– Нужды нет, – откликнулся Граф, выпуская Леони из квартиры и аккуратно закрывая за собой дверь.
– Nique ta mre, – пробормотал Калаж сквозь зубы.
Мы нарезали торты на крупные ломти и подали их на бумажных салфетках, а поскольку чистых вилок уже не хватало, есть стали руками. Пекановый торт – лучшее на свете изобретение со времен телефона. Нет, лучшее – чизкейк, возразил кто-то. И чизкейк тоже, подтвердил Калаж. Мы открыли еще бутылку вина, даже зашла речь о том, чтобы прикончить наконец галлон водки, который я в прошлом апреле умыкнул вместе с джином «Бифитер» с факультетской вечеринки. Мы передавали друг другу ледяную водку, все сошлись в том, что штука сногсшибательная, так что выпить по второй – de rigeur[32], и я направился на кухню заняться кофе и тут увидел, как Калаж пулей вылетел из гостиной, распахнул входную дверь и помчался вниз по лестнице.
Остальные явно озадачились, недоумевающе переглянулись.
– Какая его нынче муха укусила? – поинтересовалась Екатерина.
Зейнаб, знавшая его лучше остальных, ответила без затей:
– Он вечно фордыбачит, когда людям хорошо.
Вернулся он через десять минут. Не сказал ни слова. Направился прямиком в темную спальню, снова захлопнул дверь. Мы обменялись ошарашенными взглядами. Зейнаб заметила, что и раньше видала его расстроенным, но настолько – никогда.
Оставшаяся часть вечера тянулась мучительно долго. Мы пытались делать веселую мину, но мысли постоянно обращались к человеку, который заперся в спальне. Ни у кого, даже у меня, не хватало духу пойти и взглянуть на него. Чтобы убить время, мы навели порядок, все убрали, вымыли посуду, упаковали остатки – всем предложили взять еды домой. Мусор я сам вынесу – мысли уже обратились к мусорному баку на плоадке черной лестницы. Мне показалось, что Линда и Екатерина, успевшие, кстати, задружиться, теперь подспудно состязаются: кто кого пересидит. Часть моей души мечтала, чтобы они сами с этим разобрались, в другой роилась мысль: хорошо бы обе придумали себе развлечение получше.
Калаж появился только после того, как большинство гостей разошлись. Кто-то уронил на ковер клубничину с торта, а потом раздавил. Пятно не оттиралось. Екатерина сказала: это Граф. Старинный персидский ковер мне одолжил знакомый, потому что гостиная у меня была больше, чем у него. Но рано или поздно он попросит его обратно, причем в первозданном виде.
Калаж сказал, что ковер отчистит. Он умеет выводить пятна. Но я к этому времени уже отскреб клубничину острым ножом и налил на ковер пятновыводителя.
– Надо было ему бензином в морду плеснуть. И ей тоже.
– Что случилось? – поинтересовались мы.
– Что случилось? Что случилось? Вы, что ли, ничего не слышали?
Никто из нас не слышал ни звука.
– Я их избил. Вот что случилось. Теперь вы знаете.
– В каком смысле избил? – переспросил я, не в силах поверить в очевидное.
– Они залезли ко мне в машину. Вдвоем. И никались там.
– Что? – ахнула Екатерина.
– Ну она-то женщина, ее я просто отшлепал. А он мужчина. Ему я дал в морду.
На самом Калаже не было ни царапины.
– А теперь они где?
– Сбежали, оба.
Я посмотрел на него.
– Я ей позвоню, уточню, как она, – вызвалась Екатерина.
– Только попробуй.
Екатерина без промедления сняла трубку и набрала номер подруги.
Та не ответила.
– Знаю я, чем она занята.
– Чем? – спросил я.
– Да я вам уже сказал. Никаются.
– Нельзя же людей бить.
– Нужно было измочалить ее в мясо.
Он снял с вешалки свою армейскую куртку, повернулся к Екатерине и сказал, что отвезет ее домой.
– Я здесь останусь, – отказалась она. – Или пешком дойду. Пока не знаю, посмотрим. А ты поезжай домой.
На это он пробормотал свое обычное «Bonne soire» и поспешно вышел.
Мы втроем сидели на диване, ошеломленные, застывшие. А когда события этого вечера улеглись у меня в голове, я принял решение никогда больше не иметь с Калажем ничего общего. Хватит, точка.
– Нашей дружбе конец, – объявил я.
– Чтоб я еще с ним хоть раз заговорила, – добавила Екатерина.
Но со своего места на диване никто из нас не двинулся. Возможно, нам хотелось притворяться, что мы ошеломлены сильнее, чем на самом деле. Возможно, мы пытались сберечь это ошеломление, потому что все неплохо понимали, к чему клонятся события вечера, но при этом ни один из нас не потрудился их подтолкнуть или вмешаться по ходу. Я погасил свет, в темноте сходил за большой бутылкой водки и налил нам всем по щедрой порции в три пластиковых стаканчика. Это наше заклятие – неважно какое – нужно было сдобрить спиртным. Я знал, что начну с Линдиного плеча. Хотелось, чтобы Екатерина поцеловала ее в другое плечо.
Утром зазвонил дверной звонок.
Леони. Увидев ее на лестничной площадке, я с трудом поверил своим глазам. Огромный синяк на скуле, красные пятна по всему лицу.
– Это еще ничего, – выговорила она, заметив, как я ошарашен. – Голову потрогай.
Она схватила меня за руку, поднесла к волосам. По всему черепу – шишки и вздутия.
– Волосы мне повыдергивал. И одежду порвал.
Она сказала, что, кроме меня, ей обратиться не к кому. Хозяйка, мама Остина, предложила сообщить в полицию. Леони ответила, что сперва должна повидаться со мной. Почему? – не понял я. Потому что все сложно – был ответ.
Она присела у меня на кухоньке, я поставил чайник.
Первым делом: ей больно? – спросил я. И как там Граф?
– Он тоже хочет заявить в полицию. Калаж сломал ему два зуба, а кроме того, Граф страшно зол на меня. Говорит, я должна была его предупредить о наших с Калажем отношениях. Я ответила, что мы уже довольно давно расстались.
– Я и не знал. Вы с ним так ворковали в Уолден-Понд.
– К тому времени все уже давно кончилось. Мы стали друзьями.
Меня это удивило.
– И что ты собираешься делать? – осведомился я, будто адвокат, который заводит досье на нового клиента. Теперь впору достать деловой блокнот, вставить между расспросами несколько кивков и закурить здоровенную пенковую трубку. – Если ты пойдешь в полицию и подашь жалобу, его депортируют, – сказал я наконец. – Депортируют и если попросишь охранный ордер.
Я совершенно не разбирался в законодательной стороне вопроса, но мне сказанное представлялось логичным.
– Знаю, – ответила она, – но чего ты от меня хочешь? Он же больной на голову. Убьет меня. Я не хочу, чтобы он ко мне приближался. Я вчера так перепугалась, что в итоге позвонила маме во Францию. Почти собралась домой, но я так люблю Остина, а Остин меня, да и в семействе меня любят.
– Пожалуй, даже слишком, – вставил я.
– Так он и это разболтал? Ну еще бы!
– Да. Его это сильно расстроило.
– Его все сильно расстраивает.
– Так что ты собираешься делать? – спросил я, кивая, в смысле: ладно, переходим к делу.
– Если мать Остина сообщит в полицию, Калаж расскажет ей, что я спала с ее мужем. Обязательно расскажет, я его знаю. Если сообщу я, он все равно ей расскажет. И если Граф пойдет в полицию, Калаж тут же все расскажет матери Остина. Будь у меня возможность организовать его депортацию прямо сейчас, так, чтобы он никому не успел позвонить, я бы на это пошла. Он – худшая ошибка всей моей жизни, а я наделала тех еще ошибок, потому и уехала в Штаты. А еще лучше – если бы он растворился где-нибудь на Ближнем Востоке, я была бы совершенно счастлива, потому что меня тогда не мучила бы совесть, что его депортировали из-за меня.
Я всей душой сочувствовал Леони. Однако, сам не зная почему, не хотел допускать, чтобы Калажа депортировали.
Лучшее, что я мог сделать, – сперва убедить ее не заявлять в полицию, а потом как-то их помирить или хотя бы свести для разговора, если захотят, то в моем присутствии. Я такое видел в кино. Все высказали свои разногласия, свои обиды.
– Чистый эрзац, – произнес я в конце концов.
Она рассмеялась. А потом, поймав себя на смехе, вдруг заплакала. Впервые плачу по этому поводу, заметила она. До сих пор сдерживалась. Ее никогда еще не били, даже руки на нее никто не поднимал. А теперь этот тип, этот бандит вздумал ее подмять под себя? Кем он себя мнит?
Главный вопрос заключался в том, чтобы убедить Графа не заявлять в полицию.
– Он мстительный. Сам видел, как он вчера препирался с Калажем. Плюс он, наверное, страдает: его же поколотили, а он даже не дал сдачи, даже меня не попытался защитить. Меня он точно больше видеть не захочет.
Первое, что я сделал после ее ухода, это позвонил Клоду. Клод уже знал, что стряслось с его приятелем – он отказывался звать его Графом, как звали накануне все мы, чтобы подразнить.
– У Пьеро в Италии есть очень влиятельные знакомые. Так что у Калажа могут быть серьезные проблемы. У тебя тоже могут быть неприятности – ты как бы спровоцировал эту драку, да и у меня, я ведь его к тебе привел.
– Плюс у Графа сломаны два зуба, – напомнил я.
– Плюс у Пьеро сломаны два зуба, – поправил он меня.
Нужно было что-то придумать.
Я попросил Клода пока ничего не предпринимать. Я сейчас к нему быстренько приеду, и вдвоем мы сообразим, как отговорить Графа от похода в полицию.
К тому моменту, когда я добрался до Клода – он жил неподалеку, – он уже успел переговорить с Графом.
– Я думал, ты меня дождешься.
– Ну, мне пришла в голову одна мысль, вот я и позвонил.
– Ты боялся, что я буду настаивать на том, чтобы поговорить с ним первым, да? А теперь все в сто раз сложнее, – укорил я Клода.
– Почему это сложнее, если Пьеро говорит, что не собирается идти в полицию?
– Граф не пойдет в полицию? – выпалил я в изумлении.
– Нет, Пьеро считает, что Калаж – несчастный marocchino[33], который и так скоро допрыгается до депортации. Кроме того, он на последнем курсе юридического и хочет полносью забыть о вчерашнем вечере. Он уже записался к знаменитому нью-йоркскому стоматологу, сегодня днем туда полетит, в воскресенье его примут. Потом он вернется, но не хочет иметь ничего общего с твоими друзьями и с моими друзьями – к ним, понятное дело, относитесь ты и эта бедолажка.
– Графу вставят новые зубы, она будет и дальше работать нянькой. Граф был прав: женщинам редко дается второй шанс, – высказался я, пытаясь подчеркнуть ироническую сторону случившегося.
– Твоя-то проблема в том, что ты упустил человека, который мог бы стать ценным другом.
Клоду приспичило занять почетное место в обществе? Никогда раньше не видел в нем таких стремлений.
Я так воодушевился, узнав, что Граф решил не ходить в полицию, что немедленно позвонил Леони и поделился с ней новостью. Она не слишком обрадовалась тому, что Граф слился, но явно почувствовала облегчение. Все вернется в ту точку, где было до Калажа. До меня дошло: похоже, такова его участь. Неважно, сколько времени ты с ним знаком, как сильно он взбаламутил мир тех, кто его окружает, – настает момент, когда он выскальзывает из твоей жизни, и все в ней возвращается на круги своя. Несмотря на его старания перекроить мир по собственному подобию, он проходит незаметно, ничего не меняет, не оставляет следа. По сути, он уже вышел из истории и рода человеческого, задолго до того как это стало ясно ему или кому-то из нас. Он напоминал мне мифологическое животное, извергнутое из недр земли по некоей малоумной прихоти, – оно наносит земным жителям непоправимый вред, опустошает их край, а потом без всякого объяснения земля его глотает вновь. Мертвые позабыты, раны залечены, история катится дальше. Ни следа.
В итоге я все-таки организовал встречу Калажа и Леони. Может быть, и не стоило, потому что из обоих вырвалось по демону, о существовании которых они вряд ли подозревали. Когда через несколько дней они встретились уже на людях, все вроде шло очень хорошо. Калаж снова взял Остина под свое крыло и обращался с мальчиком добрее всякого отца. Однако руки они себе развязали, и однажды вечером он явился в кафе «Алжир» с напрочь исцарапанной шеей. А потом закатал рукава, и я увидел, что правое предплечье у него все в синяках.
– Это еще что такое? – осведомился я.
Он ответил одной лишь улыбкой.
– Вы что, теперь колотите друг дружку? – спросил я, пытаясь сохранять небрежный тон. Не стал бы спрашивать, если бы хоть подозревал истину.
Он не ответил. Потом, через несколько секунд, едва ли не невпопад обронил:
– Случается.
– Случается?
– Нам нравится.
– Чего?
– Кому-то нужны наркотики. Другим – алкоголь. А ей нравится меня шлепать.
– А тебе, что ли, нравится, когда она тебя шлепает?
Я не верил собственным ушам.
Он призадумался, как будто этот вопрос просто не приходил ему в голову. Это каким надо быть идиотом, чтобы задавать подобный вопрос берберу?
– Я не против, – произнес он.
– Вы оба больные.
– Точно.
До какой степени саморазрушения он докатился?
Долго оно так продолжаться не могло. Леони порвала с ним однажды вечером прямо в кафе «Алжир». Влетела через заднюю дверь, подошла к нашему столику, выпалила: «coute, c’est fini»[34], выдала ему полиэтиленовый мешок, куда были сложены какие-то его вещи, и вышла.
– Все со мной так, – произнес он. – Либо захлопывают дверь перед носом, либо приносят останки. Как будто мне только и нужно, что останки и исподнее.
И он со всей силой своего остервенения метнул мешок в сторону кухни. Из кухни вышел хозяин кафе, подошел к нашему столику и сказал:
– Если так и дальше пойдет, не будете вы сюда больше приходить.
– Что я тебе говорил? – Калаж повернулся ко мне, даже не взглянув на хозяина. – В итоге все захлопывают дверь.
Меня эта сцена страшно расстроила, потому что я не только вспомнил о том, сколько раз давал себе слово захлопнуть перед ним дверь и не иметь с ним больше ничего общего, но и о том, как Гарвард едва не хлопнул дверью в лицо мне самому.
6
Я стал избегать Калажа. Возможно, меня от него отдалили мои преподавательские обязанности – семестр был в самом разгаре. Возможно, я по своим ощущениям принадлежал Гарварду сильнее, чем сам себе давал это понять. На заседании комиссии по выставлению оценок по истории и литературе я сделал одно предложение, связанное с качеством дипломных работ. Кто-то высказал возражение, я обосновал свою точку зрения, провели голосование, мое предложение приняли. Я был одновременно отмечен и отмщен. Хватило этого леса единодушно поднятых рук, и я внезапно ощутил прилив любви к Гарварду, к возможности жить плечом к плечу с сообществом американцев.
Кроме того, в жизнь мою вроде как вступала новая женщина, Эллисон, хотя я пока плохо понимал, к чему все клонится. Мне не хотелось, чтобы Калаж видел нас вместе, как не хотелось показывать ему, каким я стал, как я себя вел и даже говорил, когда был с ней рядом. Он бы наверняка заклеймил меня за выпендреж и позерство – решил бы, что мне приспичило занять почетное место в обществе, как оно в моих глазах приспичило Клоду, – возможно, так оно и было. Комизм ситуации заключался в том, что среди завсегдатаев кафе «Алжир» я так же позерски выпячивал свою средиземноморскую сущность, как и среди белых англосаксов в Лоуэлл-Хаусе.
Тревожила меня и еще одна вещь, которая сделалась только отчетливее в присутствии Эллисон. Я не только не хотел, чтобы Калаж видел меня с ней; не хотел я и чтобы она видела меня с ним. Она была откровенной, открытой, прямолинейной и свободомыслящей во многих неочевидных смыслах, она готова была пробовать многое из того, что не принадлежало к миру, в котором она выросла. При этом в ней не было ни капли снобизма, хотя про нее и можно было такое подумать, хотя бы даже потому, что она вращалась в кругах, где утонченным было все и не было нужды задумываться о цене, пусть даже порой и случалось притворяться, что вы задумались. Она знала, какие вещи ей нравятся и к каким она привыкла, и, как правило, была не в курсе существования их более простых и дешевых аналогов, которые приобретали все остальные. Семейство ее всегда путешествовало первым классом – ей даже в голову не приходило, что можно согласиться и на экономический. Она в жизни не видела задней части салона самолета и не задумывалась, что можно сидеть в тесноте – там, где летают все остальные. При этом она была неизменно тактична. В жизни не заказывала больше двух напитков, чтобы не запьянеть; я же не заказывал больше двух напитков, потому что тогда у меня не осталось бы денег поужинать. Ей и в голову бы не пришло, что, если бы мне пришлось три дня подряд покупать по четыре порции спиртного нам обоим, я бы разорился вчистую. При этом она была на удивление рассудительна, и, один раз услышав об остальном человечестве и его скудном бюджете, она тут же внесла в свой подход необходимые коррективы с той беспроигрышной легкостью, с какой богатый человек одевается попроще, когда едет на окраину навестить бедных родственников. Помимо прочего, она видела людей насквозь и могла с одного взгляда отличить беспечного бездельника вроде меня от закоренелого бродяги вроде Калажа.
Ко мне в квартиру на Конкорд-авеню Эллисон явилась сразу после полудня в Йом Кипур. Ненамеренно, понятно, да и меня этим не то чтобы как-то побеспокоила, потому что никакого Кипура я не соблюдал отродясь. Просто и в этом нашло свое отражение то, какая пропасть разделяла наши миры. Когда она позвонила в домофон сразу после полудня, я мигом пригласил ее подняться; разобрал, что голос женский, а чей именно – не признал. Когда она вошла в своем оранжевом платье, я страшно удивился. На мне были шорты, футболка – я только что вернулся с пробежки. Весь вспотел. Выглядел, видимо, страх как неопрятно. Попросил ее присесть, пожалуйста, на диван, почитать какую-нибудь книгу, а я буквально за секундочку приму душ и переоденусь.
Ее это ни капельки не смутило. Видимо, в ее представлениях она вовсе не пришла ко мне домой – она заглянула к тьютору из Лоуэлл-Хауса в его берлогу за пределами кампуса Отсюда эта раскованная заходи-ко-мне-в-любой-момент-как-надумаешь неофициозность ее визита и легкость, с которой она ко всему приноровилась.
– Вот что: вы умеете варить эспрессо? – спросил я из глубин своего смущения и смятения.
Эспрессо она любила, а вот варить не умела.
– Пять минут, – сказал я. – Сооружу нам два потрясающих латте.
Я пытался сделать так, чтобы ситуация не возбудила меня недолжным образом.
Она, видимо, внимательно оглядела мой книжный шкаф: я еще и воду не успел пустить, а она уже крикнула – ну ничего себе, у меня есть полное первое издание «A la recherche du temps perdu»[35]. А она его читала? – крикнул я в ответ из-за закрытой двери, порешив, что, если ее не смущает необходимость перекрикиваться с едва знакомым человеком, пока он принимает душ, так уж не мне жаловаться.
– Да, – ответила она.
– Полностью?
– Да.
Потом – молчание. Может, она разденется и войдет ко мне в душ? Мысль эта отозвалась внезапной дрожью, которую трудно было укротить, – да часть души и не хотела ее стреноживать. Может, выйти из душа голышом? Или окажется, что она уже устроилась в постели, лежит голая у меня под одеялом, разбросав одежду по полу на пути к спальне – в качестве преамбулы к тому, что меня ждет дальше? Мне страшно было еще что-то сказать или крикнуть – чего доброго, голос выдаст мое возбуждение. Знал я одно: согласно правилам Калажа, если я возбудился до такой степени, то и она тоже.
Когда я вышел из душа в халате, она лежала на животе на полу в гостиной и пролистывала мой дневник.
– Что это вы такое делаете? – осведомился я.
– Читаю, – прозвучал ответ, как будто не было в мире ничего естественнее.
– Где вы его нашли?
– В спальне у вас на столе.
Я онемел. Значит, она зашла в спальню, увидела мою совершенно неприбранную кровать, порылась в моих вещах, нашла дневник – и что еще?
– А вы правда, на самом деле против?
Я подумал.
– Нет, на самом-самом деле я не против, – сознался я. – На самом деле оно даже пробирает.
– Пробирает? И как – на самом деле? – повторила она за мной.
Я понятия не имел, к чему клонится разговор – то ли она полная инженю, то ли прекрасно понимает, что творит, – и для этого, собственно, сюда и явилась.
«Они всегда понимают». Я так и слышал голос Калажа.
– Пойду оденусь и сварю кофе.
– Пожалуй, и так тоже можно.
В жизни своей не стал бы произносить: «Пожалуй, и так тоже можно», – если бы хотел сказать «да». Понять бы еще, что означают или подразумевают эти слова в ее мире.
Понятное дело, фильтром от эспрессо я стукнул о мусорный бак как можно громче, дверь, пока кипятилось молоко, оставил открытой, а потом затворил снова.
Эллисон вообще-то пришла поговорить со мной о своей дипломной работе по Прусту – я же сам ей предложил ко мне обратиться. У нее другой тьютор, из Адамс-Хауса, сказала она, но очень уж ее заинтриговал наш короткий разговор под дверями моего кабинета. Кроме того, кто-то упомянул при ней мое имя. Знать бы ей раньше, а то теперь менять тьютора уже поздно, посетовала она. Надо сказать, пока мы стояли вдвоем на кухне и ждали, когда заварится кофе, по ее виду не чувствовалось, что ей хочется говорить о Прусте. Дневник мой она принесла на кухню и продолжала его просматривать, пока мы стояли в молчании возле газовой плиты. Для человека, который читает чужой дневник, не спросив на это разрешения, она выглядела чрезвычайно невозмутимой. А что такое «эрзац»? – поинтересовалась она. Я объяснил. А кто такой К.? Я рассказал, не вдаваясь в неприглядные подробности. А что там с Уолден-Понд? Это вообще пропустите, предложил я. «Тогда расскажите про В. Вы про нее писали меньше трех недель назад».
Тут ставки повышались не по пенни. Она выкладывала на стол увесистые фишки из Монте-Карло.
– Вам правда интересно про В.?
– Ну я же спросила.
– А зачем вам это знать?
Она призадумалась.
– Наверное, пытаюсь вас раскусить.
Она меня восхищала. Мне всегда нравилась в женщинах обезоруживающая откровенность. Или такими словами просто сообщают человеку, с которым только что познакомились: никаких подтекстов, обертонов – вообще никаких ставок?
– Да, но почему? – не отступался я.
То ли я увиливал, то ли настал мой черед сделать ставку повыше привычной, и хотелось мне, собственно, одного: уверенности, что высокие ставки как раз к месту.
– Вы знаете почему, – ответила она. – Прекрасно знаете почему. – И тут же, сменив тему, добавила: – Я хочу, чтобы вы мне прочитали вот этот абзац – чтобы услышать вашим голосом.
– Моим голосом?
– Читайте.
В абзаце говорилось, как однажды в середине дня мы с Нилуфар долго смотрели друг на друга в кафе «Алжир» и без всяких слов, без предупреждения она вдруг заплакала, а я потянулся и взял ее за руку, а потом – одно цеплялось за другое – я и сам не удержался от слез.
У меня перехватило дыхание. Возбуждение зашкаливало. Я понимал, что продолжать так не могу, но и сдаваться не хотел.
Не даст она мне так вот просто сорваться с крючка.
– Ладно, а теперь прочитайте стихотворение.
– Какое стихотворение? – удивился я: не мог припомнить, чтобы записывал в дневник стихи. Мозг постепенно превращал все вокруг в зияющую пустоту. Думать я мог лишь об одном и с трудом удерживался, чтобы до нее не дотронуться.
– Вот это стихотворение, – она указала на запись двухмесячной давности.
Я понял, о чем речь. Чтобы ей потрафить, не смутив, я начал с выражением декламировать:
- Комод.
- Проигрыватель.
- Телевизор.
- Голая гладильная доска.
- Торшер слева.
- Тумбочка справа.
- Маленький ночник прицеплен к спинке кровати.
- Ночью спит голышом.
А потом, ощутив, что голос срывается, и поняв, что выглядеть в ее глазах негодяем мне не хочется, я сдался и заявил:
– Мне на этом сейчас не сосредоточиться.
Она выждала секунду и откликнулась:
– Если честно, мне тоже.
И поскольку она была сильно меня моложе, а сам я пока еще не разобрался, уместно ли это, я пододвинулся к ней поближе и спросил, можно ли ее поцеловать.
Сильнее всего в тот полдень и во все последующие полуденные часы меня тревожило, что Калаж заявится без предупреждения, как это бывало раньше. Эллисон выглядела человеком без предрассудков, но, если дюжий Че Гевара в псевдопартизанском камуфляже распахнет дверь и ввалится в мою квартиру, пока мы занимаемся любовью на персидском ковре, она наверняка разнервничается. Их встреча представлялась мне чем-то глубоко неправильным. Она понимала слова «нелегальный иммигрант», понимала слова «бедный» и «совсем бедный». А вот чего она не понимала и, если не считать очень поверхностного знакомства с гарвардским наркомиром, никогда на себе не испытывала – это гнусь. В Калаже все было исковеркано, и сильнее всего я боялся, что, узнав его как моего друга, она придет к выводу, что у нас с ним больше общего, чем ей представляется.
Эллисон любила заходить ко мне после занятий. Мы вместе пили латте, иногда готовили ужин. Иногда читали или занимались в разных углах моей гостиной. Иногда вместе слушали музыку. Случалось, что я сам удивлялся, какой внушительный объем страниц способен одолеть в ее присутствии. В десять вечера – для меня совсем рано, для нее нет – мы ложились в постель. В университете старательно скрывали, что знакомство у нас более чем поверхностное. Это было скорее мое решение, чем ее. Ей скрывать было нечего, я же, со своей стороны, не хотел, чтобы факультетское руководство обсуждало мои дружеские отношения со студенткой, чей диплом, по всей видимости, окажется у меня на столе и за чьим именем крылось больше денег и, соответственно, «пользы», чем за дюжиной рядовых Розочек. Она не навязывалась, однако принесла кое-какую одежду и сложила, причем очень аккуратно, в шкаф. Принесла халат, а поскольку мой выглядел обносками, решила купить мне «мужской» вариант того же халата. Полосатый фланелевый халат немецкого производства стоил, как я выяснил, больше, чем я в месяц платил за квартиру. Я позвонил Калажу и попросил ко мне пока не заходить.
– Почему? – поинтересовался он. – Что ли, la quarante-deux решила к тебе переехать?
– Нет, – ответил я. – Другой человек.
– А мне казалось, что между тобой, Екатериной и la quarante-deux возникла дружба. – Я попросил не напоминать мне о том вечере. – А чего?
– Да того, что две женщины друг дружкой заинтересовались больше, чем мной.
Я хотел рассказать про Эллисон и почему она совсем другая, но единственное слово, которое мне пришло в голову, выговорить было нельзя, потому что его он ненавидел сильнее других: она респектабельная. Все в ней респектабельное.
Дошло до того, что однажды в середине дня ближе к концу осени она пригласила меня на встречу со своими родителями за чаем в «Риц-Карлтоне», и единственное, о чем я мог думать, когда мы поставили ее машину и пошли к гостинице: «Господи, сделай так, чтобы Калаж не проезжал сейчас мимо, не дай ему остановиться и заговорить с нами, не дай ему вообще оказаться поблизости, потому что ведь с него станется выскочить из-под земли, как раз когда я в “Риц-Карлтоне” и пытаюсь выглядеть прилично». Я его стыдился. Стыдился себя за то, что стыжусь его. Стыдился своего снобизма. Стыдился показать другим, что общее в нас имеет корни куда более глубокие, чем эта поверхностная вещь, называемая пустотой в карманах. Стыдился, что не позволяю себе признать, как сильно он мне небезразличен, мне проще думать, что единственным связующим звеном между нами остается наш статус неприкаянных нищебродов, склонных заводить дружбы в низкопробных кафе.
Чай в «Риц-Карлтоне» прошел без сучка без задоринки. Отец Эллисон попытался впечатлить меня знанием «Одиссеи»; я поведал ему, что учился с Фицджеральдом; он заговорил о годах, проведенных на Ближнем Востоке; я подкинул ему правильные названия. Он перечислил свои любимые места в Париже; я откликнулся своими. Вышла ничья, но она нас сблизила.
В тот вечер мы ужинали в «Мэзон Робер» – шикарном французском ресторане, который внезапно воскресил для меня мир, где я не бывал уже лет десять. Официанты, вина, блеск, изысканность. Чем нынче можно заняться, защитив диссертацию? – поинтересовался он. Ну, всегда можно писать или преподавать, ответил я. Потом, почувствовав, что не убедил, я добавил, что отец мой смог стать в Египте преуспевающим бизнесменом, хотя хотел всегда одного: сочинять книги. А готов ли я, если что, к смене профессии – и, например, к иной карьере? – поинтересовался он, глядя в стол, поигрывая кончиком ножа на скатерти. Безусловно, ответил я, пытаясь вложить в это слово одновременно и убежденность, и небрежность, и безусловную открытость любым предложениям.
Задаст ли он мне вопрос по поводу своей дочери? Для этого он оказался слишком деликатен. Я тоже не стал поднимать эту тему, однако проницательный читатель «Одиссеи», видимо, и так все понял. Впрочем, так вот запросто меня отпускать он тоже не собирался. Интересовался исподволь: моими планами, будущим, моими хобби, стараясь по мере сил увиливать от шкодливого, пусть и прирученного слова «намерения», которое скакало под столом, точно собачка на привязи, потерявшая кость. Я не стал приходить ему на помощь. Потом принесли крупного леща в каком-то белом маслянистом соусе, к нему – «Монтраше», после этого шатобрианы в соусе, картофель-соте и зеленую стручковую фасоль, а к ним вкуснейший «Помероль», а в самом-самом конце – тарт-татены – каждый с шариком свежих сливок. Завершился ужин кальвадосом.
Громогласный совет, который Калаж повторял каждый раз, когда я в последние несколько дней с ним про нее заговаривал, отдавался у меня в голове. Женись на ней. Стань богатым. Купи мне эскадрон таксомоторов. Я тебя сделаю миллионером. А потом, если детей не заведете и она тебе надоест, можешь ее бросить.
По ходу ужина, пока официанты ходили вокруг нас на цыпочках, я все время воображал себе, что один из них – Калаж, он мне подмигивает, шепчет: «Давай, нечего рассусоливать. Эскадрон такси. Подсчетами потом займемся». Как же мне сейчас хотелось его сейчас увидеть, перехватить заговорщицкую ухмылку, с которой он смотрит на тарт-татен для зажравшихся – его нам принесли прямо из пекарни, а сразу вслед за ним – кальвадос. «Ты им понравился, в противном случае интервью завершилось бы за чаем в “Риц-Карлтоне”».
Отец, мать и дочь проводили меня в такси, которое должно было отвезти меня в Кембридж. «Когда я был в вашем возрасте, отец мне и пенни бы не дал на автобус, не говоря уж про такси», – поведал он, передавая мне двадцать долларов в тот момент, когда пожимал руку.
Меня это застало врасплох, но я честно отказался от отцовских денег. Он стал настаивать. В итоге я сдался. Вспомнил, как одна богатая студентка без возражений приняла от меня схожее предложение, когда оказалась без денег у окошка билетной кассы Театра на Гарвардской площади. Бедняки отказываются, потому что у них чувство собственного достоинства и так изодрано в лохмотья – так какой-нибудь «шестерка» ни за что не берет чаевые: слишком громко они кричат о его нищете. Богатые люди принимают деньги, потому что не видят в этом ни великодушия, ни благотворительности, ни отражения жизненного статуса – видят лишь одолжение, сделанное из дружеских чувств. Бедняк постарается вернуть деньги при первой возможности. Богач попросту позабудет.
Я согласился в надежде, что он примет меня за второго.
Однако, поскольку вторым я не был, такси я остановил через две минуты, вышел и поехал в Кембридж на метро.