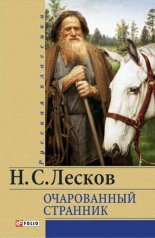Гарвардская площадь Асиман Андре
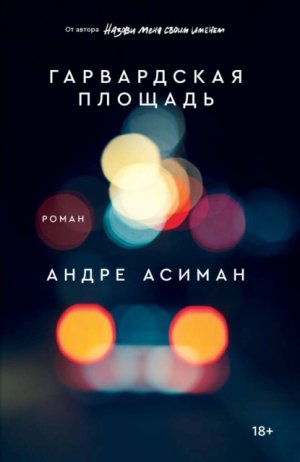
В тот вечер в кафе «Алжир» я не стал рассказывать Калажу о своем поступке.
– Я бы на твоем месте взял деньги, вышел из такси и вернулся на поезде.
Я посмотрел на него и ухмыльнулся.
– Ты так и поступил, верно? Именно так ты и поступил – и не хотел мне про это говорить!
Вряд ли я еще когда покупал две рюмки коньяка ХО в «Максиме» с тем же упоением, с каким купил их в тот вечер себе и Калажу.
Образ Калажа в образе ухмыляющегося официанта и меня самого в образе плутократа как появился, так и рассеялся. Бедность меня изменила. Мне было стыдно за эту двадцатку. Я попытался прикрыть свой поступок всевозможными оправданиями, попытался вытряхнуть эту историю из головы с помощью деланого безразличия, но правду было не скрыть. Я надул человека, который угостил меня ужином, при том что я спал с его дочерью.
В ту ночь я дорого заплатил за ужин и выпитое. Боль, мучившая меня несколькими неделями раньше, вернулась – тянуло в области почек, с переходом на всю правую часть грудной клетки. Один из врачей предупредил, чтобы я некоторое время избегал жирной пищи – на случай, если подтвердятся его худшие подозрения. Ну постным это наше пиршество никак нельзя было назвать. Неделю назад у меня взяли анализы, но узнать результаты я не удосужился, поскольку приступ не повторился. Я крутился в постели, думая про свою девушку, которая, возможно, гадала, почему я не попросил ее отвезти меня назад в Кембридж, тем более что было понятно: родителям ее я понравился, они знают, что мы спим вместе. Я же, в свою очередь, только и ждал, когда можно будет сбежать от всех троих – точно Золушка, наряд которой того и гляди превратится в капусту и брюкву, если она вовремя не даст деру в свою лачужку.
Помучившись с час, я решил, что пора отправляться в медпункт. Самое комичное заключалось в том, что денег на такси у меня не осталось, а боль была слишком сильна, чтобы идти на Площадь пешком. Я позвонил Калажу, но он в очередной раз не ответил. У Линды машины не было, поэтому будить ее было бессмысленно. Позвонить Эллисон я не рискнул. Интимность в постели – одно, интимность в деньгах и боли – совсем другое. В жизни не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. Фрэнк и Клод – исключено. И вот в полном отчаянии я решил постучать в заднюю дверь Квартиры 43. Они долго копались, но в итоге парень открыл дверь – на нем были лишь длинные голубые трусы. Я его явно разбудил.
– Простите, я знаю, что уже совсем поздно, но у меня сильные боли. Может, кто-то из вас довезет меня до медпункта на Площади?
Я умолял о помощи – в жизни своей я еще не падал так низко. Если подумать, можно же было вызвать скорую. Но теперь уже поздно.
– Сейчас, секунду, – сказал он.
Я услышал, как он что-то шепчет своей подруге, объясняет, произносит мое имя. Выходит, они знают меня по имени. Даже согнувшись пополам от боли, я задумался, нравится ли ей мое имя, шепчет ли она его, оставшись одна.
В машине пахло их собакой. «Надеюсь, ничего страшного», – произнес он: настоял на том, чтобы высадить меня у входа для тяжелобольных, помочь выйти из машины – сунул мне руку под мышку и доволок до двери.
Приняли меня та же старшая медсестра и тот же врач, что и в прошлый раз. Стоило мне растянуться на носилках, как боль стала утихать. Может, психосоматика? Почти всем становится лучше, как только они сюда зайдут, заметила симпатичная старшая медсестра со своим британским акцентом. Она присела и заговорила со мной – других пациентов в ту ночь не было, – спросила, откуда я родом… мне показалось, всё это ненавязчивая болтовня, чтобы я расслабился. На откуда родом я обычно отвечал: из Франции. Если начинали допытываться, мог добавить: из Парижа. В случае если собеседник хорошо знал французский и был в состоянии опознать мой акцент, я тут же менял тактику и говорил, что на самом деле я из Италии – этого хватало, чтобы сбить со следа и предотвратить дальнейшие расспросы о моем происхождении. Но на сей раз я вдруг решил открыться без всяких экивоков и обратился к самому истоку: из Египта, произнес я.
– Ну надо же! – воскликнула она. Она получила сестринское образование как раз в Египте, во время Второй мировой.
Я спросил, где именно.
– В Александрии.
– А я там родился!
– И вот вам еще совпадение: во время той же войны мама моя обучалась на медсестру добровольческого корпуса именно в английском госпитале.
Я сказал, что скучаю по маме. Мне вдруг захотелось заплакать. Что со мной происходит? Это опасно для жизни? Откуда эта боль? Лежа на носилках, я вспомнил слова Калажа: «Что со мной теперь будет?» Что со мной теперь будет? Я почувствовал, как по обеим щекам побежали слезы.
Медсестра без единого слова потянулась за салфеткой и утерла сперва одну сторону моего лица, потом другую.
Между нами возникло нечто столь непререкаемо искреннее и проникновенное, что я с удовольствием провел бы тут весь остаток ночи, и пусть бы она сидела рядом в тускло освещенной палате приемного покоя. «Нужно, наверное, дать вам отдохнуть», – сказала она. Но с места не двинулась. Возможно, имела в виду, что мне лучше не разговаривать.
К рассвету решено было перевести меня на верхний этаж. Они успели посмотреть результаты моих анализов. Со мной должен был поговорить старший хирург. Он ранняя пташка, так что особенно уютно не устраивайтесь, предупредила моя новая сестричка.
Врач постучал в дверь около семи утра, в руке у него был конверт, из него торчали рентгеновские снимки. Он подсунул их под стекло плавным просчитанным движением человека, который это проделывает по тридцать раз в день, бретерским щелчком выключателя включил подсветку и, немного поразмыслив над сероватыми завитками, именовавшимися моими внутренностями, сказал, что у меня камни в желчном пузыре. Самый еврейский орган, пошутил я. Рослый англосаксонский джентльмен бросил на меня озадаченный взгляд – видимо, то, что я пытаюсь его повеселить, позабавило его сильнее самой шутки.
– Мне казалось, евреев куда больше занимает другая часть мужской анатомии.
Он явно не лишен чувства юмора.
Он сел на мою кровать, закинул ногу на ногу, покачал верхней вверх-вниз – туфля-лофер держалась на самом кончике, полностью был виден добротный черный носок.
– У вас в семье у кого-то были желчные камни?
– У всех.
– С обеих сторон?
– У обоих дедушек и обеих бабушек.
Что я вчера ел на ужин?
Я ответил: «Мэзон Робер», как будто это подходило в качестве объяснения.
Повисло длительное молчание.
– Я правильно подозреваю, что будет дальше? – осведомился я наконец.
Он покусал нижнюю губу и спросил:
– Вы что имеете в виду?
– Резать придется? – осведомился я.
Он оценил мою шутку.
– Ну, мы не употребляем слова «резать». В словаре множество куда менее пугающих слов, но если говорить коротко, то, скорее всего, да.
Срочности в операции не было. Но мне предписывалось соблюдать диету. Избегать жиров, спиртного, кофе. А пока они возьмут еще несколько анализов, а мне нужно лежать в постели и поглощать безвкусную пищу, которую здесь дают бесплатно.
– Можно задать один вопрос? – прервал я наконец молчание.
– Больно не будет, – ответил он. Похоже, все задавали один и тот же вопрос.
– Я не о том хотел спросить.
– Ну?
– Сколько мне после операции нельзя будет заниматься сексом?
Он улыбнулся.
– Вы после операции будете довольно квелым. – Чтобы стало понятнее, он уронил голову на грудь.
Я никому не позвонил. Хотелось побыть одному. Стыдно было за эту стариковскую болячку. Хуже, пожалуй, только лихорадка или подагра. Около двух часов дня в дверь робко постучали. Эллисон. Как, господи, она меня разыскала? У меня телефон не отвечал. Она звонила все утро. Чем мучиться мыслью, что я не хочу ее видеть или провел ночь с кем-то еще, она сразу вообразила себе худшее и позвонила в больницу. Какая невероятная вера в себя, в людей, в силу истины и искренности. Я бы на ее месте прежде всего подумал, что я исчез – или того хлеще: сбежал с двадцаткой ее папаши. Вот бы все люди были такими, как она, думали бы так же – с Земли исчезла бы вся неприятная рябь.
Она села возле кровати, мы поговорили. Она держала мою руку. Кстати, у нее неприятные новости. Какие? Хламидия.
– Не от… – начал было я.
– Нет, от меня, – уточнила она.
– Выходит, теперь и у меня тоже?
Да.
Хорошая новость заключалась в том, что ее родителям я понравился. Показался забавным. Им понравилось, как я сетую, что в «Мэзон Робер» нет ножей для рыбы. С них станется такое подметить.
Ближе к полудню в палату забрела парочка студентов, потом несколько преподавателей, коллег. Заскочил меня поприветствовать профессор Ллойд-Гревиль. Он, знамо, тоже обо всем прослышал. Потом – все мои подопечные со второго курса. В палату набилось человек шестнадцать, пришли больничные сотрудники, сказали, что слишком шумно и курить никому нельзя.
– Я же курю, – возразил я.
– Ну вам можно, а больше никому нельзя. Да и вам, кстати, не следует.
Явилась миссис Ллойд-Гревиль с горшочком вербены из своего сада и коробкой шоколадных конфет. «Не для вас, понятное дело, а для ваших гостей». Коробка была двуслойная, между слоями лежал лист прозрачного пергамента с указанием изысканных ингредиентов столь же изысканного ассортимента. Коробка пошла гулять по набитой комнате – и тут наконец произошло непредставимое. Вошел Калаж с тремя порножурналами. Мне захотелось нырнуть под одеяло. В половине девятого – время для посещения давно закончилось – раздался громкий женский голос. Пришла Зейнаб, до которой новость долетела по сарафанному радио на Гарвардской площади. Через несколько минут – Абдул-Маджиб, старый иракец, посудомойщик с кухни Лоуэлл-Хауса, – тоже, мол, решил ко мне наведаться. Я его не видел с весеннего семестра.
И вот я лежу в постели, беспомощный и обездвиженный, посреди вселенной, где столь хитроумно возведенные мною внутренние перегородки обрушились начисто.
Калаж и Эллисон, мои студенты, заведующий кафедрой, Чербакофф, вошедший на мягких кошачьих лапах, Зейнаб-официантка, мои коллеги – все, карьеристы и подонки, сошлись вместе, точно в фильме Феллини или на пикнике на Кейп-Код.
Я знал, что, за исключением тех из присутствовавших, кому, чтобы оказаться в Америке, пришлось перекроить свои жизни и переиначить свою сущность, очень немногие смогут понять, что человек не является чем-то одним, неизменным, что, подобно луне, каждый из нас так же многолик, как и все окружающие нас люди. Расстроится ли Эллисон, узнав, что человек, которым я становлюсь рядом с Зейнаб, не может быть тем же, кем я становлюсь рядом с ней, и что именно в этом и заключается мое невысказанное стремление не сводить ее с Калажем – потому что ему я показал куда больше этих ликов, чем те один-два, которыми мне было не зазорно поделиться с ней?
Я видел, что Эллисон чувствует себя не в своей тарелке. Она сидела на стуле в углу, молчаливая, отрешенная, и дожидалась, когда все уйдут: не понимала, кем ей следует предстать, моей студенткой или подружкой. Калаж, который, похоже, явился в убеждении, что застанет меня одного, прислонился к одной из стенок в своей камуфляжной куртке, в берете, с разбойничьей ухмылкой и тремя порножурналами, свернутыми в трубочку и похожими на пало-дель-льювию, подобранную по ходу партизанской вылазки в амазонские джунгли. Не зная правды, можно было подумать, что перед вами иностранец, получивший стипендию в какой-то стране третьего мира, который по ночам подрабатывает в столовке для бедных.
Он уже поставил одного из моих студентов на место, заявив, что терпеть не может маркиза де Сада. Другому поведал, что все американские писатели – этакие рок-н-ролльные фигляры, включая и тех, которых он не читал и читать не собирается, а закруглил он свою припозднившуюся sotto voce перестрелку с глушителем, напомнив всем присутствовавшим, в том числе и медсестре, которая пришла забрать у меня пепельницу, что больницы, равно как и суды, – включая сюда врачей и адвокатов – учреждены на этой планете ради того, чтобы выколачивать людям душу, пока она не станет плоской, как туалетная бумага, – а что касается души, дамы и господа, то каждому из нас выдается всего одна штука, и после использования ее полагается вернуть обратно, нетронутой и неповрежденной, дабы мог воспользоваться следующий. Как говорит Нострадамус, – и из него посыпались катрены.
В течение пяти минут после первого мига, когда ему удалось заинтриговать и очаровать всех присутствовавших, он всех дружно отпугнул. «Кто был этот псих?» – спросили у меня много недель спустя.
Все то, чего я опасался с самого начала занятий, начало обращаться в реальность. Из случайного спутника, подобранного в оазисе по ходу одиноких летних кембриджских дней, Калаж превратился в балласт, который не выбросишь за борт. Когда меня выписали из больницы, оказалось, что, куда бы я в Кембридже ни пошел, всюду на него натыкаюсь. Невозможно было с кем-то присесть в общественном месте, он тут же присоединялся или – так оно случалось гораздо чаще – приглашал присоединиться к нему за его столиком, а главное (что было даже хуже), приходилось постоянно измышлять предлоги, почему я прямо сейчас не могу с ним поговорить. В итоге меня вымотали этот постоянный страх встречи и постоянная необходимость изобретать предлоги. Я был по уши набит дежурными предлогами и шитым белыми нитками враньем – так у людей с насморком карманы набиты платками. Я презирал себя и за неспособность его шугануть, и за то, что постоянно об этом переживаю.
Я стал обходить стороной те бары и кофейни, где мог с ним столкнуться. Однажды я сидел с двумя коллегами в «Харвесте», а Калаж пил у барной стойки свой вечный un dollar vingt-deux. Никогда не забуду его глаз. Он, разумеется, меня увидел, как вот я увидел его, но он намеренно придал своим глазам остекленевшее выражение, как будто его отвлекали тревожные далекие мысли: масонство, его таксомотор, перспективы жизни в США, отец, грин-карта, жена. Через пять минут я услышал его взрывной гулкий истерический смех в ответ на шутку бармена. Он посылал мне сообщение. Такое не пропустишь. «Нужен ты мне. Видишь, без тебя даже лучше». В смехе звенела психопатическая нота, напомнившая мне о нашей первой встрече. «Ты стараешься подделываться под этих своих дружков, – будто бы говорил он мне, – а я-то знаю, что ты заныкаешь чаевые, когда все отвернутся».
Никогда не забуду этого его лишенного выражения взгляда. Он не прикидывался, что не видит меня. Он прикидывался, что не видит, что я прикидываюсь, что не вижу его. Снимал меня с собственного крючка.
Через несколько дней он подкараулил меня возле Бойлстон-Холла. Просит о двух одолжениях. «Пройдусь с тобой», – объяснил он.
Его квартирная хозяйка затеяла ремонт, теперь один бог ведает, когда он сможет вернуться в свою комнату. Иными словами, она честно его предупреждает.
Звучало не слишком убедительно. Он случайно не набедокурил, не водил к себе женщин? – спросил я. «Чтоб я марал свои простыни, когда могу пачкать простыни женщин? Да ни за что».
Он хотел, чтобы я прошелся с ним и помог найти другой пансион. Мы раз за разом стучали в двери и добрались уже почти до самой Портер-сквер, но чопорные старушки на улицах Эверетт, Мелен, Уэнделл, Гарфилд, Сакраменто и Гарфилд бросали на него один пристальный взгляд и объявляли, что все занято. «Нельзя у тебя пожить пару дней?» – спросил он меня наконец. Мне такое не приходило в голову, он застал меня врасплох. Я удивился собственному ответу. Разумеется, можно, сказал я. Ему только и нужно, что диван для сна, скоренько принять душ утром – и я его не увижу до ночи. Может, он устроится ночевать у своей нынешней подружки, хотя пока ему не хотелось бы форсировать события. «Обещаю, что на голову тебе не сяду».
Я показал себя этаким добрым малым, выручил приятеля, открыл свои двери человеку, который в противном случае оказался бы на улице. Но, пока я пояснял ему, чтобы он чувствовал себя как дома в любое время, кроме второй половины дня и раннего вечера (Эллисон), мы прошли мимо «Сирса-Робака», и мне в голову немедленно пришла мысль, что пора бы через несколько недель задуматься о том, чтобы вставить замок в двери.
На середине пути обратно с Портер-сквер он купил мне горячий бутерброд с тунцом в греческой забегаловке. Пока мы ели, он поделился следующей новостью: из-за мелкого нарушения у него на месяц отобрали водительские права. У меня столько связей, начал он (типичная его фраза), не помогу ли я ему найти работу.
Я подумал. Я если и знал про какие вакансии, то только в образовании.
– Я раньше преподавал.
– Я имею в виду университетское образование.
– Преподавание – оно и есть преподавание.
Поглядим, что получится. Вместо того чтобы направиться к себе в кабинет, я решил заглянуть к своему завкафедрой.
– А он преподавал в американских учебных заведениях? – осведомился Ллойд-Гревиль, когда я поведал ему про невзгоды Калажа.
– Он почти не знает английского – а вы всегда говорили, что нам нужен именно такой преподаватель французского.
Профессор Ллойд-Гревиль покивал и предложил мне обсудить вопрос с профессором Чербакоффом.
– Он говорит на подлинном, живом французском, как раз таком, какой понадобится студентам, когда они следующим летом приедут во Францию, – пояснил я.
Чербакофф тоже покивал.
У нас, сказал он, как раз есть вакансия для внештатного преподавателя французского. Одной из внештатниц пришлось уйти: сложная беременность, рекомендован постельный режим.
Через десять минут я вернулся в кафе «Алжир» и сказал, чтобы Калаж немедленно шел на разговор к Чербакоффу.
Я заметил, что он нервничает.
– Встреча Калашникова и Чербакоффа, – поддразнил его алжирец, слышавший наш разговор. Все захохотали. Чербакофф, Чертакофф, Чербакофф, Чурбакофф, Чербакофф, Ебакофф. Из кухни полетели и другие вариации, и почти все посетители захлопали в ладоши.
Через пару часов Калаж вернулся в кафе, держа под мышкой объемистую книгу для учителя «Parlons!»[36], методическое пособие, сборник заданий, хрестоматию и список лабораторных работ.
– Завтра в восемь, Ламонт 310.
Вид у него был как никогда озадаченный. Ламонт – это что такое? Так учебный корпус называется, пояснил я. В жизни не слышал. Угол Квинси-стрит и Масс-авеню, если на языке таксистов. Вот это ему совершенно понятно. Я объяснил, что в Ламонте есть газетный зал. После занятий он может сколько душе угодно читать французские газеты и журналы совершенно бесплатно. Ему понравилась мысль читать после занятий газеты и журналы.
А где он будет проводить часы приема?
Он призадумался.
– Здесь, – решил он. – Чтобы поняли, как выглядят французские кафе.
Он добавил, что Чербакофф что-то там сказал об удостоверении личности, но Калаж не стал вдаваться в объяснения. Понадобится – возьмет мое напрокат. Объяснять, какие это нам обоим создаст сложности, было бессмысленно. Пусть берет. Он сказал, что ему нужно подготовиться к завтрашнему занятию.
А они рассказали, как именно он должен преподавать?
– Я сказал, что и сам знаю, – прозвучал ответ.
Это не сулило ничего хорошего. Я внезапно представил себе маленькую сельскую школу в тунисской деревне, где местный учитель с длинным прутом в руке ходит между партами, за которыми сидят запуганные мальчишки в халатах. Чуть-чуть помедлил с ответом – хрясь!
– Кричать нельзя, – предупредил я. – И бить никого тоже.
Он призадумался.
– И как я тогда буду их учить?
– Не кричать, не бить, более того – нельзя делать ничего, что понизит их самооценку.
– Выходит, если попадется полный идиот, мне ему говорить, что он вундеркинд?
Зейнаб – она слышала наш разговор – стала смеяться над Калажем, когда поняла, что история про преподавание в Гарварде не стеб.
– Как он чему-то сможет их научить, если понятия не имеет о согласовании причастия прошедшего времени с прямым дополнением?
– Имею, еще какое.
– Докажи.
– Долго доказывать, а у меня времени нет.
– Докажи.
– Не обязан.
– Значит, точно не знаешь.
– Я знаю одно: ты на все пойдешь, чтобы залезть ко мне в постель, да только ничего не выйдет.
Пара за соседним столом собиралась уходить. Они не притронулись к большому ломтю сыра бри, который заказали.
Молодой человек встал и пошел платить. Девушка уже дожидалась его снаружи.
Калаж схватил сыр и толстым слоем намазал на кусок багета, потом аккуратно разрезал кусок пополам: половину мне, половину себе. Зейнаб бросила на него сердитый взгляд.
– В этой стране все выбрасывают на помойку. Я, Я, Я, Калаж – я не эрзац. И не вор. Еда и есть еда, а за эту уже заплачено.
– Калаж, если ты хочешь поесть, просто попроси у меня, – сказала Зейнаб, которая с радостью отрезала бы правую руку и отдала ему, стоило ему поглядеть на эту руку подольше.
– Ты сперва мне отказываешься говорить, как причастие прошедшего времени согласуется с прямым дополнением, а потом предлагаешь меня накормить?
– Я уже сказала: для тебя я все сделаю.
– Опять пошло-поехало! Оставь меня в покое. Нужно посмотреть, чему я тут должен учить этих эрзацголовых.
Я оставил его, пошел домой, переоделся во что получше. Мне предстояло ехать в Честнат-Хилл, на коктейль в доме у родителей Эллисон. Поначалу я хотел попросить Калажа меня отвезти, потом передумал. Помимо прочего, если я приеду на такси из самого Кембриджа, это будет неверно воспринято. Лучше поездом. «Попробуй найти мне работу у кого-нибудь из этих твоих богатеньких дружков, – вечно твердил он. – Буду им шофером, поваром, телохранителем, сутенером. Кем угодно».
– Ты главное поаккуратнее с причастиями прошедшего времени. Я бы объяснила, если бы ты умел слушать, – сказала Зейнаб.
– Объясняй. Только коротко.
До конца вечера думать я мог лишь об одном: у него теперь полный доступ к моей квартире, моему удостоверению личности, он даже преподает там же, где и я. Никогда я еще не ощущал такого вторжения в свою жизнь, ее захвата. Чувство было гнуснейшее. Будто бы двойник мой начал меня вытеснять. Как я мог проявить такую слабость? И почему я мыслю как прижимистый и сквалыжный еврей? Еврей, которому нужно, чтобы все его вещички лежали на своих местечках, чтобы взятое взаймы немедленно возвращали, а дверь свою он приоткрывает лишь слегка из страха, что заявятся чужаки и уже больше не уйдут; еврей, который не желает, чтобы другие открывали ему свою душу, из страха, что потом придется открыть и свою; который не переступит порога, хотя, видит бог, его не раз приглашали войти, пусть и не в лоб. А может, я просто превратился в американца? Мое пространство, твое пространство, со множеством всяких пространств в промежутке?
Я испытывал отвращение к самому себе и за нежелание пустить его в свою квартиру, и за свою сдачу без всякой борьбы – за безоговорочное согласие пойти на коктейль к родителям Эллисон, за то, что согласился на долгую поездку туда поездом, за свои слова, что, возможно, и не приду, и за неохоту, с которой пошел, за нежелание жениться на Эллисон и за навязанное ей впечатление, что только этого я и хочу, за нежелание изучать литературу, нежелание находиться в Кембридже, в Соединенных Штатах, за следование по накатанной колее, которая мне представлялась – да, пожалуй, с самого начала и была – лучшим, что предлагала жизнь.
Глядя на свое отражение в стеклянных окнах вагона метро, в котором я в тот вечер ехал в Ньютон, я раз за разом задавал себе вопрос: действительно ли это я, действительно это мои черты проступают среди совершенно чуждого мне бостонского пейзажа? Кто я такой? Сколько масок способен носить одновременно? Каким становлюсь, когда сам себя не вижу? Я просто существо, обделенное формой, из которого можно вылепить то, каким все остальные хотят меня видеть? Или, соглашаясь на все подряд с такой легкостью, я просто заранее выписал себе индульгенцию за подлость, которую рано или поздно да совершу в отношении тех, кто поверил в правдивость моего лица?
Я вгляделся в свое лицо на фоне чужого бостонского пейзажа и увидел адвоката, который за обедом дает официанту непомерные чаевые, потому что знает: сегодня в суде он поведет себя особенно подло. Увидел мужа, который покупает жене дорогие драгоценности – не после измены, а перед тем как найти человека, совместно с которым он разрушит свой брак. Увидел священника, дающего отпущение всем без разбору, потому что сам утратил веру и в грош не ставит свое призвание.
В тот вечер Эллисон надумала отвезти меня домой. Я ей позволил, хотя предпочел бы поехать поездом. По ходу приема случился один момент, когда мне захотелось развязать галстук, чтобы открыть свежему воздуху доступ в легкие, а заодно показать, что у меня одинаково много общего как с гостями, так и с официантами: все они были в белых парадных рубашках с расстегнутым воротом. Мне вдруг захотелось остаться одному, посмотреть, как Калаж скручивает самокрутку и высмеивает эту нашу вечеринку с ее зажравшейся гравитацией, свисающей с зажравшихся люстр, зажравшуюся непринужденность выпендрежных гостей с этими их чмок-чмок, привет-привет, с демонстрацией зажравшихся изобилия и беспечности. «Амерлоки, – услышал я его голос. – Возьми хоть эту, – он указывает на женщину в толпе. – Кожа как джут. Три поколения назад она вытягивала репу из пустопорожней земли. А эти две, – ехидная усмешка, – может, и приплыли сюда на яхте, но, если заглянуть поглубже, обнаружишь там всю заскорузлость морских волков и жульничество портовых грузчиков».
Мне хотелось посидеть в пустом вагоне поезда, чтобы гипнотический перестук колес прибил бушевавшее внутри пламя. Все эти богатеи, повязанные своим узким кругом. Их огромные машины. Их огромные особняки. Они пучили глаза, повторяя мое имя, как будто слышали его и раньше. Их якобы любовь к Средиземноморью, сути которого им не постичь и за десять жизней, потому что вместо этого любят они холодную Атлантику и безграничность Тихого океана, ибо Калаж прав, это другой мир, это другой язык, а люди эти – другая разновидность существ, как вот женщины их – женщины плюс еще что-то или, может, минус что-то, и поэтому они отличаются от женщин, которых мы знаем, которые нас вырастили, которых нас выучили боготворить, ибо, помимо прочего, в этих женщинах заключено все то, чем мужчина не является и чем стать не может. Калаж бы понял. При этом, как ни странно, мне сейчас и с ним не хотелось иметь ничего общего, потому что я его стыдился, слишком от него устал, и, хотя он мне казался ближе, чем любой на этом приеме, расстояние между нами было достаточно велико, чтобы напоминать мне, даже когда я по нему скучал, что отстраненность втравлена в меня кислотой и впечатана колючей проволокой. К нему я не ближе, чем к ним.
Мы с Эллисон сидели в машине возле моего дома.
– Скажи, что не так? – произнесла она наконец.
– Ничего, – ответил я.
– Я чувствую: что-то не так, совсем не так; почему ты мне не скажешь?
Я только и надеялся, что она не заплачет и я не начну ее жалеть. Не хотелось презирать себя еще сильнее.
Я увидел свой дом, увидел свое отражение в окне ее машины, подумал про поезд, на котором мог приехать из Честнат-Хилл, – наверное, так бы еще и сидел в нем перед пересадкой на Парк-сквер. Да, очень многое было не так, все было не так, но как хоть примерно объяснить это ей, если я и сам ничего не понимаю? Как сказать другому правду, если сам не знаешь правды? «Дело в том, что ты меня не любишь, или любишь недостаточно сильно, или совсем не?» Как объяснить, что ее-то я люблю, что из всех женщин, каких я знал, она единственная, с которой я хотел бы жить во взаимной любви и растить детей.
– Я не хочу от тебя отказываться, – выговорила она наконец.
В ответ я сумел лишь выдавить: «Мне иногда нужно побыть одному». Я не думал, что это произнесу, пока слова не сорвались с языка.
– Мне казалось, мы счастливы вместе.
– Так и есть.
– Тогда в чем дело?
Этого я не знал. Точно актер, которому вздумалось посидеть в гримерке после того, как погасли огни и все разошлись по домам, мне хотелось не спеша снять грим, парик, вставные зубы, румяна, ресницы, не спеша вернуть себе собственный облик и увидеть лицо, а не маску, не маску вновь, ибо под маской маска. Хотелось поговорить с самим собой по-французски, с природным моим французским акцентом, поговорить так, как научили говорить люди, которые привели меня в этот мир. Я устал от английского, устал от всего, что лишено было запаха морской соли в летний день, душистых рассолов, которые готовили в наших кухнях в бесконечные летние полдни, когда цикады трещали, будто обезумев, а время замедлялось, а море манило, гладкое и недвижное, сквозь окна спален, когда не хотелось дремать днем, но тебя все же убаюкивал голос волн. Я даже устал от своего нарочитого Парижа, от расставленных мною ширм, устал думать, что ношу маску, устал тосковать по собственному лицу, устал думать, что постоянно препираюсь не с маской, а с лицом, – устал бояться, что этого самого лица у меня нет, да и не было вовсе. Устал страшиться, что не способен к любви – ни к кому и ни к чему.
– Я поеду домой. Завтра тебе позвоню. Если ты не сможешь сказать мне правду, мне все станет ясно, и я обещаю больше тебя тогда не беспокоить.
Она сдержала свое обещание. Один звонок на следующий день. И на этом все.
Калаж, когда я пересказал ему слова Эллисон, заявил, что все это типичная эрзац-болтовня. Однако она – и это я знал даже тогда – повела себя с безупречным тактом и достоинством, каких больше я за всю свою жизнь не видел ни у одной женщины. Она с первой и до последней минуты была откровенна и отважна. Она знала, чего мне хочется. А я даже не знал, как хотеть, и уж всяко – чего я хочу. Она вызывала восхищение.
Когда мы в тот вечер попрощались, я поймал себя на желании, чтобы она на следующий день не звонила вообще. Не хотелось мне поминок с глазу на глаз, которые, как я знал, нам предстоят. Если, только чтобы избежать этого звонка, придется принести ее в жертву смертельной аварии на пути обратно к родителям в этот вечер, так тому и быть. Мне было невероятно стыдно. Но стыд – просто метафора, слово, пустышка. В большом обменном пункте души это еще одно слово-банкрот, которое ничем не приближает меня к осмыслению собственных чувств.
Когда я в тот вечер поднимался к себе на четвертый этаж, сердце внезапно екнуло: я вспомнил, что в квартире – Калаж. Поймал себя на том, что и ему желаю того же самого. Вот бы его сегодня депортировали – не придется объяснять, почему мне хочется, чтобы он исчез из моей жизни. А если они с Эллисон устроят совместное лобовое столкновение, тем лучше.
Калажа наверху не оказалось. Мне стало его жалко – я представил, как он нервничает перед первым своим днем на преподавательском поприще. Жалко мне было и Эллисон: плачет, наверное, а может, и нет, пока едет обратно в далекий Ньютон. Что до ее родителей, самодовольных богатеев, мне было жалко и их: их тревожит, что дочка влюбилась в мужчину, который постоянно ускользает и увиливает, обманывает людей, – этакая рыбина, которая трогает наживку губами, но не берет.
7
Я оказался не готов к холодам, которые пришли в Кембридж в конце осени. Обычно мне нравилось это время года: ранние сумерки, силуэты облетевших деревьев на фоне неба, затишье, которое наступало в Кембридже после семи вечера. Вот только конец лета выдался таким насыщенным, что прощаться с ним не хотелось. Калаж, однако, просто влюбился в прохладную погоду. Надел куртку потеплее, обмотал шею серым шарфом и часто ходил, глубоко засунув руки в карманы. Наступала первая его кембриджская зима, и это вызывало у него азарт.
Темнело ко Дню благодарения все раньше, Калаж заходил заглянуть в мои словари и проверить домашние задания, засиживался до двух утра. Ему начинало казаться, что и он тоже студент, что мы с ним соседи по общежитию в какой-то американской Богемии. Чтобы свести концы с концами, он хватался за любую работу. Денег постоянно не хватало. Но мы как-то управлялись, случались даже дни, когда, после череды чудес, нам удавалось отправиться в Норт-Энд, принести еды и устроить камерный ужин для друзей. Когда выяснялось, что женщин придет больше, чем мужчин, а значит, нужен лишний гость, мы непременно говорили в шутку: а не пригласить ли Графа? Заканчивалось дело всегда анекдотом про графа Дракулу с двумя выбитыми зубами.
Однажды воскресным вечером в конце осени мы всей компанией отправились на двухсерийный фильм в церковь Гарварда-Эпворта. Заплатив по доллару с носа, посмотрели старую ленту под названием «Желание». Она никого из нас не тронула. Потом отправились в «Касабланку», выпили по бокалу вина, разошлись по домам. Калаж, если у него не было свидания, возвращался ко мне. Знал, что дома мне нужно читать, поэтому сидел тише мыши.
У нас у обоих были студенты. Случалось сравнить впечатления. Ему это нравилось. Я помог ему составить первую проверочную по грамматике. Потом научил распечатывать и проверять задания. Помогал определить, где ставить А, где В-, а где С+. Ему открылся совершенно новый мир, и было видно: в душе его поселились восторг и благоговение, будто у иммигранта на борту парохода, который рано на рассвете увидел вдалеке смутные очертания Манхэттена. Калажу нравился ритм этой его новой жизни.
Примерно за неделю до Дня благодарения случилось сильнейшее потрясение во всей его жизни. Кто-то из студентов обратился по его поводу в администрацию. Письмо переслали на мой адрес. Его приглашают на ужин в формате «преподаватель – студент» в одном из домов у реки. С чего бы это? Кто-то из студентов на него нажаловался? Нет, это, наоборот, особая честь, пояснил я. Студент приглашает преподавателя на официальный ужин один на один. Он долго думал. «А в таком виде идти можно?» – «Нет, нужно костюм и галстук». Он выслушал, скручивая сигарету, разглядывая табак, не произнося ни слова. Оке, оке. Мне стало его жалко. «Галстук я тебе ссужу, если хочешь, а вот костюмы мои тебе не подойдут».
В назначенный вечер он постучал в мою дверь; на нем были серый двубортный фланелевый костюм, голубая рубашка и темно-синий галстук. Я опознал галстук от «Шарве». Он заметил мое восхищение. «Спасибо комиссионке», – пояснил он. А вот костюм французский. Рубашка тоже. То ли костюм, рубашка и черные ботинки у него уже были, то ли он специально съездил в Бостон и их там купил. Че Гевара в костюмчике на заказ. Калаж сбрил усы, причесался, чуть смазал волосы бриллиантином и помолодел как минимум лет на семь. Мне он напомнил человека, который впервые собрался в оперу.
– Как закончится – позвоню. Хочешь – встретимся выпить в «У Максима». Найдем новых женщин.
Я проводил его взглядом.
Изысканный ужин раскрыл перед ним все чудеса Америки. Свинину он раньше никогда не ел, но сочная ветчина с ломтиками ананаса и гвоздики плюс креветки, крупнее которых он в жизни не видел, сломили последнюю волю к сопротивлению. А больше всего ему понравилось, что каждый раз, как ему начинало казаться, что пора бы подавать десерт, вдруг поступал некий знак, что это только начало. Он попробовал блюда, каких никогда не видел наяву и ни за что не опознал бы по названию, но вкус у них оказался божественный, и всего подали так много, что он невольно оглядывался в поисках пакета, куда можно будет сложить остатки для меня, или для друзей из кафе «Алжир», или хотя бы на память об этом вечере. Американский рай был неисчерпаемым средоточием всего зажравшегося эрзаца на свете. Ему страшно понравилось. «Как будем устраивать вечеринку, обязательно поджарим ветчину с ананасами».
Потом он надолго задумался.
– Должен тебе сказать, что весь вечер думал про одну-единственную вещь.
– Какую?
– Давай-ка женись на Эллисон.
– Зачем?
– Если не ради себя, то ради своих детей, ради тех, кого любишь, и ради меня тоже, потому что эта страна – просто изумительный эрзац.
Попав на крючок, он немедленно обнажил свою слабость. До тех пор он источал ненависть к Америке, облагораживая тем самым свой статус парии. Он взирал на Новый Свет с балкона, где сидел на карантине, приблизиться к нему не мог, дотронуться – тем паче, а потому поливал его проклятиями. Но получив в этот Свет приглашение – пусть даже лишь с правом взглянуть одним глазком по ходу единственного вечера, – он немедленно обратился в новую веру. Я уверен, что в глубине души он только и ждал, когда ему дадут возможность принести клятву верности. Я спросил, что именно его приманило – роскошь, изобилие, самодовольство богачей? «На самом деле, – сказал он, – ветчина. И наверное, еще то, что по сравнению с их красными винами наше паршивое un dollar vingt-deux – полная дрянь».
Он стал приязненнее относиться к своим студентам и ходить на обеды в некоторые дома – туда, где были готовы покормить его бесплатно, если он посидит со студентом и поболтает с ним по-французски. Он открыл для себя очарование гарвардских французских столов: студенты собирались на ужин в небольших обеденных залах, где дозволялось говорить только по-французски, его же каждую неделю просили закупить сыры и вино. В компании студентов он никогда не заговаривал о женщинах или политике. Говорил про компьютерный синтаксис. Они слушали завороженно, и мне это напоминало, как вытаращился на него его адвокат, когда он перечислил всех чемпионов в тяжелом весе. Вот только после того достопамятного ужина, после первого его и единственного футбольного матча, после общения со всеми этими усердными студентами, которые в жизни своей не видели такого человека и робко входили в кафе «Алжир», чтобы пообщаться с ним в приемные часы, и потягивали турецкий кофе вместо того, чтобы спрягать глаголы, – сопротивляемость его начала падать. Даже когда ему опять позволили сесть за руль такси, он все равно продолжал вставать раньше обычного, чтобы в восемь утра провести занятие. Иногда начинал переживать. «Вдруг в пятницу вечером кто-то из моих студентов выйдет попозднее из клуба, остановит такси – а за рулем я. И что я ему скажу?»
– Чистую правду.
– А ты им говоришь правду? – поинтересовался он.
Я собирался ответить, что очень редко. Но вместо этого предложил просто без всяких пояснений сказать студенту, что больше всего на свете он любит слушать джаз en sourdine на Сторроу-драйв.
Гарвард всосал его по ходу осеннего семестра. Апогея он достиг, когда его пригласили сразу на два обеда по случаю Дня благодарения, один в Коннектикуте, другой в Бостоне. «Один и тот же костюм, галстук, ботинки», – пошутил он. Выбрал он Бостон. Хозяйке дома купил розы, за которые заплатил почти полудневную выручку. «Никаких речей, тирад, никаких тут зажрались, там эрзац», – предупредил я его. Зейнаб, присутствовавшая при моем кратком наставлении, добавила: «И никаких разговоров про переднее и заднее причинные места. Бэк-Бэй – это тебе не кафе “Алжир”». Америка приняла его в свое лоно. Он оказался в лоне Америки. Настоящая волшебная сказка.
Как и положено суеверному жителю Ближнего Востока, он постоянно ждал, когда грянет гром. Но он оказался не готов к тому, с какой бесчеловечностью американцы способны захлопывать перед вами двери. К началу декабря, когда он как раз собирался насладиться первым своим американским Рождеством в обществе тех из студентов, кто не уедет домой, он получил письмо от профессора Ллойд-Гревиля, отправленное на мой домашний адрес, с нижайшей благодарностью за готовность предоставить свои услуги, когда нам это требовалось… на данный момент слишком много внештатных преподавателей… Желаем дальнейших профессиональных успехов.
Калаж не удивился.
– В последние дни Ллойд-Гревиль отворачивался всякий раз, когда мы с ним встречались в коридоре. – Знал он, в чем смысл этого взгляда. – Так смотрят пассажиры такси, которые, даже еще не открыв бумажник, уже решили чаевых не давать. Так смотрят люди, которые только что подписали вам смертный приговор и боятся глянуть вам в лицо. Так смотрит жена, которая целует вас, провожая на работу в семь утра, но на десять уже вызвала грузчиков для переезда.
Женщины на него так смотрели много-много раз. Так смотрит предательство, не совершенное, а еще только назревающее.
– Я это не придумываю, – добавил он на случай, если я заподозрю его в паранойе.
Возможно, он также отсылал меня к тому эпизоду в «Харвесте», когда я уклонился от разговора с ним, потому что был с друзьями. Тем не менее письмо Ллойд-Гревиля ввергло его в полное отчаяние. Он просил меня написать Ллойд-Гревилю и напомнить, что Калаж стал для студентов важным человеком, что новый преподаватель, который появится после его неожиданного отъезда, деморализует всю группу, что ему, Калажу, никогда не хватит совести подобное допустить.
Я попытался объяснить, что толку от таких писем ни на грош, а вреда они могут наделать – превратят тебя в назойливого парию, особенно если твоему боссу все равно придется тебя регулярно видеть до следующего января. Он слышать ничего не хотел.
– Речь идет о моем достоинстве, – наконец пояснил он.
Вместо длинного письма, на котором он настаивал, я написал краткий ответ, поблагодарил Ллойд-Гревиля за его письмо… Калаж крайне расстроен тем, что нужда во внештатниках отпала… он приобрел бесценный опыт… будет ценить его до конца жизни. И т. д.
Он считал, что я сдаюсь без боя. «Ручки боишься запачкать, да?» – поинтересовался он.
Руки мои тут были ни при чем. То, чего он хотел, не срабатывало нигде – ни здесь, ни во Франции, ни в Тунисе, ни в каком бы то ни было ином месте.
Он обозвал меня трусом, подхалимом, un rac – реакционером.
Если бы я думал, что трехстраничное письмо, которое, как я знал заранее, никто не станет читать, хоть что-то изменит, я бы его написал. Но письмо не поможет. Протестовать бессмысленно, увещевать бессмысленно, партизанские действия ни к чему не приведут, особенно если кампания уже проиграна.
– Так и что делать? Сдаваться?
– Ты звучишь прямо как Че Гевара с Портер-сквер. Ничего тут не поделаешь.
Ему это не пришлось по душе.
– Тогда я увольняюсь немедленно.
– И думать не смей. Доучишь до конца семестра, а когда потом будешь смотреть на это вспять, тебе не в чем будет себя упрекнуть.
Он выслушал.
– Я могу не сдержаться.
Хотелось сказать ему, что Гарвард не итальянский граф. Никаких угроз, никаких сломанных зубов – даже в шутку!
И тут до меня вдруг дошло: он не сможет смотреть в глаза своему работодателю, не сможет смотреть в глаза студентам, даже не сможет смотреть в глаза посетителям кафе «Алжир», которые видели, как он сидит рядышком с парочкой студентов и повторяет с ними согласование прошедшего условного с совершенным предпрошедшим в контрфактивных придаточных, – он ни разу не повысил голоса, оставался бодрым и доброжелательным, а под конец обязательно заказывал cinquante-quatre, чтобы поднять им самооценку.
Ему хотелось скрыть правду. Не хватило мужества упомянуть про случившееся Леони, которая даже после их разрыва продолжала заходить в «Алжир» выпить с ним cinquante-quatre.
– Вы все еще с ней милуетесь? – поинтересовался я, пытаясь сменить тему.
– Нет, бросили эти глупости сто лет назад. – Потом, подумав: – Я могу еще на одну ночь у тебя статься?
Разумеется.
Когда стало очень холодно и одеяла у меня иссякли, я объяснил ему, что в Америке некоторые спят под электрическими одеялами.
– В каком смысле?
Я рассказал. Он в жизни о таком не слыхивал. Пришел в ужас.
– Ну еще бы, нация вибраторов и электрических стульев.
На следующее утро я пожарил яичницу и сварил кофе нам обоим. Хотелось, чтобы он ушел сытым. Он отправился проводить занятие.