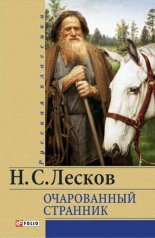Гарвардская площадь Асиман Андре
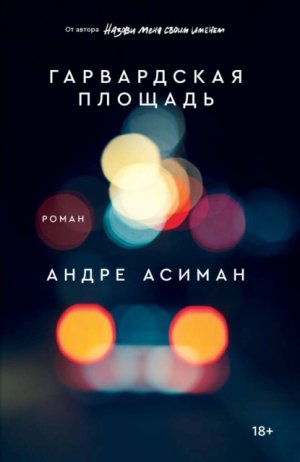
После этого мы с Нилуфар встречались еще несколько раз. Она рассказала мне про свою семью, про брата, бывшего мужа, сына, мать – кто-то живет в Иране, кто-то в Европе и Южной Америке. Мы сдружились. Данте, ислам, провансальские поэты, связи с Сицилией – обо всем этом она собиралась когда-нибудь написать. А потом, в один прекрасный день – мы сидели вдвоем в кафе «Алжир» и дожидались Калажа, – у нас иссякли темы для разговора. Не осталось слов, чтобы заполнить ими молчание, нечего стало вбрасывать в невысказанное признание, повисшее между нами. Она уставилась на меня, я – на нее. Это было уже не какое-то там «я подниму ставку на одну фишку, если ты тоже поднимешь на одну».
«Это то, что я думаю?» – спросил я себя, пытаясь произвести разбор этого молчания и осмыслить, что происходит. Взгляд ее не прекращался. «Да, это именно то, что я думаю». Я смотрю, ты смотришь, один человек с другим человеком – все остальное, да и вообще все, чему нас успела научить жизнь, может подождать за стенами кафе «Алжир». Мне было двадцать шесть лет, но в этот миг я впервые испытал безоговорочную душевную связь с женщиной, помимо своей мамы. Я подумал, может, они говорили про меня с Калажем. А может, они переспали? Внезапно в глазах ее я увидел слезы.
– Ты плачешь, – произнес я в конце концов, не в силах делать вид, что не замечаю.
– Вот и нет, – ответила она, опустила глаза в стол и закрыла их внутренней стороной ладоней, будто массируя после долгого чтения. А потом и снова со слезами: – Ты не поймешь. Дай платок.
Я вытащил платок из левого кармана. Не спросил, из-за чего она заплакала, но внезапно меня обуяли неуверенность и смятение, как будто грудь сдавило со страшной силой, для которой нет названия, – и не выдохнешь. Часть моей души трепетно просила, чтобы Калаж не появлялся подольше и не прерывал нашей интерлюдии, другая мечтала, чтобы он поскорее меня из нее вызволил. Я уставился ей в глаза, она уставилась на меня, в смысле: «Вот видишь? Теперь-то понял?» Я внезапно осознал, что щеки у меня влажные, что я тоже, сам того не заметив, ударился в слезы.
– Я не понимаю, что это с нами. А ты? – Я качнул головой.
– Просто подержи меня за руку, – предложил я, и она резко выбросила ладонь мне навстречу через стол.
Я предложил съесть чего-нибудь легкого. Но есть нам обоим не хотелось.
– Проводишь меня домой?
– Конечно, – согласился я.
– У тебя все книги, какие нужны, при себе?
– Почти все, – подтвердил я. – А что?
– Потому что ты сегодня будешь спать со мной.
На улице, в узком переулке между Брэттл и Маунт-Оберн, мы поцеловались.
Она жила рядом с Флэг-стрит, возле реки. За ужином – рис с пряным мясом, который мы запивали вином, – мы сидели, поджав под себя ноги, на ковре и говорили о том, что с нами случилось в кафе «Алжир».
– Я не показалась тебе навязчивой?
– Вовсе нет, – ответил я.
– Слишком прямолинейной?
– Меня просто пленил твой шаг. – Я поцеловал ее снова.
Я никогда еще так откровенно не говорил с женщиной об ухаживаниях в процессе собственно ухаживаний. Мы обсуждали Феллини, Ренуара, Висконти. Она сказала, что отказывается покупать телевизор. Через несколько дней я таки заставил ее его купить. Каждый вечер мы пили чай. Потом вино. Потом ели ее пряное мясо с рисом и овощным фаршем. Говорили о моем любимом режиссере, Ромере, моей любимой певице, Каллас. Говорили о великих поэтах. И о не столь великих поэтах. Я радовался, что отцепился от Калажа. Поднимали вопрос о том, чтобы съехаться, шли дни, речь зашла о долгосрочных отношениях. Можно часть года жить в Париже, сказала она, а когда я сдам экзамены, где же, как не в Париже, писать диссертацию по «Принцессе Клевской» – она же будет учиться в Институте арабского мира. Но сначала нужно сходить на ретроспективу Куросавы, которая начинается через неделю. Когда я засомневался насчет ретроспективы, сославшись на то, сколько должен прочитать до середины января, на скорую встречу с Ллойд-Гревилем по поводу всего Чосера, она ответила, что нужно просто найти на это время здесь и сейчас. Мне в ней это очень нравилось. Наша проблема, добавила она, не Чосер, а то, как покурить по ходу этих длинных фильмов без перерывов. Все просто. Будем выходить из зала по очереди, а потом пересказывать друг другу пропущенные куски. Дурацкая мысль. Будем выходить вместе, быстренько курить, нестись обратно. Вуаля! Что ты там такое важное пропустишь за две минуты по ходу фильма в два с лишним часа? А что, если нам обоим просто бросить курить, предложил я. Отличная мысль. Когда? Не сегодня. Завтра. «Боже, дай мне жизнь без табака, только не сейчас». Мы оба рассмеялись над переиначенной цитатой из Блаженного Августина: «Боже, дай мне целомудрие, только не сейчас». Все было будто в раю. Однажды ночью в приливе нежности она повернулась ко мне и сказала: «Если бы ты попросил, я отдала бы тебе свои глаза». Она произнесла это по-французски, но говорила на архаичном языке утраченных миров. И это было будто в раю.
– Ты правда этого хочешь? – спросил меня однажды Калаж, когда я вдруг понял, что хочу поговорить с ним и только с ним, потому что знаю: он все поймет. – Ты правда хочешь жениться?
Я сказал, что не знаю.
– Все нервничают перед тем, как жениться, но рано или поздно понимают, чего хотят.
– Ну а я не понимаю. Так-то. – А он-то сам понимал, прежде чем жениться – сколько там раз?
– Я не был влюблен, – ответил он, игнорируя мой легкий укол. – А ты влюблен?
Этого я тоже не знал.
– Она предлагает вместе съездить в Испанию на Рождество, познакомить меня с родными.
Он призадумался.
– А деньги на билет у тебя есть?
– Нет.
– И кто будет платить?
Этого я не знал.
Я и помыслить не мог, что брак может зависеть от такой грубо утилитарной вещи, как деньги на билет туда и обратно до аэропорта Барахас.
Ответ тем не менее был получен.
Мы решили отложит поездку до начала следующего лета. А тем временем переслушали, потратив целое воскресенье, все поздние квартеты Бетховена. А на следующий день – три исполнения «Искусства фуги», после чего сели смотреть «60 минут». Потом – ужин, всегдашний рис с пряным мясом и по бокалу вина, затем ласки и еще ласки – не зря я готовлю это пряное мясо, шутила она. Хотел я ее постоянно. Я никогда еще так не жил, никогда еще не был с кем-то так счастлив. Иногда мы оба просыпались посреди ночи, вставали у большого окна ее гостиной и смотрели на волшебство огней на Мемориал-драйв. Не отбирай все это, не отбирай…
Недели через три после начала занятий я понял: что-то назревает. Она пожаловалась, что я никогда не готовлю. «Даже учиться не хочет», – услышал я ее слова, будто бы обращенные к кухонной раковине, к полочке с иранскими специями в открытом шкафчике над раковиной, к ее ценнейшему чайнику «Шанталь» и к жестянкам с чаем, которые присылали напрямую из «Марьяж-фрер» во Франции. Мог бы хоть предложить помыть посуду, сказала она, выходя из кухни однажды вечером, после того как мы поужинали. И со стиркой мог бы помочь. И вещи свои не разбрасывать. Плюс, пусть ей об этом и неловко, пора поговорить о том, что расходы здесь нужно как-то делить. Это «здесь» ранило меня в самое сердце – из него так и выплескивалась сдерживаемая досада. Кто знает, сколько у нее накипало, прежде чем вот так прорваться. А еще, добавила она, в постели я уже не тот, что в начале. С ней нужно разговаривать в такой момент. А я стал тихий, как мышка. И еще я ее не дожидаюсь – а мужчина обязан дождаться женщину.
А я просто перестал вкладывать душу – и она это заметила сразу, даже раньше меня.
Потом, примерно через неделю, все наконец случилось. Воскресным утром, за два дня до встречи с Ллойд-Гревилем – я знал, что по ходу ее он будет вкапываться и вкапываться, чтобы убедиться в том, насколько поверхностно я знаком с Чосером, – я проснулся в третьем часу утра, охваченный обычным обездвиживающим страхом перед предстоящей встречей. А потом – одна мысль цеплялась за другую – я наконец понял, что мне до смерти хочется сбежать не только из Гарварда и кабинета Ллойд-Гревиля, но еще и от нее. Я внезапно почувствовал неодолимое желание вылезти из ее постели. Более того – на осознание этого ушло еще несколько минут, – мне сделалось необходимо уйти из ее дома. Я решил, что отложу свой уход: сперва утром мы обсудим все это как взрослые люди. Возможно, к тому времени я очухаюсь и пойму, что на самом деле разнервничался из-за экзаменов. При этом я знал, что само по себе то, что я вылез из постели и пошел посидеть в гостиной, способно вызвать у нее срабатывание тревожной сигнализации. Одно слово о том, что стоило бы немножко замедлить развитие событий, особенно в канун моей встречи с Ллойд-Гревилем, может, даже взять паузу на несколько дней – на пару недель, не больше, обещаю, – и воспоследуют бесконечные слезы, обвинения, после чего я вынужден буду сказать ей слова, которые все говорят в подобных обстоятельствах: дело во мне, не в ней, в моих экзаменах, а не в нас, в том, как сложилась моя жизнь, а не в дарах, которые она в эту жизнь привнесла, – она просто совершенство, я ее не заслуживаю. Где бы я сейчас был без нее? В это «сейчас» я собирался вложить всю полноту утраты и отчаяния. Просто я вынужден так поступить. Пожалуйста, не ругай меня, сказал бы я, я учился и сам себя не ругать. Эта риторика (чего я тогда не сознавал) была почерпнута из «Техники безболезненного разрыва».
К трем утра меня просто распирало. Стоило заснуть, в сон тут же незаметно прокрадывался кошмар, зависал над плечами, потом ввинчивался в левое ухо, будил меня, даже при том, что я знал: это сон, он просто напоминает мне, что я живу во лжи, что так продолжаться не может, я не хочу больше к ней прикасаться, не хочу даже, чтобы ступня ее потиралась о мою под одеялом. К половине четвертого я встал, надел носки, брюки, остался в той же футболке, в которой спал, взял несколько своих книг, снял ее ключи со связки ключей и бесшумно положил на кухонную столешницу. Выйдя из дома и ощутив на лице первое студеное дыхание осени, я понял, что это внезапное высвобождение ближе к экстазу, чем все, что я испытал с тех пор, как к ней переехал.
Я позвонил Калажу. Неловко извинился за то, что разбудил его в такое время, и спросил:
– Заберешь меня?
– J’arrive[22].
Ни единого вопроса. Никаких объяснений. По тону моего голоса он сразу понял, почему я его позвал. Я был не первым и не последним мужчиной, которого нужно было вызволять – срочно.
Я дожидался его в студеную ночь конца сентября, но продрогнуть не успел, потому что довольно скоро увидел желтое такси, которое осторожно пробиралось между двумя рядами припаркованных машин. С того момента, как я проснулся и надел носки, прошло меньше десяти минут.
Извинившись еще раз, я залез в машину. Было видно, что он такое проделывал уже неоднократно. Сказал одно:
– Ты белый как аспирин.
Он рассмеялся, я следом. Это выражение он подцепил у какого-то матроса-грека.
– И все равно поступок трусливый, – заметил он наконец.
– Да, трусливый.
Глядя прямо перед собой, он добавил:
– Когда-нибудь и ты для меня сделаешь то же самое.
Я промолчал. Что-то подсказало, что спорить не стоит.
Чтобы развеять неловкость, я спросил, предчувствовал ли он такую развязку.
Да, он все знал с самого начала, ответил он.
Так чего же молчал?
– А это бы что-то изменило? – спросил он.
– Нет.
– Потому и молчал.
Но я знал: ему ведомо подлинное «потому».
Пока мы ехали по Мемориал-драйв, я думал про нее: что она почувствует, когда проснется, как будет искать меня повсюду и только потом заметит ключи на кухонной столешнице. Сколько у нее уйдет времени на то, чтобы все понять, догадаться, что я ушел насовсем? Он от меня ушел. Я так и слышал, как она бормочет под нос эти слова, ополаскивая бокалы из-под вчерашнего вина, которые мы оставили на чайном столике, прежде чем лечь. Он ушел – горький, досадливый взмыв голоса выдаст, как бы ей хотелось, чтобы я по-прежнему был рядом, хотя бы для того, чтобы выплеснуть на меня накопившийся гнев, а заунывная нота в голосе вобьет гвоздь в крышку гроба нашей короткой любви.
Слезы навернулись мне на глаза, особенно когда я представил себе, как она сидит на своем диване, который стал нашим диваном, или, хуже того, на том самом месте, где мы ели рис с пряным мясом, и понимает, что жизнь ее сошла с орбиты: Париж, Арабский институт, моя диссертация, наша поездка в Испанию – все это клубится вокруг стайкой диких птиц, перепуганных приближением хищника. Хищник – это я. Как я мог так поступить с человеком? Причем то, как именно я все сделал, даже гнуснее самого оскорбления.
Тут мне захотелось вернуться, войти на цыпочках к ней в квартиру, забраться в постель, прижать ее к себе – мы бы обнялись и перешли к иным ласкам, потому что она тоже любила неожиданный секс в полусне, грубоватый, подслеповатый, хищный секс, который делался все нежнее по мере того, как мы просыпались и включались в то, что начали наши тела.
Но, чтобы вернуться, у меня не было ключа, а еще стыдно было просить Калажа отвезти меня обратно.
– Так и почему я это сделал? – спросил я его наконец.
– Потому что не мог все это выносить, потому что задыхался, вот почему. Понятное дело.
Нет, совершенно непонятное. «Задыхаться» – это всего лишь слово, метафора, ничто. Я и сам в ту ночь заметил, как слово это заползает мне под подушку. Это не ответ, не объяснение, но никакого другого под рукой не было, а еще одно это слово выражало все полностью, вне зависимости от моего недоверия к словам. Почему я от нее ушел? Потому что жил чужой, не своей жизнью. Потому что хотел вернуться в свою жизнь, хотя и не понимал, что это такое – «моя жизнь» и какой я хотел ее видеть. Потому что я хотел быть один, или не с ней, а с кем-то другим, или лучше того – ни с кем вовсе. Потому что я пытался отыскать в других частицы себя, только чтобы прийти к выводу, что никто другой никогда не станет таким же, как я, что в итоге всех их придется отстегивать, отбрасывать, отрывать, потому что отчуждение – это тавро на душе, потому что любовь чужда мне по самой своей сути, а на месте ее живут желчность и досада. Зачем я вообще с ней связался? Чтобы быть с кем-то в противоположность ни с кем? Чтобы стать похожим на него? Или я уже стал, или я всегда был похожим на него, вот только в ином облике, благодаря которому мы казались полными противоположностями? Араб и еврей, вспыльчивый и покладистый, непримиримый и снисходительный, этот то, а тот это! И все же нас отлили в одной форме, мы задыхались совершенно одинаково и столь же одинаково давали сдачи, а потом сбегали.
Он выслушивал мои рассуждения, как будто я декламировал стихи. А потом покачал головой и вернулся к любимому своему слову:
– Замес не вышел. Глютен не слипся.
Это в нем говорил бывший пекарь.
В тишине машины, где музыка круглосуточно играла en sourdine, я стал обдумывать его короткие фразы. Они мне понравились. Будто бы любовные истории – это пудинги и суфле: бывает, что замес выйдет, а бывает, и нет, порою они створаживаются – винить некого, поделать ничего нельзя.
Через миг мне пришло в голову, что то же самое можно сказать и обо всем прочем в моей жизни – да и его тоже. Ничего у нас не выходит. Даже наша дружба…
– А тебе нравится жить одному? – спросил он.
– Нет.
Это он тоже понял. Слова не нужны. Он высадил меня возле дома.
Я предложил, если хочет, сварить ему кофе, но он сказал, что поедет уж работать дальше до рассвета. Когда я ему позвонил, он еще не ложился. Он вообще редко спит. Кроме того, раннее воскресное утро, люди выходят из клубов и ночных баров. Воскресным утром можно хорошо заработать.
Когда он уехал, я стал думать о том, что объединяет нас, пожалуй, не только романтическая привязанность к выдуманной Франции. Это всего лишь верхний слой, иллюзия. Скорее, объединяет нас отчаянная неспособность вести обычную жизнь с обычными людьми где бы то ни было: не для нас обычная любовь, обычный дом, обычная работа, обычные телепередачи, обычная еда с обычными друзьями – у нас и нет-то обычных друзей, а появляются – не задерживаются.
Мы – изгои. Неприкасаемые. Этого никто, кроме нас, не знает. Гарвард помог мне скрыть это настолько надежно, что у меня по неделям, а порой и по месяцам и мысли об этом не возникало, – а уж другие ничего не замечали и подавно. Калаж все прятал на полном виду: орал в ухо каждому, с кем встречался.
Открыв дверь в квартиру, я сообразил, что довольно давно не видел своего жилища ночью. Вид у него был незнакомый. У Нилуфар на Флэг-стрит я чувствовал себя больше дома, чем здесь. При этом в обеих квартирах что-то было не так. Неудивительно, что Калаж предпочитает колесить по городу целый день, а потом зависать непонятно где, – все лучше, чем оставаться наедине с собственной спальней. Я уснул прямо в одежде, и запах постели Нилуфар смешался с запахом моей собственной.
Пожалуй, то воскресенье стало худшим днем моей жизни. Еды в доме не было. Я вымотался, а на освоение наследия Чосера перед встречей с Ллойд-Гревилем остались сутки. И помыслить нельзя было о том, чтобы израсходовать целых двадцать минут на поход за едой.
Ближе к полудню начал названивать телефон. Я знал, кто это, и решил не снимать трубку. Звонки я слышал на всем пути на террасу на крыше, где решил провести несколько часов, а потом сползти вниз и отпечатать свои заметки по Чосеру. Встреча с Ллойд-Гревилем была назначена на десять утра следующего дня. Впрочем, я знал, что заодно я наверху еще и прячусь. Жестоко, бессердечно, трусливо. Линда – она в этот безоблачный теплый прелестный день бабьего лета тоже оказалась на крыше, а я ее не видел с тех пор, как более или менее переехал в другое место и сюда стал наведываться лишь от случая к случаю, чтобы забрать или привезти книги и кое-какую одежду, – вычислила, что звонит именно мой телефон. «Ты почему не отвечаешь?» – спросила она в конце концов. А потом догадалась почему. «Она когда успокоится?» В полдень, когда мы у меня на кухне смешивали по второму «Тому Коллинзу», она предложила: «Хочешь, я сниму?» Я не мог так поступить с женщиной, которая была светом моей души. Кончилось тем, что Линда схватила мой телефон, унесла в ванну и плотно закрыла дверь – будто наказала нашкодившего котенка. Я хотел, чтобы она сняла голубой топик и нижнюю часть бикини и без промедлений проследовала ко мне в спальню. Мне нравилось ее тело, нравился безрассудный секс, свирепый, себялюбивый и лишенный смысла. Мне хотелось, чтобы она стерла эту другую женщину из моей жизни; хотелось целовать ее лицо, губы – и похоронить под этим лицом другую, как хоронят танагрскую статуэтку, ставшую невыносимой и не вызывающую ни капли вины, жалости, любви или даже обыденной злобы, а вызывающую лишь одну эту вещь, которая пугала меня только сильнее, потому что ставила под сомнение не ее, а меня: безразличие. Или даже хуже безразличия: бесчувствие, сперва – в сердце, потом – во всем теле. По контрасту ненависть казалась куда, куда безобиднее – и, возможно, во мне уже постепенно разгоралась ненависть, ибо ненависть помогает забыть, прикрывает раны, которые мы оставили на других, с той же скоростью, с какой залечивает те, которые они нанесли нам.
– Не хочешь ее обижать, – подвела итог Линда. – Потому что ты добрый.
Нет, потому что я трус, хотел я ответить. Но не сказал ничего.
В тот же день ко мне заглянул Калаж. Наведывался он частенько: знал, что дверь я не запираю.
– Одного мужчина никогда не должен себе позволять: жалости к женщине. Потом обязательно прилетит рикошетом, – сказал он. – Разрушает и ее, и тебя.
Я вообще с трудом мог думать про Нилуфар. На подготовку к Чосеру остался последний день, я непоправимо отстал от графика.
– Я могу тебе чем-то помочь? – осведомился Калаж.
– Не можешь. – Тут меня вдруг озарило. – Можешь, пожалуй.
Мне эта мысль показалась гениальной.
– Мне нужно два полных собрания Чосера, – сказал я.
– И где я их возьму?
Я написал приблизительные библиотечные шифры и выдал ему свой читательский билет. Сказал, где именно они стоят на полках в Библиотеке Уайденера, и попросил взять и другие книги про Чосера, которые там окажутся.
Он ни разу не был в Библиотеке Уайденера, не знал, где она и кто такой Уайденер.
– За воротами на Масс-авеню, между Плимптон и Линден-стрит, – растолковал я на жаргоне таксистов.
– И все?
Я кивнул.
Он умчался вниз по лестнице.
Я хотел есть, просто умирал с голоду. Можно было постучать к Линде, но она, скорее всего, уже ушла в библиотеку. Странное дело: мне проще было попросить Калажа сбегать за меня в место, где он не бывал ни разу, чем Линду, свою соседку, которая прямо сейчас стояла у тех самых полок, к которым я отправил Калажа.
Вернулся он через полтора часа. Принес пакет из оберточной бумаги, промчался с ним прямо на кухню – пакет того и гляди грозил протечь – и вывалил содержимое в салатницу. Дюжина с лишним куриных крылышек. Красота. Из еще одного кармана он извлек бутылочку пива. Потом – длинную череду бутербродиков.
– Сказал официантке, что ты умираешь с голоду, а прийти не можешь.
– Она же меня не знает.
– Малорослый, еврейский нос, вечно с книжкой под мышкой – прекрасно она тебя знает. С приветом от нее.
– А книги?.. – начал было я, опасаясь худшего.
Тут сердце у меня вдруг упало. Он начисто забыл про книги!
– Да, книги… – начал было он. – Некоторые из тех, которые тебе нужны, я не нашел… вот, взял вместо них эти.
Еще одно подражание Харпо. Из бессчетных карманов выцветшей камуфляжной куртки он вытащил шесть книг.
– Неплохо, – похвалил я, глядя на заглавия. Книги оказались дельные. Потом я глянул на форзац, и сердце упало вновь.
– Ты их не зарегистрировал!
– Ну да, видишь ли, это трудновато оказалось. Очередь была длинная, они задавали очень сложные вопросы, а щасливый час почти закончился, не хотелось опаздывать. Я положил книги в карманы и решил, что пойду. Никто ничего не видел, честное слово.
Я был в ужасе. И в восторге.
– Ладно, а теперь работай. Дашь мне какие книги почитать? Я все не сплю по ночам.
Я дал ему Сада, Мопассана, Бальзака и Стендаля.
– Bonne soire.
Он исчез.
Я столько времени думал про назначенную на следующее утро встречу с Ллойд-Гревилем, что она утратила контуры реальности, как бы навсегда поселилась в будущем. Я решил отпечатать свои заметки, полагая, что, если перенести на бумагу, что я думаю про Чосера, мысли лучше закрепятся в голове. Вот только для меня стало полным откровением то, что в голове нет ни единой интересной мысли про Чосера. Ллойд-Гревиль захочет говорить про «Троила и Крессиду» или «Рассказ рыцаря», а мне бы куда интереснее было про «Рассказ про сэра Топаса», где Чосер подшучивает над самим собой как над совершенно никчемным болтуном, которого в итоге прерывает трактирщик, велит ему закрыть рот, потому что паломникам до смерти надоели его дурацкие байки. Чосер как антинарратор: не мысль, а золотая жила. К 11 вечера я понял, что ушел в слишком глухую несознанку и полностью перестал понимать, что имею сказать касательно Чосера. Мне так и слышались слова Ллойд-Гревиля: «Каковы вкратце ваши соображения касательно “Книги герцогини”, сэр?» Это галльское «вкратце» Ллойд-Гревиль наверняка подцепил у Генри Джеймса, по которому тоже являлся специалистом. «Я имею сказать… в общем, видите ли, джентльмены…» – и тут я вдруг разглядел всю свою подноготную. Как и нарратор в «Записках из подполья», я был чванливым бестолковым заносчивым параноидальным бессмысленным капризным фатом. Как и он, я непрестанно лицемерил, даже наедине с самим собой, когда никто не слушал, даже когда я нашептывал самому себе вещи правдивее всякой правды – и это было уже и вовсе несносным лицемерием.
Я понятия не имел, какие у меня возникнут соображения по поводу «Книги герцогини», однако чем больше я писал, чем больше идей переносил на бумагу, тем сильнее нуждался в том, чтобы страница сообщала мне, что я пытаюсь сказать. Пытаюсь сказать? Я сам не знал, что я пытаюсь сказать, пока не скажу что-то, что покажется сносным всем Ллойд-Гревилям и Чербакоффам на этой планете. Если им сойдет, и мне сойдет тоже. При этом мысли мои на бумаге выглядели такими же зыбкими и неприкаянными, как я сам в Гарварде, в Кембридже, на этой планете. Я сам и мои мысли были, подобно Калажу, пустой болтовней. А хуже всего то, что я не мог уловить разницы между мыслью и ее злокачественным двойником – пустозвонством.
Около часа дня снова зазвонил телефон. Я снял трубку, даже не подумав.
– Я не прошу тебя ко мне приехать. Можно я сама приеду? – звонила персиянка, ей нужно было со мной поговорить.
– Я не один, – слукавил я.
– Уже кого-то подцепил? Браво, – отчеканила она и тут же разъединилась. Через несколько минут перезвонила: – Просто хотела тебе сказать, что никогда не встречала другого такого гада. А гадов я встречала немало.
– Большое спасибо. – Моя очередь бросать трубку.
Она позвонила опять.
– Я сказала неправду. Я никогда не любила таких прекрасных людей. Вернись, прошу тебя. Или я возьму такси и буду рыдать с мольбой у тебя под дверью.
– Я сейчас не могу говорить.
– А, ну конечно. Готов к завтрашнему утру?
– Пока нет, – ответил я, думая, что она меняет тему разговора, чтобы сохранить хотя бы видимость сдержанности, а еще, видимо, чтобы испортить мне удовольствие, если я в этот момент его испытываю. Я ошибся.
– Выслушай меня, месье Чосер, имеющий «Принцессу Клевскую». Хорошо бы он разорвал тебя на клочки и показал всему свету, какой ты недалекий и бездарный petit con[23], каким ты всегда и был, даже в постели, причем там особенно. Проклинаю тебя и твоих детей, если им, бедолагам, достанется такой отец. Проклинаю тебя – слышал? – проклинаю!
А потом – поток слов на фарси, слезы, всхлипы, за ними – бесконечная череда французских слов, с рыданием вырывавшихся из легких, как будто говорила она не со мной, своим любовником, а со своей матерью: сперва упрашивала, потом вновь проклинала, потом извинялась за проклятия и проклинала по новой. «Проклинаю тебя». Как с ней бывало и раньше на высочайших пиках страсти, она заговорила на языке Старого Света, и если сердце мое неслось вскачь, пока она одно за другим обрушивала проклятия и на меня, и на детей моих детей, то было это лишь потому, что и я тоже был родом из мира, где проклятия, как и благословения, как и клятвы, как любые заверения в вечной любви, служили – даже если ты нес полную околесину – законными платежными средствами, валютой души, потому что, произнеся такие слова, их уже не возьмешь обратно, не обнулишь, не оспоришь. Они тебя выследят, изловят и приведут приговор в исполнение.
В ту ночь я не спал. Не мог. Встреча с Ллойд-Гревилем и проклятия прогнали бы сон от кого угодно. Я пересек черту и очутился в лагере для прокаженных – среди проклятых. Теперь – ни искупления, ни прощения. Придется отмотать срок проклятия сполна. Что до моих квалификационных экзаменов, они были прокляты задолго до моей с ней встречи, еще до Калажа, до того как я подал заявление в Гарвард, – все началось как фантазия, а потом я и глазом не успел моргнуть, а фантазия уже пересекла черту и просочилась в явь – и теперь проживала срок, куда больше ей отведенного.
Я пошел на кухню и решил заварить самый крепкий кофе, какой у меня был. На то, чтобы соорудить большую чашку эспрессо, требовалось десять минут – но я отчаянно нуждался в перерыве. Впереди пять часов: за это время успеть можно. Кофейничек для эспрессо остался грязным с последнего раза, когда я им пользовался. Кажется, было это в мае. Однажды вечером зашел в гости мой друг Фрэнк, посетовать на свою подружку, которая постоянно нудила, что он ничего не делает с тем, что начал лысеть. Клод – он в тот вечер тоже был с нами и никогда не любил выслушивать амурные тирады Фрэнка – прервал его, как прерывал всегда, стоило Фрэнку заговорить про Нору, и объявил, что нам нужно еще куантро, чтобы сдобрить кофе. Мы заварили три чашки, потом еще три. В итоге перешли на вино, а там Фрэнк предложил что-нибудь нам всем состряпать у меня на кухне. У меня были только яйца и томатный соус. А сыра никакого? – осведомился он. Тертый пармезан. «Сейчас сооружу ужин», – заявил он, обнаружив невскрытую упаковку макарон.
Мне было мерзко одному в квартире, но было приятно вновь оказаться в одиночестве. И тут внезапно – и опять же в связи с кофе – я вспомнил тот день прошлой зимы, когда вернулся из Библиотеки Уайденера с несколькими книгами и, войдя в квартиру, обнаружил, что повсюду горит свет, а Фрэнк с Норой накрывают на кухне стол на нас троих. «Ты дверь забыл запереть, вот мы и вошли и принесли поужинать. Ты дверь, что ли, вообще никогда не запираешь?» – осведомилась Нора. «Иногда запираю. Да и что здесь воровать?» – откликнулся я. «И верно», – согласились они. Диван, кровать – по сути, вся моя мебель была собрана с улиц Кембриджа – и все это знали. Даже тарелки, кружки и парусиновые стулья перешли по наследству от друзей моих друзей, уехавших из Кембриджа. Собственного моего здесь ничего не было. За квартиру я платил помесячно, без долгосрочного договора. Ключом пользовался только одним – от почтового ящика. Фрэнк купил в тот вечер готовую лазанью и теперь старательно ее разогревал. В тот вечер я любил их обоих. Впервые такое почувствовал. Вот почему тот вечер, когда я, шагнув в собственную квартиру, обнаружил, что неизвестные зажгли свет в моих комнатах и чувствуют в них себя как дома, стал для меня одним из самых счастливых и памятных в Гарварде. Лампы, друзья, вино, лазанья, кофе.
В это утро кофейник не хотел открываться. Я брякнул им о кухонную столешницу. А потом, чтобы выкинуть слежавшуюся гущу, открыл заднюю дверь, поднял крышку мусорного бака на своей лестничной площадке и легонько постучал по ней металлическим фильтром, раз, другой. Тут же открыла свою дверь соседка.
– Ты стучал? – спросила она.
– Нет, – ответил я и извинился за шум. – Просто вытряхивал кофейную гущу, – добавил я, показывая ей фильтр в доказательство того, что не вру. – С тех пор как я варил в этой штуке кофе, сто лет прошло.
– А, – сазала она. А потом, поскольку я так и стоял: мне неудобно было закрыть свою дверь раньше, чем она закроет свою, – она поинтересовалась, чего это я встал так рано.
– Работаю, – пояснил я. – А ты чего?
Она улыбнулась, что тоже работает.
– Занятное дело, – добавила она. – Я случайно увидела у тебя свет вчера поздней ночью и все думала, что там с тобой.
Это такой способ сообщить мужчине, что она о нем мечтала?
– Что именно думала?
– Так, ничего.
– Хорошее или плохое?
– Да вообще ничего особенного.
Я специально не закрывал дверь, хотя она своей позой показывала, что сейчас закроет свою.
– Скажи, когда мы встретимся в следующий раз.
Я все не подавал сигнала, что сейчас закрою дверь. Просто стоял, держа в каждой руке по фрагменту грязного кофейника.
– Итак, ты обещала.
Она улыбнулась, но ничего не ответила, и по тому, что она не ответила, я сразу понял, что она видела, как я ухожу наверх с Линдой, и что она наверняка откроет дверь своей кухни как минимум дня через три, если только она не подобие принцессы Клевской, то есть вовеки больше не станет ее открывать, оставшись одна на кухне, именно потому что умирает от желания ее распахнуть. А далее – если она действительно подобие принцессы – она расскажет своему дружку не о том, чем тут занималась однажды в середине дня, пока он был на работе, а я постучал и попросил дать мне взаймы, скажем, штопор, а что она намеренно отказалась открывать мне кухонную дверь, поскольку знала, что стучу именно я, и не верила в свое благоразумие.
К десяти утра я отправился на встречу с Ллойд-Гревилем, бодрый и воодушевленный, причем не потому, что чувствовал себя готовым обсуждать Чосера, а из-за того, что случилось в этот день в пять утра. Возможно, именно по причине моего необычайно приподнятого настроения я так или иначе смог убедить Ллойд-Гревиля, что совершенно готов к пересдаче экзаменов в грядущем январе. Когда я выходил из его кабинета, он передал мое личное дело Мэри-Лу и произнес: «Наш друг мог бы, если бы захотел, написать диссертацию о Чосере». Ллойд-Гревиль всегда был скаредно скуп на похвалу: предпочитал комплименты по касательной, передавал их через вторые руки, а сам на вас даже не глядел. Я отправился домой, отключил телефон и нагишом рухнул на свою постель, залитую светом солнца.
4
Бабье лето все не кончалось, хотя сентябрь уже сменился первыми числами октября. Утра стояли студеные, но к полудню воздух согревался, потом раскалялся, а после остывал снова. Эрзац-погода – так высказывался Калаж. И кого это удивляет? Все в этом городишке фальшивое, поддельное, подложное, жульническое, контрафактное. Contrefaon, произносил он, имея в виду, что в Америке куда ни глянь – везде контрафакт. Мне же нравилась эта затянувшаяся иллюзия весенней погоды, когда предвкушение лета странным образом дотянулось до самого конца, до первых дней осени. Я возвращался мыслями к весенним каникулам, когда до лета еще было много недель. Вспоминал конец учебного года. Я тогда составил списки книг, которые нужно было прочитать или перечитать, и как раз открыл для себя террасу на крыше. Мои друзья Фрэнк и Клод еще никуда не уехали, да и Нора только собиралась в Европу. Нора, если не торчала у Фрэнка, иногда приходила и готовила нам на двоих цыпленка по-корнуолльски – при том что мы оба знали, что на самом деле она явилась поплакаться мне, как тяжело жить с Фрэнком и как ей не терпится ненадолго от него избавиться, – поэтому они и постановили, что на лето станут разъезжаться. Затея с цыпленком по-корнуолльски и полулитровой бутылкой вина всегда завершалась слезами. Однажды вечером мы поехали в Бостон посмотреть «Энни Холл». Она весь фильм смеялась: я никак не мог понять почему и в итоге пришел к выводу, что Фрэнк, видимо, прав, она немножко ку-ку. Мне и в голову не пришло, что я еще просто не понял юмора Вуди Аллена. До Калажа – как я теперь сознавал, воскрешая в памяти те весенние дни, – еще оставалось жить несколько месяцев, он как бы еще не родился. Иными словами, было время, когда Калаж еще не ворвался в мою жизнь и не переиначил ее ритм. Я пытался восстановить этот сбитый ритм, но, похоже, не очень хотел, хотя двигаться дальше по этой дорожке, из кафе в бар, снова в бар и в кафе, казалось мне, как ученому, непредставимым. А теперь непредставимым мне казался Кембридж без Калажа. Тем не менее после часа, проведенного у Ллойд-Гревиля, я начал вновь обретать уверенность в себе, а вместе с уверенностью и былую любовь к науке, к Кембриджу и к той жизни, которую он передо мной открывал.
Получив временное ободрение от Ллойд-Гревиля, я стал чаще возвращаться в Лоуэлл-Хаус. Мне нравилось ходить туда почти ежедневно. Нравилось, что у меня есть свой кабинет, где можно принимать студентов и обсуждать их работы. Нравились и новые студенты. Все магистранты по истории и литературе оказались сверх обычного толковыми и начитанными, большинство говорили как минимум на одном иностранном языке. У студентов завелась привычка дожидаться меня после обеда под дверью кабинета. Мы беседовали о книгах, которые они собирались прочитать, составляли списки, болтали, говорили о жизни, что неизменно означало либо секс, либо отсутствие секса. С одной студенткой я обсуждал тему ее дипломной работы, которую, в принципе, уже выбрали в начале мая, прежде чем она уехала в Европу. Прошло пять месяцев, она сильно загорела, увереннее говорила по-французски и очень хотела поехать в Париж на Рождество. Я не видел парижского Рождества уже лет десять. Иногда я проводил у себя в кабинете консультации или приглашал кого-нибудь на кофе после обеда, и не было ничего лучше, чем ощущать себя снова на одной волне со всеми остальными обитателями Кембриджа, смотреть в окно на главный двор, где, когда переваливало за полдень, студенты и молодые тьюторы торчали часами, развалившись на пляжных полотенцах, читали и учились, будто нет у них иных забот в мире, над ними величественным дозорным взметалась колокольня с синим куполом, за ними заботливым взглядом следило это уютное поместье, райское местечко по имени Лоуэлл-Хаус. Для каждого из них Гарвард на несколько лет поставил заслон от мира и сам сделался миром.
Калажу в этом мире места не было, но я прекрасно знал, что он так или иначе в него вторгнется.
Через несколько дней после встречи с Ллойд-Гревилем я столкнулся с Калажем в кафе. Он сказал, что по-прежнему плохо спит. Вновь он пребывал – в те дни это случалось часто – в скверном настроении, даже сквернее, чем в прошлый раз. Могу я ему сделать одолжение? Разумеется. Нужно, чтобы я сходил с ним к адвокату. Завтра утром? Да, получится, ответил я. А он договорился о встрече? А оно надо?
– К адвокату нельзя являться просто так, нужно записаться заранее.
– Ну и? Позвони прямо сейчас и запишись, – предложил он.
Но шел уже седьмой час, адвокат наверняка закончил работу.
– Все равно позвони, – распорядился он и извлек номер из своей записной книжечки, предварительно сняв с нее резиновое колечко. Мы позвонили – точнее, позвонил я.
Адвокат трубку снял лично.
Я не успел попросить о встрече, потому что Калаж прервал меня по-французски и осведомился, не может ли адвокат принять нас прямо сейчас.
– А сейчас можно приехать?
– Под «сейчас» вы имеете в виду «прямо сейчас»? – уточнил адвокат, и голос его взмыл, демонстрируя, что мысль совершенно бредовая.
– Maintenant? – осведомился я у Калажа в надежде, что он передумает.
– Oui, maintenant, – подтвердил он.
– Сейчас.
Голос на другом конце заколебался.
– Если честно, я собирался домой.
Я шепотом передал это Калажу. Он тут же прижал указательный палец к губам, имея в виду: ничего не говори. Это было эквивалентом музыкального fermata, стратегическое затягивание звука, только на месте звука сейчас оказалось молчание, просчитанное молчание человека, который только что бросил пенни на стол и дожидается, когда вы сделаете то же самое, прежде чем снова поднять ставку. В этом была самая суть задержки. Задали вопрос – и больше ни слова; выложили фишку на стол – не добавляйте еще одну просто потому, чт другой игрок заколебался или потому что ваше общее молчание сделалось вам невыносимым.
– Вы когда сможете приехать? – спросил адвокат.
Я вновь прошептал по-французски: сколько, по его мнению, у нас уйдет на дорогу?
– Десять минут.
Я опешил. Обычно на дорогу туда из Кембриджа уходило как минимум в три раза больше.
– Поторопитесь.
Калаж встал, проглотил остатки кофе, оставил мелочь на столе, собрал свои пожитки, и мы вышли. Тут же запрыгнули в его машину, и после нескольких неловких поворотов в узких переулках у реки его огромный таксомотор – танк, «Титаник», БТР, несокрушимая боевая машина – на головокружительной скорости полетел по Мемориал-драйв с колченогой грацией дряхлой вдовствующей императрицы на колесах.
В жизни я не ездил так быстро. Мы просто напрашивались на аварию. Какого черта я сдружился с этим ненормальным?
– Ты где учился водить? – спросил я, тем самым умоляя его ехать помедленнее.
– В автошколе у одного тунисского еврея в Марселе. Именно поэтому из нас получаются лучшие летчики в израильских ВВС – а то не знал? – пошутил он.
Дверь в свою фирму на двадцать шестом этаже нам открыл сам адвокат. «Сюда, джентльмены». Воротник его рубашки в бело-синюю полоску был расстегнут, рукава закатаны выше локтей. Этот человек, просигналил мне Калаж, вовсе не собирался домой.
Мы вошли в кабинет с видом на гавань. С такой высоты Бостон казался волшебным. Мы оба, видимо, ахнули, как ахают нанятые официанты, когда впервые заходят из кухни богатенького поместья в парадную столовую.
Свои реплики мы отрепетировали в машине. Калаж хотел, чтобы я не столько переводил, сколько читал между строк, извлекал смысл, истолковывал, перехватывал в речи адвоката суть того, что он оставляет несказанным. В этом, как и во всем на свете, он желал complicit[24]. Адвокат закинул обе ноги на стол, вытащил свеженький деловой блокнот, зубами снял колпачок с ручки и поместил разлинованный блокнот себе на ляжку, как бы говоря: Итак, я вас слушаю.
– Жена Калажа подала на развод, – сообщил я.
Кивок, опять кивок, в смысле: А это кого-то удивляет? Адвокат закурил гигантскую пенковую трубку.
– Они не живут вместе уже два с лишним месяца. Он ютится в съемной комнатушке в Кембридже. Вопрос такой: повлияет ли это на его шансы получить грин-карту?
Кивок, опять кивок адвоката, в смысле: А вы и правда думали, что не повлияет?
– Если они оба согласятся пройти интервью до того, как будет запущен процесс развода, поможет ли это?
Кивок, опять кивок. Может, и поможет.
– Можно ли как-то ускорить процесс, чтобы успеть до начала процедуры развода?
– Можем попросить назначить интервью пораньше, но торопить сотрудников Иммиграции – дурацкая затея. У них сразу возникают подозрения. И должен вас предупредить, что людей, которых подозревают в двойной игре, депортируют. – Молчание. – А почему она подает на развод? – поинтересовался он, будто бы из чисто личного любопытства.
– Pourquoi veut-elle divorcer? – Калаж понял вопрос, но я решил подчеркнуто его переспросить. Он прошептал несколько слов по-французски.
– Она обвиняет его в неверности.
Кивок, опять кивок. Ни фига ж себе.
– Ну, джентльмены, могу пообещать одно: запрошу, чтобы интервью перенесли на более раннюю дату.
Калаж не попросил о переводе.
– Его отец в Тунисе болеет. Ему необходимо уехать на десять дней из США.
– Не советую.
«Il se fout de notre gueule, ou quoi? Он нам хрень всякую несет или как?» – прошептал Калаж. После чего обратился к адвокату:
– Ну спасибо. Да, кстати, – добавил он, поворачиваясь к ряду портретов в рамках, висевших на стене, – тут все не так.
Адвокат бросил недоверчивый взгляд на свои фотографии чемпионов в тяжелом весе.
– Не Карнера, Баер, Брэддок, Шмелинг, Луис, Чарльз, Марсиано, – сказал Калаж. – Было так… – список он продекламировал наизусть, как любой школьник-француз способен продекламировать басню Лафонтена: – Уиллард, Демпси, Таней, Шмелинг, Шарки, Карнера, Баер, Брэддок, Луис, Чарльз, Уолкот, Марсиано, Паттерсон, Йохансон, Листон, Али.
– Ух ты. Придется проверить. А каталог Кехеля он тоже наизусть помнит? – с иронией в голосе осведомился адвокат, поворачиваясь ко мне.
– Нет, он не любитель Моцарта, но, если вы его спросите, он вам расскажет, почему в воздухе висит совершенно особый запах аспарагина, если вы поели спаржи, а потом пошли писать.